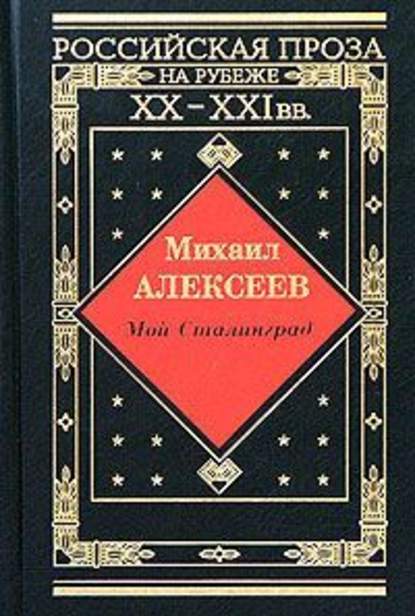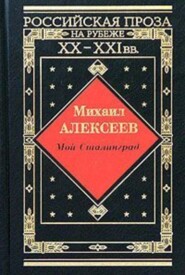По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Драчуны
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Да, дорогие папаши, исключить! – повторил Иван Павлович строже, хороня усмешку под правым, чуть шевельнувшимся усом. Сделав паузу, в течение которой напряжение в классе приблизилось к критической отметке, закончил: – Для начала – из пионеров. А там посмотрим…
Такой оборот дела скорее успокоил, нежели расстроил наших родителей, но зато испугал нас с Ванькой, да так, что мы разом, точно нам кто скомандовал, дали реву – куда только подевалась наша гордыня?! Стоявшая позади и не принимавшая никакого участия в судилище Мария Ивановна положила руки на наши плечи и, скрывая от всех свои покрасневшие и увлажнившиеся вдруг глаза, быстро увела нас в свою комнату, где постаралась успокоить:
– Это он так… чтобы припугнуть маленько. Никто вас не исключит из пионеров. Вы ведь не будете больше драться? Не будете, да?
Мы не были уверены в этом, а потому и отмолчались.
– Негодники, – сказала Мария Ивановна с ласковой, материнской грустью и, сунув каждому по леденцу, легонько подтолкнула к двери: – Ступайте домой и готовьте уроки. Эх, вы, драчуны!
Выскочив на улицу, мы обменялись оплеухами и, погрозив еще друг дружке кулаками, опрометью понеслись, «залишились» в противоположные стороны: я в направлении Непочетовки, Ванька – своего Хутора. Отбежав с полверсты, я вдруг вспомнил об одном удивившем меня явлении: посылая вслед мне угрозы, составленные из многих порицательных слов, Ванька вполне обходился без шепелявости. Когда и как он успел избавиться от этого изъяна в своей речи? Не повзрослел ли он на пару лет после нашей горячей схватки? Говорят, от сильного потрясения нормальный человек может стать заикой, а заика – нормальным. Не это ли самое происходит и с шепелявыми? Во всяком случае, я отчетливо различил в Ванькиной бранчливой словесной очереди звуки «с» и «з», каковые еще позавчера превращались у Ваньки в «ш» и «ж». Отлепится ли теперь от него прозвище Шепелявый? Я не хотел, чтобы это случилось, и решил про себя, что буду по-прежнему дразнить его этой кличкой, – пускай злится, так ему и надо. И я заорал что есть моченьки:
– Шепелявый-ы-й!
Голос мой, похоже, достиг Ванькиного уха, потому что в ответ я услышал отдаленное:
– Челябинский!
Это уже было мое прозвище. Обязан им я своей матери, которая, навестив мужа, служившего тогда в этом южноуральском городе, «привезла» меня оттуда, к вящему неудовольствию свекрови, отговаривавшей сноху от такой поездки. Бабушка Олимпиада, или Пиада, как звалась она в нашем доме, настойчиво твердила: «Не езди, Фросинья! Есть у тебя троица, привезешь четвертого. Нас и так вон сколько на одной дедушкиной шее! Не езди, ради Христа!» Сноха заупрямилась, и в результате явился на свет Божий я, Мишка Челябинский-Хохлов. Хохловыми нас звали все в Монастырском, потому что моя прабабка Анастасия, Настасья-хохлушка то есть, была привезена моим прадедом Николаем Алексеевым, участником Крымской кампании, откуда-то с Украины, кажется, с Полтавщины. Я хорошо помню эту крупную и ласковую старуху, вокруг которой мы, ее многочисленные правнуки и правнучки (три невестки в доме не теряли времени попусту и быстро наполнили пятистенку детворой), вертелись, как цыплята возле клушки. «Шоб вам повылазило!» – покрикивала она, улыбаясь при этом всем своим широким, мягким лицом, освещенным хорошими голубыми глазами, – в девичестве их, наверное, называли очами. Прабабка Настасья-хохлушка пережила бабку Пиаду, пережила бы, может быть, и своего единственного сына, а нашего дедушку Михаила, если бы не теленок, который, боднувшись, сшиб со щеки старухи большую родинку, делавшую ее лицо еще добрее и ласковее для нас, ее правнуков. «Приключился рак у Настасьи-хохлушки», – услышал я однажды от соседей, ничего не поняв из этих слов и все-таки страшно испугавшись. Вскоре на месте, где была родинка, появилось какое-то большое, величиною с медный пятак, пятно, сменившееся маленькой дыркой, через которую вытекало молоко, когда прабабушка пила его из медной кружки. Настасью-хохлушку любили на селе, и, когда она померла, на похороны пришло множество людей, столы для поминок пришлось ставить во дворе, и весь двор, помнится, был пропитан пряным духом лаврового листа и укропа. Нас, детвору, усадили за эти столы в третью, последнюю, значит, очередь, и я был горд до чрезвычайности, что все это происходит у нас, что я тут хозяин и могу посадить Ваньку Жукова рядом с собой, а Яньку Рубцова – где-нибудь подальше. Поминки (а они в большой нашей семье были не редкость) воспринимались мною как праздники, и самый яркий из них, пожалуй, был вот этот – по случаю смерти прабабушки.
В кличке Челябинский ничего обидного вроде и не было, но я все-таки очень злился, когда слышал ее. Ванька знал про то, а потому и швырнул ее мне вдогонку. Я во второй раз запустил в него «Шепелявым», но этот снаряд, по-видимому, уже не достиг цели. Должно быть, мой бывший дружок к этому моменту находился в «сфере недосягаемости».
Между тем на школьном собрании, проходившем под председательством Ивана Павловича, было принято решение, из которого следовало, что считать зачинщиками надобно нас обоих, а меру взыскания должны определить родители. Но поскольку они уже «взыскали» с нас, не дожидаясь этого решения, а за один проступок двух наказаний не выносят, то мой и Ванькин отцы, посовещавшись немного еще меж собой, пришли к заключению, что для младших сыновей действительно хватит и тех «чертей», которых они уже им «всыпали».
От школы Николай Михайлович и Григорий Яковлевич какое-то время шли вместе, пока на перекрестке двух улиц, Садовой и Завидовской, не расстались. Шли и мирно калякали. Про нас же было сказано то, что и должно: «Ребятишки, чего с них возьмешь. Подерутся и помирятся. Только и делов!»
– Заглядывай, Миколай! – сказал на прощание Григорий Яковлевич.
– Загляну как-нибудь. Да и ты мимо-то не проходи. Заглядывай. Восейка мельник завернул ко мне. Просит навестить его. Может, вместе прокатимся в следующую субботу. Как ты?
– Да я что ж… С удовольствием!
Все как будто чин чином, но ни мой, ни Ванькин отец почему-то так и не «заглядывали» друг к другу, и к мельнику Николай Михайлович отправился один, не сделав ни малейшей попытки прихватить с собой «Гришку Жучкина», как называли его за глаза. Не заглядывал к Жуковым и мой средний брат Ленька, хотя до этого дружил с Федькой, который почти на равных мог сыграть с ним и в козны, и в карты – достоинство, конечно, редкое, и брательник мой не мог не ценить его. Сейчас и эта дружба распалась. Что касается матерей, то их ссора началась на следующий день за нашей. Узнав о драке возле школы все от того же отца Василия, мама моя, побросав все домашние дела (а их у нее было «сэ-столько», то есть великое множество), тотчас оказалась у подворья Жуковых, и началась ее перепалка с Ванькиной матерью. Перестрелка, как и водится меж бабами на селе, велась через плетень, превращавшийся в таких случаях в баррикаду; мама начала с того, что без всяких предисловий объявила:
– Эт, Веруха, твой все натворил! Баяла я своему дурачку: не водись ты с этим разбойником Жучкиным! От ихней породы жди одной беды. Руки ваших сынков, Веруха, то в драку, то в чужой карман тянутся. Знам мы, какие они… Не дай и не приведи Господи!..
Веруха вскинулась:
– Эт за што же ты, Фросинья, нас страмотишь?! А?.. Што мы исделали такова, штобы слышать твои поношения?.. В чьи это карманы мы залезли?.. А?.. Да как же тебе не стыдно, Фросинья? Ты бы лучше за своим сопливым надглядывала. С виду-то он у тебя тихоня, а вреднющий страсть какой. Послушала бы, што сказыват о нем ваш шабер отец Василий. Ведь житья от ваших Леньки да Мишки ему нету!.. Все постащат и в саду, и в огороде, подлецы!.. А Мишке, щенку свому, передай, штобы и ноги у нас его не было!..
– Нашла чем стращать! Он и сам ни в какие веки не придет к твоему душегубу. Плевать ему и на вас на всех!
– А ты бы не плевала в чужой-то колодезь, как бы не пришлось напиться из него. Убирайся подобру-поздорову от моего дому, а то… не ровен час… – Ванькина мать недоговорила – только послала в сторону моей матери звучный плевок и шмыгнула в сени, громыхнув дверью так, что с оконных стекол посыпалась старая замазка, а куры с паническим кудахтаньем покинули завалинку и разлетелись по всему двору. Мать моя что-то еще выкрикнула, но голос ее был начисто потерян в переполошном курином гвалте.
Исходя благородным гневом, Ефросинья Ильинична всю дорогу к своему дому продолжала поругивать Жуковых, и так громко, чтобы вняли ей другие бабы, которые, заслышав перебранку, тоже приостановили свои дела, радуясь в душе, что подвернулся для этого подходящий случай. В эту минуту и они, верно, решали, какую сторону принять – Фросиньину или Верухи. Не в обычаях деревенских женщин оставаться безучастными в подобных обстоятельствах. Одна уже успела определиться, выкрикнув:
– Право слово, эт он, Ванька, и заварил кашу!
Другая возразила:
– Ты б, Акулина, повременила со своим приговором. Мишка, хохленок энтот, тоже не даст спуску. Он младшенький у Фросиньи – вот она его и балует. Его бы сечь надо кажный божий день!..
– А ты, Матрена, секи уж своих, а на чужих не замахивайся!
– Я не замахиваюсь. А так только говорю. К слову пришлось, – примирительно ответила Матрена и, махнув рукой, скрылась в глубине своего двора. Оттуда и закончила: – Нечистый их разберет, кто из них правый, а кто виноватый!..
Поприбавилось супротивников и у моих, и у Ванькиных друзей. Оказавшись по разным причинам в Непочетовке или на Хуторе либо в местах, тяготеющих к этим улицам, они так же, как и мы, действительно грешные, бывали жестоко биты ребятами, какие еще недавно являлись не только Ванькиными или моими, но и их приятелями. Теперь те и другие затевали меж собой драки отдельно от нас, автономно, так сказать. Отпочковавшись от наших, они, эти их стычки, приобретали как бы самостоятельное значение и по накалу ничуть не уступали нашим. Не надо забывать, что у всех этих ребят (на девчонок наши распри почему-то не распространялись) были отцы, матери, братья, которые если б и захотели, то вряд ли долго оставались бы нейтральными. Наш Ленька, например, успел уже несколько раз сцепиться с Федькой без всякого участия с нашей (моей и Ванькиной) стороны. Ночью, прижимая меня поплотнее к своему разгоряченному, не остуженному еще после схватки телу, шептал мне на ухо хвастливо: «Ну, я ему всыпал – долго помнить будет!» Из этих слов можно было заключить, что сам-то Ленька вышел из боя целехонек, но перед утром, ни свет ни заря, вскакивал как ужаленный с постели и убегал из дому.
Ясно, Ленька не хотел, чтобы мы приметили на его лице следы ночного сражения.
Не вмешивались в наши дела лишь старший брат Александр, оставивший за Ленькой право защищать меня, и сестра Анастасия. Они и раньше не ходили к Жуковым, потому что в их семье не было для моего старшего брата и сестры ровесников. Настя к тому же заневестилась: у нее были свои заботы, куда серьезнее наших.
Но так ли уж они были несерьезны, наши дела? Утраты и потери, о которых сказано мною лишь мимоходом, с течением времени делались ощутимее. И далеко не для одних нас с Ванькой. Только никто либо не хотел сознаться в этом, либо не мог отдать ясного отчета. И недобрые круги разбегались по селу, как разбегаются они по воде от брошенного кем-то ради баловства камня, захватывая в свою орбиту все большее число действующих лиц. Бросивший же этот камень человек давно позабыл, что он его бросил, как забывается оброненный кем-то непогашенный окурок, от которого занялся большой пожар.
5
Для меня (думаю, что и для Ваньки Жукова тоже) помянутые утраты были особенно заметны при смене времен года и делились как бы на равные доли, ограниченные понятиями зимы, весны, лета и осени. Зиму мы ждали с не меньшим вожделением и нетерпением, чем, скажем, весну или лето. И не только потому, что дети вообще не любят постоянных величин: быстро меняющиеся с возрастом, они требовали того же и от окружающего их и только что открываемого ими мира. Потому-то простая перестановка мебели в избе либо немудрящая новая постройка во дворе (подправленный ли плетень, свежая верея у ворот, даже возведенная посередь двора конусообразная и дымящаяся, как Везувий, навозная куча), появление с началом зимы телят и ягнят приводят малышей в неописуемый восторг, часто непонятный взрослым, которые, однако, не могут не умилиться от этой наивной и светлой детской радости. Времена года тем и хороши, что несут с собой обновление, всегда созвучное открытой детской душе.
У зимы было немало такого, чтобы мы, ребятишки, поторапливали ее с приходом. Тут тебе и катанье на коньках, на санках, тут и снежки, и просто кувырканье в сугробах, и поездка с отцом в лес за дровами по первопутку, когда полозья почти неслышно скользят по мягкому ослепительно белому, с рафинадной подсинькой, снежному полотну, а легкие снежинки невесомо усаживаются на твой нос, щекочут его и заставляют громко чихать, а Карюхины недавно подкованные копыта чеканят большие снежные медали и бросают их в седоков, как бы в ответ моему отцу, который «пошевеливал» кобылу кнутом чаще, чем ей бы этого хотелось. А пускание юлы, длинной веретенообразной палки, выточенной из молодой ольхи, под белые курганы, воздвигаемые метелью? А прыганье с крыш, когда к ним карабкаются, подымаясь все выше и выше, снежные валы? А прорубленные прямо в снежной стене пещеры?.. Да мало ли еще чего принесет с собой зима! Мы, ребятишки, готовы были простить ей даже то, что она усаживала нас за парты.
В первых числах декабря окончательно приостанавливала свой бег Баланда. Случалось это всегда лишь ночью. Лед, пока еще очень тонкий, но могущий удержать на несколько секунд таких молодцов, как мы с Ванькой, был еще не пригоден для катания на коньках, но очень хорош, чтобы творить на нем «зыбки». Взявшись за руки, мы быстро бежали, и лед под нами потрескивал, зыбился, горбился, вставал впереди гребнем и, надо было успеть проскочить этот гребень раньше, чем ослабленный нашими многими пробежками лед проломится. Забава опасная (окончившаяся однажды для одного из нас «иорданью», купаньем в студеной воде; могла бы окончиться и похуже, не окажись поблизости мой дядя Иван Морозов, направляющийся по-над берегом реки в церковь), опасная, говорю, забава, но этим-то и приманчивая для нас, инстинктивно чувствующих, что «есть упоение в бою у бездны мрачной на краю». Кто хоть раз в детстве делал эти самые «зыбки» на молодом неокрепшем льду, тот по гроб не забудет наслаждения, испытываемого при этом. Тебе и боязно, и радостно, одновременно, и сердце собирается выскочить из груди, когда бежишь что есть мочи, а под тобой кто-то большой сопит, дышит и шевелится, готовый в любой миг схватить за озорную ногу и утопить в черной холодной пучине. И, собравшись с духом для следующей пробежки, ты говоришь себе, что она будет последней, но Ванька, весь светясь, красный от возбуждения, уговаривает: «Давай ищо разик!» И опять, схватившись за руки, несемся по льду, который к этому моменту из светло-голубого делался уже от бесчисленных трещин сплошь серым и угрожающе податливым.
Еще раньше, чем на Баланде, замерзала вода в наших Кочках (а они – вот они, под рукой!) и в лесных болотах – беспризорных детях, оставленных нерадивыми матерями-реками в пору весеннего разлива и забытых ими до следующего половодья. К болотам мы выходили раньше всего, но вовсе не для катанья. Там нас ожидало занятие не менее интересное, имеющее к тому же практическую ценность. На мелководье, под прозрачным, похожим на хорошо помытое оконное стекло ледком, средь зеленеющих, точно в аквариуме, водорослей и тины, в такое время снует туда-сюда, удивляясь резкой перемене обстановки, разная рыбешка: караси, щурята, линьки и даже более проворные и все-таки не успевшие вернуться в Баланду или Медведицу, окуни. Видеть их живых, юрких, улепетывающих от наших теней – само уж по себе удовольствие непередаваемое. Но ведь этих рыбок можно еще изловить, не прибегая ни к сачкам, ни к бредню, ни к удочкам, ни к иным каким снастям. Для этого Ванька Жуков приобрел где-то небольшой топорик (боюсь, что он «стибрил» его в кузне Ивана Климова: говоря о слабости Ванькиных рук относительно чужих карманов, моя мать не совсем была не права). Приметив подо льдом затаившуюся, замеревшую возле какой-нибудь травинки или осочинки рыбину, Ванька с размаху опускал над нею обушок топора, и тотчас же из маленькой лунки выскакивали то щучка, то карасик, а то и линек. Конечно, речь идет об ударе удачливом, а он даже у Ваньки получался примерно один из десяти. Но и «холостые» не могли огорчать ни Ваньку, ни меня, потому что оставляли после себя множество разноцветных, радужных «петушков» и заливчатый, серебряный звон, кукушечьим учащенным криком разносившийся окрест. «Ку-ку-ку-ку-у-у-у» – катилось по просекам, над оголенными макушками деревьев, над полянами и лугами. Хорошо!
Для катанья же старшие братья мастерили для нас коньки (две чурки, две толстые проволоки, вмонтированные в эти деревяшки, четыре дырки, четыре веревочных шнура для скрепления с валенками, и коньки готовы!), и салазки, и «козлы», похожие на скамейку, но с широкой доской внизу и узкой, с плавными, покатыми вырезами с боков, сверху: нижняя покрывалась ровным слоем свежего коровьего навоза и заливалась на ночь водою, чтобы образовался лед для лучшего скольжения. Оседлав такую скамейку, мы катались на ней с Чаадаевской горы, стараясь ускакать как можно дальше и не упасть при этом, что удавалось далеко не всякому и не всякий раз: гора была длинной, крутой и с множеством перепадов, так что в иных местах «козел» и подскакивал вместе с тобою по-козлячьи – попробуй тут усиди на нем! Но именно эти-то коварные места на горе больше всего и привлекали нас с Ванькой Жуковым. Другие мальчишки не отваживались кататься с Чаадаевской горы, а ежели и катались, то не с ее вершины, а с полгоры. Честно говоря, вряд ли решился бы и я, не будь рядом со мною смельчака Ваньки – с ним пойдешь на любое рискованное дело.
Кататься сразу на двух коньках не умел даже Ванька, и до каких-то пор мы были убеждены, что на двух коньках и не катаются вовсе, пока не увидели на речке саратовского студента Виктора Наумова, сына нашего Ивана Павловича и Марии Ивановны, приехавшего в село на зимние каникулы. Он пролетел мимо нас, оторопевших и ошеломленных, на паре каких-то длинных, сверкающих солнечным блеском железках сперва в одну сторону, потом в обратную, и еще много раз туда и сюда, и, насытившись вволю нашим изумлением и потрясением, сделал несколько сужающихся, как бы окольцовывающих нас кругов. Затем резко остановился, обсыпав наши удивленные рожицы обжигающе-колючей ледяной крупой. Дав нам немного опомниться, прийти в себя, спросил, смахивая с рыжеватых бровей капельки пота:
– Нравятся?
Мы потерянно молчали.
– Хотите покататься?
– Ну их! – испуганно и поскорее ответили мы.
– Ну как хотите! – Виктор Иванович (через год-другой он сам станет преподавателем и какое-то время будет еще учить нас) сделал несколько крутых виражей и в один миг скрылся за поворотом реки, как наважденье.
Зимою охотились на зайцев, не с ружьем, понятно, до которого, не рискуя быть выпоротым отцом, мы и не дотрагивались, а с помощью небольших капканов, поставленных и хорошо замаскированных, припорошенных снежком на заячьих тропах, протоптанных во множестве в садах и огородах. Настораживать капкан без Ванькиной помощи я боялся, потому что мог угодить в него собственной рукой. Ставили тоже вместе, где-то под вечер, когда на снег ложились синие тени и мороз пробирался за пазуху, – шеи наши были всегда открытыми, разве что в лютую стужу матери закутывали их вместе с головою в свои шали. Простуды не боялись, а сопли под нашими носами никого не смущали – ни нас, ни родителей, – поскольку воспринимались как явления неизбежные и само собой разумеющиеся у детей. Они, правда, немного мешали нам, когда, склонившись над заячьей дорогой, мы осторожно подсовывали под снег однопружинный капканчик, делая все, чтобы он не сработал прежде времени – на морозе нам бы не насторожить его вновь и пришлось бы возвращаться для этого домой. Зайцы по большей части тоже были не дураки. Почуяв неладное, не бегали прежними тропами, а проделывали новые, иногда в одном вершке от той, где их подстерегал капкан. Но все-таки бывали случаи (пускай и очень редкие), когда длинноухий все же попадался и выдавал себя пронзительным, похожим на детский, криком. Задыхаясь и от великого волнения, и от бега по глубокому рыхлому снегу, мы какое-то время топтались вокруг зайца в нерешительности. Нужно было изловчиться и ухватить его сразу за обе задние ноги, ибо он может ударить ими по твоему пузу или лицу, как тугой пружиной, и оцарапать в кровь – такое бывало в прошлые зимы. В эту редкую торжественную для нас минуту командование всей операцией брал на себя, разумеется, Ванька Жуков, мне же оставалось слушаться его и исполнять распоряжения. «Я шхвачу жа ноги, а ты жа уши, и шражу в шумку!» – шепелявил он, и по взмаху его же правой руки мы вдвоем наваливались на плачущего зверька и, орущего, вместе с капканом совали в небольшой мешок. Домой возвращались не кратчайшим путем, а околесив чуть ли не все село: надо же было похвастаться добычей. Из всех дворов выбегали ребятишки, наши одногодки и постарше, и просили, чтобы мы развязали мешочек и показали зайца. Мы охотно исполняли эти просьбы, потому что удивленные возгласы ребят подымали нас в собственных глазах, а в глазах сверстников делали настоящими героями. На следующий день в школе, во время переменок, меня и Ваньку окружали и просили снова рассказать, как это нас угораздило изловить такого большого-пребольшого зайца. Мы, перебивая друг друга, рассказывали и вместе со всеми не слышали звонка, который надрывался в тщетной попытке разогнать нас по классам.
Не были мы совсем безучастными и к охотничьим промыслам, которыми занимались взрослые. А они охотились и на того же зайца, и на лисицу, и на хорька, и даже на волка.
Впрочем, охота на серого зимой была монополией только одно мужика в большом нашем селе – Сергея Андреевича Звонарева, доводившегося моей матери дальним родственником. Последнее обстоятельство важно отметить потому, что, поставив большие, именно волчьи, капканы где-то в степи, Сергей Андреевич на обратном пути заходил к нам, высмаркивался шумно у порога, пропускал, сбрасывая снег, большую клочковатую, белую не то от снега, не то просто седую бороду сквозь кулак и молча, по-хозяйски, присаживался к столу, где его уже поджидали граненый стакан самогона и стопа блинов, сдобренных темно-зеленым, густым и душистым конопляным маслом. К этому моменту я уже занимал лучшую позицию на печке, потому что, насытившись, дядя Сергей сперва расскажет, как и где поставил свои капканы нонешней зимой, где ставил в прошлые зимы, каких лавливал волков и что приключалось с ним, охотником, при всех удачах и неудачах, коих, неудач, было несравненно больше. Ежели и привирал, то в меру, допустимую для каждого охотника, тем более извинительную, что сам рассказчик верил в свое повествование беспредельно. Слушать длинные его были, перемешанные с небылицами, я готов (а если случался тут и Ванька, то и он) хоть день, хоть два, хоть целую неделю – так это было интересно. Если кто и тяготился малость от долгого сидения Сергея Андреевича, так это моя мать. Во дворе у нее еще «не поена и не кормлена скотинешка» (секретарствуя в сельсовете, папанька не обременял себя хозяйственными делами, да и времени у него на них не оставалось: с утра до ночи просиживал в конторе и составлял списки дворов кулацких, середняцких и бедняцких, зачем-то понадобившиеся в районе), а покинуть «сродника» в избе одного с детьми она считала неудобным, к тому же рассказчик нуждался в поощрении. Время от времени он умолкал и неуловимым движением подбородка давал знать хозяйке, что пора было уж ей разориться еще на одну «лампадку». Неуловимым его жест был лишь для нас, сидевших на печи. Мать каким-то образом его схватывала и, вздохнув «разорялась» – наливала из четверти еще полстакана. А под конец, видя, что ее гостечек уже поклевывает покрасневшим до синевы носом и плохо управляется с собственным языком, говорила ему: «А не пора ли тебе, Андреич, домой? Там, поди, заждались. А то полезай вон к ребятишкам на печку, погрейся, сосни часик!» Последнее устраивало дядю Сергея больше. С немалыми усилиями оторвав отяжелевшее тело от лавки и расставив для устойчивости толстые ноги, покряхтывая, он медленно подходил к печке. Спрыгнув на пол, Ванька или мой брат Ленька, не меньше нашего любивший слушать дядю Сергея, подталкивал его под зад, а я изо всех сил тянул за руки, и таким образом мы полностью овладевали старым охотником. Нас не огорчало то, что он плел вышедшим из подчинения языком бог знает какую чепуху, ибо вполне устраивало, что знаменитый волчатник находился среди нас и быстро засыпал под музыку своего же невнятного бормотания. Мы знали, что, проснувшись, он попросит у матери на похмелку и, опохмелившись, расскажет еще какую ни то историю из своей богатой на приключения охотничьей жизни.
Ни вьюга, ни лютая стужа, ни метели не могли удержать Сергея Андреевича дома, когда приспеет охота на волка. Время это дядя Сергей определял по каким-то одному ему понятным признакам и приметам. Кажется, начинал расставлять капканы сразу же за Святками, когда заканчивались волчьи свадьбы и отощавшие хищники рыскали в поисках добычи вблизи селений. Нелегкое это дело – определить место для капканов и расставить их в заснеженной степи! Каждый из них весил не меньше трех килограммов, а в общей связке их насчитывалось до дюжины. Расчет у охотника простой: попав в один капкан, метнувшись в сторону, зверь заставит «сработать» и другие и, поскольку какая-то их часть снабжена тяжеленными железными «кошками» – крючками, не сможет уйти далеко от рокового для него места. Загодя сюда привозилась падаль – чья-нибудь подохшая лошадь или корова – для приманки. Капканы припорашивались снегом, пропущенным через кроильное решето, присыпались так, чтобы их не было видно волку, и чтобы он не смог учуять прикосновения к ним человеческой руки. И отступал от них дядя Сергей, пятясь задом, просеивая перед собой снег, чтобы он был похожим на свежую порошу, а заодно и маскировал следы охотника. И всю эту работу Сергей Андреевич производил один. Сын его, хромоногий Костя, помогал отцу лишь «брать» пойманного волка, и только тогда, когда тот оказывался матерым, особенно хитрым, сильным и свирепым. Не ленился охотник, хотя за целую зиму мог поймать одного, ну, от силы двух волков, – это была уж сверхудача.
Позапрошлой зимой пойманный у Дрофева оврага могучий зверь почему-то потащил капкан не подальше куда-нибудь в степь, а к селу, пробороздил дорогу в глубоком снегу через все конопляники, сохранил еще силы для того, чтобы перелезть через плетень нашего огорода, и только зацепившиеся за изгородь капканьи «кошки» не пустили его дальше.
Я тотчас же побежал к Ваньке, сообщил ему эту неслыханную новость, и уже вдвоем с ним мы вернулись на наш задний двор, чтобы поглядеть, как отец и сын Звонаревы будут брать матерого. Дрожь заранее сотрясала нас от пяток до макушек, усиливаясь от того, что мы боялись, как бы взрослые не турнули с огорода и не лишили редкого зрелища.
Такой оборот дела скорее успокоил, нежели расстроил наших родителей, но зато испугал нас с Ванькой, да так, что мы разом, точно нам кто скомандовал, дали реву – куда только подевалась наша гордыня?! Стоявшая позади и не принимавшая никакого участия в судилище Мария Ивановна положила руки на наши плечи и, скрывая от всех свои покрасневшие и увлажнившиеся вдруг глаза, быстро увела нас в свою комнату, где постаралась успокоить:
– Это он так… чтобы припугнуть маленько. Никто вас не исключит из пионеров. Вы ведь не будете больше драться? Не будете, да?
Мы не были уверены в этом, а потому и отмолчались.
– Негодники, – сказала Мария Ивановна с ласковой, материнской грустью и, сунув каждому по леденцу, легонько подтолкнула к двери: – Ступайте домой и готовьте уроки. Эх, вы, драчуны!
Выскочив на улицу, мы обменялись оплеухами и, погрозив еще друг дружке кулаками, опрометью понеслись, «залишились» в противоположные стороны: я в направлении Непочетовки, Ванька – своего Хутора. Отбежав с полверсты, я вдруг вспомнил об одном удивившем меня явлении: посылая вслед мне угрозы, составленные из многих порицательных слов, Ванька вполне обходился без шепелявости. Когда и как он успел избавиться от этого изъяна в своей речи? Не повзрослел ли он на пару лет после нашей горячей схватки? Говорят, от сильного потрясения нормальный человек может стать заикой, а заика – нормальным. Не это ли самое происходит и с шепелявыми? Во всяком случае, я отчетливо различил в Ванькиной бранчливой словесной очереди звуки «с» и «з», каковые еще позавчера превращались у Ваньки в «ш» и «ж». Отлепится ли теперь от него прозвище Шепелявый? Я не хотел, чтобы это случилось, и решил про себя, что буду по-прежнему дразнить его этой кличкой, – пускай злится, так ему и надо. И я заорал что есть моченьки:
– Шепелявый-ы-й!
Голос мой, похоже, достиг Ванькиного уха, потому что в ответ я услышал отдаленное:
– Челябинский!
Это уже было мое прозвище. Обязан им я своей матери, которая, навестив мужа, служившего тогда в этом южноуральском городе, «привезла» меня оттуда, к вящему неудовольствию свекрови, отговаривавшей сноху от такой поездки. Бабушка Олимпиада, или Пиада, как звалась она в нашем доме, настойчиво твердила: «Не езди, Фросинья! Есть у тебя троица, привезешь четвертого. Нас и так вон сколько на одной дедушкиной шее! Не езди, ради Христа!» Сноха заупрямилась, и в результате явился на свет Божий я, Мишка Челябинский-Хохлов. Хохловыми нас звали все в Монастырском, потому что моя прабабка Анастасия, Настасья-хохлушка то есть, была привезена моим прадедом Николаем Алексеевым, участником Крымской кампании, откуда-то с Украины, кажется, с Полтавщины. Я хорошо помню эту крупную и ласковую старуху, вокруг которой мы, ее многочисленные правнуки и правнучки (три невестки в доме не теряли времени попусту и быстро наполнили пятистенку детворой), вертелись, как цыплята возле клушки. «Шоб вам повылазило!» – покрикивала она, улыбаясь при этом всем своим широким, мягким лицом, освещенным хорошими голубыми глазами, – в девичестве их, наверное, называли очами. Прабабка Настасья-хохлушка пережила бабку Пиаду, пережила бы, может быть, и своего единственного сына, а нашего дедушку Михаила, если бы не теленок, который, боднувшись, сшиб со щеки старухи большую родинку, делавшую ее лицо еще добрее и ласковее для нас, ее правнуков. «Приключился рак у Настасьи-хохлушки», – услышал я однажды от соседей, ничего не поняв из этих слов и все-таки страшно испугавшись. Вскоре на месте, где была родинка, появилось какое-то большое, величиною с медный пятак, пятно, сменившееся маленькой дыркой, через которую вытекало молоко, когда прабабушка пила его из медной кружки. Настасью-хохлушку любили на селе, и, когда она померла, на похороны пришло множество людей, столы для поминок пришлось ставить во дворе, и весь двор, помнится, был пропитан пряным духом лаврового листа и укропа. Нас, детвору, усадили за эти столы в третью, последнюю, значит, очередь, и я был горд до чрезвычайности, что все это происходит у нас, что я тут хозяин и могу посадить Ваньку Жукова рядом с собой, а Яньку Рубцова – где-нибудь подальше. Поминки (а они в большой нашей семье были не редкость) воспринимались мною как праздники, и самый яркий из них, пожалуй, был вот этот – по случаю смерти прабабушки.
В кличке Челябинский ничего обидного вроде и не было, но я все-таки очень злился, когда слышал ее. Ванька знал про то, а потому и швырнул ее мне вдогонку. Я во второй раз запустил в него «Шепелявым», но этот снаряд, по-видимому, уже не достиг цели. Должно быть, мой бывший дружок к этому моменту находился в «сфере недосягаемости».
Между тем на школьном собрании, проходившем под председательством Ивана Павловича, было принято решение, из которого следовало, что считать зачинщиками надобно нас обоих, а меру взыскания должны определить родители. Но поскольку они уже «взыскали» с нас, не дожидаясь этого решения, а за один проступок двух наказаний не выносят, то мой и Ванькин отцы, посовещавшись немного еще меж собой, пришли к заключению, что для младших сыновей действительно хватит и тех «чертей», которых они уже им «всыпали».
От школы Николай Михайлович и Григорий Яковлевич какое-то время шли вместе, пока на перекрестке двух улиц, Садовой и Завидовской, не расстались. Шли и мирно калякали. Про нас же было сказано то, что и должно: «Ребятишки, чего с них возьмешь. Подерутся и помирятся. Только и делов!»
– Заглядывай, Миколай! – сказал на прощание Григорий Яковлевич.
– Загляну как-нибудь. Да и ты мимо-то не проходи. Заглядывай. Восейка мельник завернул ко мне. Просит навестить его. Может, вместе прокатимся в следующую субботу. Как ты?
– Да я что ж… С удовольствием!
Все как будто чин чином, но ни мой, ни Ванькин отец почему-то так и не «заглядывали» друг к другу, и к мельнику Николай Михайлович отправился один, не сделав ни малейшей попытки прихватить с собой «Гришку Жучкина», как называли его за глаза. Не заглядывал к Жуковым и мой средний брат Ленька, хотя до этого дружил с Федькой, который почти на равных мог сыграть с ним и в козны, и в карты – достоинство, конечно, редкое, и брательник мой не мог не ценить его. Сейчас и эта дружба распалась. Что касается матерей, то их ссора началась на следующий день за нашей. Узнав о драке возле школы все от того же отца Василия, мама моя, побросав все домашние дела (а их у нее было «сэ-столько», то есть великое множество), тотчас оказалась у подворья Жуковых, и началась ее перепалка с Ванькиной матерью. Перестрелка, как и водится меж бабами на селе, велась через плетень, превращавшийся в таких случаях в баррикаду; мама начала с того, что без всяких предисловий объявила:
– Эт, Веруха, твой все натворил! Баяла я своему дурачку: не водись ты с этим разбойником Жучкиным! От ихней породы жди одной беды. Руки ваших сынков, Веруха, то в драку, то в чужой карман тянутся. Знам мы, какие они… Не дай и не приведи Господи!..
Веруха вскинулась:
– Эт за што же ты, Фросинья, нас страмотишь?! А?.. Што мы исделали такова, штобы слышать твои поношения?.. В чьи это карманы мы залезли?.. А?.. Да как же тебе не стыдно, Фросинья? Ты бы лучше за своим сопливым надглядывала. С виду-то он у тебя тихоня, а вреднющий страсть какой. Послушала бы, што сказыват о нем ваш шабер отец Василий. Ведь житья от ваших Леньки да Мишки ему нету!.. Все постащат и в саду, и в огороде, подлецы!.. А Мишке, щенку свому, передай, штобы и ноги у нас его не было!..
– Нашла чем стращать! Он и сам ни в какие веки не придет к твоему душегубу. Плевать ему и на вас на всех!
– А ты бы не плевала в чужой-то колодезь, как бы не пришлось напиться из него. Убирайся подобру-поздорову от моего дому, а то… не ровен час… – Ванькина мать недоговорила – только послала в сторону моей матери звучный плевок и шмыгнула в сени, громыхнув дверью так, что с оконных стекол посыпалась старая замазка, а куры с паническим кудахтаньем покинули завалинку и разлетелись по всему двору. Мать моя что-то еще выкрикнула, но голос ее был начисто потерян в переполошном курином гвалте.
Исходя благородным гневом, Ефросинья Ильинична всю дорогу к своему дому продолжала поругивать Жуковых, и так громко, чтобы вняли ей другие бабы, которые, заслышав перебранку, тоже приостановили свои дела, радуясь в душе, что подвернулся для этого подходящий случай. В эту минуту и они, верно, решали, какую сторону принять – Фросиньину или Верухи. Не в обычаях деревенских женщин оставаться безучастными в подобных обстоятельствах. Одна уже успела определиться, выкрикнув:
– Право слово, эт он, Ванька, и заварил кашу!
Другая возразила:
– Ты б, Акулина, повременила со своим приговором. Мишка, хохленок энтот, тоже не даст спуску. Он младшенький у Фросиньи – вот она его и балует. Его бы сечь надо кажный божий день!..
– А ты, Матрена, секи уж своих, а на чужих не замахивайся!
– Я не замахиваюсь. А так только говорю. К слову пришлось, – примирительно ответила Матрена и, махнув рукой, скрылась в глубине своего двора. Оттуда и закончила: – Нечистый их разберет, кто из них правый, а кто виноватый!..
Поприбавилось супротивников и у моих, и у Ванькиных друзей. Оказавшись по разным причинам в Непочетовке или на Хуторе либо в местах, тяготеющих к этим улицам, они так же, как и мы, действительно грешные, бывали жестоко биты ребятами, какие еще недавно являлись не только Ванькиными или моими, но и их приятелями. Теперь те и другие затевали меж собой драки отдельно от нас, автономно, так сказать. Отпочковавшись от наших, они, эти их стычки, приобретали как бы самостоятельное значение и по накалу ничуть не уступали нашим. Не надо забывать, что у всех этих ребят (на девчонок наши распри почему-то не распространялись) были отцы, матери, братья, которые если б и захотели, то вряд ли долго оставались бы нейтральными. Наш Ленька, например, успел уже несколько раз сцепиться с Федькой без всякого участия с нашей (моей и Ванькиной) стороны. Ночью, прижимая меня поплотнее к своему разгоряченному, не остуженному еще после схватки телу, шептал мне на ухо хвастливо: «Ну, я ему всыпал – долго помнить будет!» Из этих слов можно было заключить, что сам-то Ленька вышел из боя целехонек, но перед утром, ни свет ни заря, вскакивал как ужаленный с постели и убегал из дому.
Ясно, Ленька не хотел, чтобы мы приметили на его лице следы ночного сражения.
Не вмешивались в наши дела лишь старший брат Александр, оставивший за Ленькой право защищать меня, и сестра Анастасия. Они и раньше не ходили к Жуковым, потому что в их семье не было для моего старшего брата и сестры ровесников. Настя к тому же заневестилась: у нее были свои заботы, куда серьезнее наших.
Но так ли уж они были несерьезны, наши дела? Утраты и потери, о которых сказано мною лишь мимоходом, с течением времени делались ощутимее. И далеко не для одних нас с Ванькой. Только никто либо не хотел сознаться в этом, либо не мог отдать ясного отчета. И недобрые круги разбегались по селу, как разбегаются они по воде от брошенного кем-то ради баловства камня, захватывая в свою орбиту все большее число действующих лиц. Бросивший же этот камень человек давно позабыл, что он его бросил, как забывается оброненный кем-то непогашенный окурок, от которого занялся большой пожар.
5
Для меня (думаю, что и для Ваньки Жукова тоже) помянутые утраты были особенно заметны при смене времен года и делились как бы на равные доли, ограниченные понятиями зимы, весны, лета и осени. Зиму мы ждали с не меньшим вожделением и нетерпением, чем, скажем, весну или лето. И не только потому, что дети вообще не любят постоянных величин: быстро меняющиеся с возрастом, они требовали того же и от окружающего их и только что открываемого ими мира. Потому-то простая перестановка мебели в избе либо немудрящая новая постройка во дворе (подправленный ли плетень, свежая верея у ворот, даже возведенная посередь двора конусообразная и дымящаяся, как Везувий, навозная куча), появление с началом зимы телят и ягнят приводят малышей в неописуемый восторг, часто непонятный взрослым, которые, однако, не могут не умилиться от этой наивной и светлой детской радости. Времена года тем и хороши, что несут с собой обновление, всегда созвучное открытой детской душе.
У зимы было немало такого, чтобы мы, ребятишки, поторапливали ее с приходом. Тут тебе и катанье на коньках, на санках, тут и снежки, и просто кувырканье в сугробах, и поездка с отцом в лес за дровами по первопутку, когда полозья почти неслышно скользят по мягкому ослепительно белому, с рафинадной подсинькой, снежному полотну, а легкие снежинки невесомо усаживаются на твой нос, щекочут его и заставляют громко чихать, а Карюхины недавно подкованные копыта чеканят большие снежные медали и бросают их в седоков, как бы в ответ моему отцу, который «пошевеливал» кобылу кнутом чаще, чем ей бы этого хотелось. А пускание юлы, длинной веретенообразной палки, выточенной из молодой ольхи, под белые курганы, воздвигаемые метелью? А прыганье с крыш, когда к ним карабкаются, подымаясь все выше и выше, снежные валы? А прорубленные прямо в снежной стене пещеры?.. Да мало ли еще чего принесет с собой зима! Мы, ребятишки, готовы были простить ей даже то, что она усаживала нас за парты.
В первых числах декабря окончательно приостанавливала свой бег Баланда. Случалось это всегда лишь ночью. Лед, пока еще очень тонкий, но могущий удержать на несколько секунд таких молодцов, как мы с Ванькой, был еще не пригоден для катания на коньках, но очень хорош, чтобы творить на нем «зыбки». Взявшись за руки, мы быстро бежали, и лед под нами потрескивал, зыбился, горбился, вставал впереди гребнем и, надо было успеть проскочить этот гребень раньше, чем ослабленный нашими многими пробежками лед проломится. Забава опасная (окончившаяся однажды для одного из нас «иорданью», купаньем в студеной воде; могла бы окончиться и похуже, не окажись поблизости мой дядя Иван Морозов, направляющийся по-над берегом реки в церковь), опасная, говорю, забава, но этим-то и приманчивая для нас, инстинктивно чувствующих, что «есть упоение в бою у бездны мрачной на краю». Кто хоть раз в детстве делал эти самые «зыбки» на молодом неокрепшем льду, тот по гроб не забудет наслаждения, испытываемого при этом. Тебе и боязно, и радостно, одновременно, и сердце собирается выскочить из груди, когда бежишь что есть мочи, а под тобой кто-то большой сопит, дышит и шевелится, готовый в любой миг схватить за озорную ногу и утопить в черной холодной пучине. И, собравшись с духом для следующей пробежки, ты говоришь себе, что она будет последней, но Ванька, весь светясь, красный от возбуждения, уговаривает: «Давай ищо разик!» И опять, схватившись за руки, несемся по льду, который к этому моменту из светло-голубого делался уже от бесчисленных трещин сплошь серым и угрожающе податливым.
Еще раньше, чем на Баланде, замерзала вода в наших Кочках (а они – вот они, под рукой!) и в лесных болотах – беспризорных детях, оставленных нерадивыми матерями-реками в пору весеннего разлива и забытых ими до следующего половодья. К болотам мы выходили раньше всего, но вовсе не для катанья. Там нас ожидало занятие не менее интересное, имеющее к тому же практическую ценность. На мелководье, под прозрачным, похожим на хорошо помытое оконное стекло ледком, средь зеленеющих, точно в аквариуме, водорослей и тины, в такое время снует туда-сюда, удивляясь резкой перемене обстановки, разная рыбешка: караси, щурята, линьки и даже более проворные и все-таки не успевшие вернуться в Баланду или Медведицу, окуни. Видеть их живых, юрких, улепетывающих от наших теней – само уж по себе удовольствие непередаваемое. Но ведь этих рыбок можно еще изловить, не прибегая ни к сачкам, ни к бредню, ни к удочкам, ни к иным каким снастям. Для этого Ванька Жуков приобрел где-то небольшой топорик (боюсь, что он «стибрил» его в кузне Ивана Климова: говоря о слабости Ванькиных рук относительно чужих карманов, моя мать не совсем была не права). Приметив подо льдом затаившуюся, замеревшую возле какой-нибудь травинки или осочинки рыбину, Ванька с размаху опускал над нею обушок топора, и тотчас же из маленькой лунки выскакивали то щучка, то карасик, а то и линек. Конечно, речь идет об ударе удачливом, а он даже у Ваньки получался примерно один из десяти. Но и «холостые» не могли огорчать ни Ваньку, ни меня, потому что оставляли после себя множество разноцветных, радужных «петушков» и заливчатый, серебряный звон, кукушечьим учащенным криком разносившийся окрест. «Ку-ку-ку-ку-у-у-у» – катилось по просекам, над оголенными макушками деревьев, над полянами и лугами. Хорошо!
Для катанья же старшие братья мастерили для нас коньки (две чурки, две толстые проволоки, вмонтированные в эти деревяшки, четыре дырки, четыре веревочных шнура для скрепления с валенками, и коньки готовы!), и салазки, и «козлы», похожие на скамейку, но с широкой доской внизу и узкой, с плавными, покатыми вырезами с боков, сверху: нижняя покрывалась ровным слоем свежего коровьего навоза и заливалась на ночь водою, чтобы образовался лед для лучшего скольжения. Оседлав такую скамейку, мы катались на ней с Чаадаевской горы, стараясь ускакать как можно дальше и не упасть при этом, что удавалось далеко не всякому и не всякий раз: гора была длинной, крутой и с множеством перепадов, так что в иных местах «козел» и подскакивал вместе с тобою по-козлячьи – попробуй тут усиди на нем! Но именно эти-то коварные места на горе больше всего и привлекали нас с Ванькой Жуковым. Другие мальчишки не отваживались кататься с Чаадаевской горы, а ежели и катались, то не с ее вершины, а с полгоры. Честно говоря, вряд ли решился бы и я, не будь рядом со мною смельчака Ваньки – с ним пойдешь на любое рискованное дело.
Кататься сразу на двух коньках не умел даже Ванька, и до каких-то пор мы были убеждены, что на двух коньках и не катаются вовсе, пока не увидели на речке саратовского студента Виктора Наумова, сына нашего Ивана Павловича и Марии Ивановны, приехавшего в село на зимние каникулы. Он пролетел мимо нас, оторопевших и ошеломленных, на паре каких-то длинных, сверкающих солнечным блеском железках сперва в одну сторону, потом в обратную, и еще много раз туда и сюда, и, насытившись вволю нашим изумлением и потрясением, сделал несколько сужающихся, как бы окольцовывающих нас кругов. Затем резко остановился, обсыпав наши удивленные рожицы обжигающе-колючей ледяной крупой. Дав нам немного опомниться, прийти в себя, спросил, смахивая с рыжеватых бровей капельки пота:
– Нравятся?
Мы потерянно молчали.
– Хотите покататься?
– Ну их! – испуганно и поскорее ответили мы.
– Ну как хотите! – Виктор Иванович (через год-другой он сам станет преподавателем и какое-то время будет еще учить нас) сделал несколько крутых виражей и в один миг скрылся за поворотом реки, как наважденье.
Зимою охотились на зайцев, не с ружьем, понятно, до которого, не рискуя быть выпоротым отцом, мы и не дотрагивались, а с помощью небольших капканов, поставленных и хорошо замаскированных, припорошенных снежком на заячьих тропах, протоптанных во множестве в садах и огородах. Настораживать капкан без Ванькиной помощи я боялся, потому что мог угодить в него собственной рукой. Ставили тоже вместе, где-то под вечер, когда на снег ложились синие тени и мороз пробирался за пазуху, – шеи наши были всегда открытыми, разве что в лютую стужу матери закутывали их вместе с головою в свои шали. Простуды не боялись, а сопли под нашими носами никого не смущали – ни нас, ни родителей, – поскольку воспринимались как явления неизбежные и само собой разумеющиеся у детей. Они, правда, немного мешали нам, когда, склонившись над заячьей дорогой, мы осторожно подсовывали под снег однопружинный капканчик, делая все, чтобы он не сработал прежде времени – на морозе нам бы не насторожить его вновь и пришлось бы возвращаться для этого домой. Зайцы по большей части тоже были не дураки. Почуяв неладное, не бегали прежними тропами, а проделывали новые, иногда в одном вершке от той, где их подстерегал капкан. Но все-таки бывали случаи (пускай и очень редкие), когда длинноухий все же попадался и выдавал себя пронзительным, похожим на детский, криком. Задыхаясь и от великого волнения, и от бега по глубокому рыхлому снегу, мы какое-то время топтались вокруг зайца в нерешительности. Нужно было изловчиться и ухватить его сразу за обе задние ноги, ибо он может ударить ими по твоему пузу или лицу, как тугой пружиной, и оцарапать в кровь – такое бывало в прошлые зимы. В эту редкую торжественную для нас минуту командование всей операцией брал на себя, разумеется, Ванька Жуков, мне же оставалось слушаться его и исполнять распоряжения. «Я шхвачу жа ноги, а ты жа уши, и шражу в шумку!» – шепелявил он, и по взмаху его же правой руки мы вдвоем наваливались на плачущего зверька и, орущего, вместе с капканом совали в небольшой мешок. Домой возвращались не кратчайшим путем, а околесив чуть ли не все село: надо же было похвастаться добычей. Из всех дворов выбегали ребятишки, наши одногодки и постарше, и просили, чтобы мы развязали мешочек и показали зайца. Мы охотно исполняли эти просьбы, потому что удивленные возгласы ребят подымали нас в собственных глазах, а в глазах сверстников делали настоящими героями. На следующий день в школе, во время переменок, меня и Ваньку окружали и просили снова рассказать, как это нас угораздило изловить такого большого-пребольшого зайца. Мы, перебивая друг друга, рассказывали и вместе со всеми не слышали звонка, который надрывался в тщетной попытке разогнать нас по классам.
Не были мы совсем безучастными и к охотничьим промыслам, которыми занимались взрослые. А они охотились и на того же зайца, и на лисицу, и на хорька, и даже на волка.
Впрочем, охота на серого зимой была монополией только одно мужика в большом нашем селе – Сергея Андреевича Звонарева, доводившегося моей матери дальним родственником. Последнее обстоятельство важно отметить потому, что, поставив большие, именно волчьи, капканы где-то в степи, Сергей Андреевич на обратном пути заходил к нам, высмаркивался шумно у порога, пропускал, сбрасывая снег, большую клочковатую, белую не то от снега, не то просто седую бороду сквозь кулак и молча, по-хозяйски, присаживался к столу, где его уже поджидали граненый стакан самогона и стопа блинов, сдобренных темно-зеленым, густым и душистым конопляным маслом. К этому моменту я уже занимал лучшую позицию на печке, потому что, насытившись, дядя Сергей сперва расскажет, как и где поставил свои капканы нонешней зимой, где ставил в прошлые зимы, каких лавливал волков и что приключалось с ним, охотником, при всех удачах и неудачах, коих, неудач, было несравненно больше. Ежели и привирал, то в меру, допустимую для каждого охотника, тем более извинительную, что сам рассказчик верил в свое повествование беспредельно. Слушать длинные его были, перемешанные с небылицами, я готов (а если случался тут и Ванька, то и он) хоть день, хоть два, хоть целую неделю – так это было интересно. Если кто и тяготился малость от долгого сидения Сергея Андреевича, так это моя мать. Во дворе у нее еще «не поена и не кормлена скотинешка» (секретарствуя в сельсовете, папанька не обременял себя хозяйственными делами, да и времени у него на них не оставалось: с утра до ночи просиживал в конторе и составлял списки дворов кулацких, середняцких и бедняцких, зачем-то понадобившиеся в районе), а покинуть «сродника» в избе одного с детьми она считала неудобным, к тому же рассказчик нуждался в поощрении. Время от времени он умолкал и неуловимым движением подбородка давал знать хозяйке, что пора было уж ей разориться еще на одну «лампадку». Неуловимым его жест был лишь для нас, сидевших на печи. Мать каким-то образом его схватывала и, вздохнув «разорялась» – наливала из четверти еще полстакана. А под конец, видя, что ее гостечек уже поклевывает покрасневшим до синевы носом и плохо управляется с собственным языком, говорила ему: «А не пора ли тебе, Андреич, домой? Там, поди, заждались. А то полезай вон к ребятишкам на печку, погрейся, сосни часик!» Последнее устраивало дядю Сергея больше. С немалыми усилиями оторвав отяжелевшее тело от лавки и расставив для устойчивости толстые ноги, покряхтывая, он медленно подходил к печке. Спрыгнув на пол, Ванька или мой брат Ленька, не меньше нашего любивший слушать дядю Сергея, подталкивал его под зад, а я изо всех сил тянул за руки, и таким образом мы полностью овладевали старым охотником. Нас не огорчало то, что он плел вышедшим из подчинения языком бог знает какую чепуху, ибо вполне устраивало, что знаменитый волчатник находился среди нас и быстро засыпал под музыку своего же невнятного бормотания. Мы знали, что, проснувшись, он попросит у матери на похмелку и, опохмелившись, расскажет еще какую ни то историю из своей богатой на приключения охотничьей жизни.
Ни вьюга, ни лютая стужа, ни метели не могли удержать Сергея Андреевича дома, когда приспеет охота на волка. Время это дядя Сергей определял по каким-то одному ему понятным признакам и приметам. Кажется, начинал расставлять капканы сразу же за Святками, когда заканчивались волчьи свадьбы и отощавшие хищники рыскали в поисках добычи вблизи селений. Нелегкое это дело – определить место для капканов и расставить их в заснеженной степи! Каждый из них весил не меньше трех килограммов, а в общей связке их насчитывалось до дюжины. Расчет у охотника простой: попав в один капкан, метнувшись в сторону, зверь заставит «сработать» и другие и, поскольку какая-то их часть снабжена тяжеленными железными «кошками» – крючками, не сможет уйти далеко от рокового для него места. Загодя сюда привозилась падаль – чья-нибудь подохшая лошадь или корова – для приманки. Капканы припорашивались снегом, пропущенным через кроильное решето, присыпались так, чтобы их не было видно волку, и чтобы он не смог учуять прикосновения к ним человеческой руки. И отступал от них дядя Сергей, пятясь задом, просеивая перед собой снег, чтобы он был похожим на свежую порошу, а заодно и маскировал следы охотника. И всю эту работу Сергей Андреевич производил один. Сын его, хромоногий Костя, помогал отцу лишь «брать» пойманного волка, и только тогда, когда тот оказывался матерым, особенно хитрым, сильным и свирепым. Не ленился охотник, хотя за целую зиму мог поймать одного, ну, от силы двух волков, – это была уж сверхудача.
Позапрошлой зимой пойманный у Дрофева оврага могучий зверь почему-то потащил капкан не подальше куда-нибудь в степь, а к селу, пробороздил дорогу в глубоком снегу через все конопляники, сохранил еще силы для того, чтобы перелезть через плетень нашего огорода, и только зацепившиеся за изгородь капканьи «кошки» не пустили его дальше.
Я тотчас же побежал к Ваньке, сообщил ему эту неслыханную новость, и уже вдвоем с ним мы вернулись на наш задний двор, чтобы поглядеть, как отец и сын Звонаревы будут брать матерого. Дрожь заранее сотрясала нас от пяток до макушек, усиливаясь от того, что мы боялись, как бы взрослые не турнули с огорода и не лишили редкого зрелища.
Другие электронные книги автора Михаил Алексеевич Алексеев
Мой Сталинград




 3.67
3.67