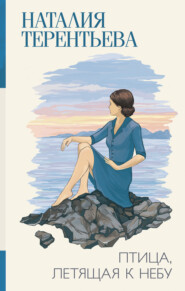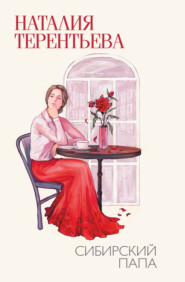По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Солнце на антресолях
Серия
Год написания книги
2017
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Есть такая правда, которая никому не нужна. Все это прекрасно знают, и правду эту не говорят. Например, что у нас плохая школа, а вовсе не хорошая. Что у нас плохая классная руководительница, злая, вредная и недалекая. Почему не говорят? А кому станет легче от такой правды? Если все равно ничего изменить нельзя. Или, по крайней мере, быстро изменить нельзя. Сломать – легче всего. Закрыть школу, выгнать учительницу, расформировать этот зоопарк… А куда девать тогда зверей, которые не умеют по-другому жить? А некоторые из них и родились в неволе – они дети таких же, как они. Или, наоборот, их спасли – раненых, больных и поместили в зоопарк. Всё ведь только с виду так просто. Сказать об этом папе?
Папа, наверно, добрый человек. Не знаю. Или злой. О своих родителях невозможно ничего понять. Так близко – непонятно. Чтобы понять, добрый человек или нет, нужно отойти на шаг. Тем более что я не могу судить родителей, которые меня родили, кормят и, очевидно, любят. Я иногда вижу, что они не правы или очень сильно злятся. Как вот сейчас папа.
– Я… привел… тебя… Алехандра… и твоих… братьев… – Папа выдавливал из себя каждое слово, как будто кто-то его душил, не давал говорить, а говорить надо, вот он и давится такими тяжелыми словами.
Я перевела взгляд на полубратьев. Джонни отступил на шаг, он ужасно не любит никаких ссор, сразу предпочитает ретироваться. Глебушка уловил папин тон, прищурился и поддакнул:
– Пьивёл!
– Пап. – Я тоже отошла чуть в сторону. Не знаю, как другие, а я обычно физически чувствую негативную энергию. Мне становится от нее как-то не по себе. Она же материальна, как любое поле. – Пап. Вот ты говоришь – империю зла сломали. А что построили взамен? Империю добра? Вот это, в чем мы сегодня живем, – это империя добра?
На голову нам тем временем начал капать препротивнейший мелкий холодный моросяк – как иначе назовешь эту воду, взвешенную сейчас в воздухе. Это и не дождь, и не вёдро – то есть не сухая, не солнечная, не милая осенняя пора… А ужасная пора, серая, тоскливая… Еще морды этих несчастных зверей, их опущенные вытертые хвосты, грязные лапы, повисшие уши… И тоска, тоска в глазах…
Смурь, неведомо откуда спустившаяся на нас, надавила на всех, Глебушка покрутил головой туда-сюда и заревел. Джонни достал телефон, воткнул наушники. Папа почему-то решил, что Глебушка заплакал от моих слов, попытался подхватить его, но его так раскармливают и в школе, и дома (потенциальные гении же едят сколько хотят, без ограничений, Глебушка раздобрел и стал нереально быстро расти), что папа не смог оторвать его от земли. И страшно рассердился. Страшно!
– Ты… – закричал он срывающимся голосом. – Т-ты… да ты… Да ты… Да ты знаешь, вообще, как ты… кто ты…
Я отчетливо видела, что ему есть что сказать. Он не то что слов найти не может. Он сдерживает себя, чтобы что-то не сказать. Я могла подхлестнуть его, но не стала. И не потому что я боялась что-то плохое услышать. Уже плохо, что такие слова есть у него в душе. Или в голове? Где рождаются слова, которые мы говорим друг другу в минуту гнева? Все-таки в душе, наверно. И они разные, эти слова. Если из души – то это самые настоящие слова. А из головы могут быть и лживые. Хотя, конечно, смотря какая у кого душа…
– Что ты так взбеленился? – спросила я папу как можно более мирно, попыталась взять за руку. – Ну, сломали и сломали. Ладно…
– Я не об этом… Ты… Твоя мать… Я из-за тебя человеческий облик теряю…
Бедная потертая лошадь со впалыми боками и очень коротенькими ножками – какой-то редкой породы – слыша папины слова, замотала головой и грустно заржала. Это добило папу окончательно.
– Во-от! Во-от! – вскрикивал он. – Ты всех против меня настроила! Всех! Вынь это из ушей! – Он изо всех сил выдернул наушники у Джонни.
Тот обиженно скривился. А папа набрал воздуха и продолжил, стараясь чеканить слова, чтобы не получалась неразборчивая манная каша. Я знаю, так учат дикторов и политиков, которые не умеют хорошо говорить – рубить слова и делать паузы в неожиданных местах, тогда люди будут тебя от изумления слушать.
– Тебя берут! – кричал папа. – Не для того! Чтобы ты! Издевалась над отцом! И учила! Младших! Братьев! Не уважать! Меня!
– Я не вещь, чтобы меня брать, – пожала я плечами. В мои планы не входило идти с папой на конфликт, тем более такой открытый. Но если он сам настаивает… – Пока! Спасибо! – Я повернулась и ушла.
– Стой! – закричал папа. – Стой! А ну тебя! Идешь и иди! Взрослая уже! Дети, пошли дальше. Так, вон там орангутанги…
Дети, один из которых только на год и семь месяцев младше меня, поплелись за папой. Джонни все оборачивался. Я показала ему в воздухе, как папа делает из него слипшийся пирожок: прессует его кулаком изо всей силы об ладонь, откусывает, морщится, сплевывает и выбрасывает за плечо. Джонни захохотал. Папа резко развернулся и на самом деле изо всей силы толкнул Джонни, и тот, высокий, уже выше папы, мешковатый, плохо стоящий на неудобных длинных ногах, потерял равновесие, потому что слишком сильно тряс тяжелой крупной головой, продолжая хохотать, и упал.
Тут засмеялся Глебушка, а также все окружающие и, само собой, орангутанги, к которым папа привел своих детей. Может быть, они просто верещали, им было вовсе не смешно, но папа озверел неописуемо. И еще раз пнул Джонни и одновременно стал его поднимать, случайно задел Глебушку, тот тоже упал, мне показалось нарочно, потому что на него давно вообще никто не обращал внимания, а он к такому не привык. Вокруг него должны все скакать, восхищаться, записывать его слова, снимать его на камеру, выкладывать потом в Сеть, чтобы восхищались другие…
Я шла побыстрее к выходу и слышала, как смеются люди, воет Глебушка, ухают орангутанги и вскрикивает папа, как заведенный:
– Всё! Всё! Всё!
Что «всё», понятно не было, но папе надо было высказаться.
Московский зоопарк – это сравнительно небольшой пятачок посреди города, практически в центре Москвы, рядом с Садовым кольцом. Выйдя оттуда, трудно поверить, что в нескольких шагах от автострады, в километре от Белого дома в клетках сидят грустные львы и потертые лошади, всклокоченные медведи и птицы с подрезанными крыльями и смотрят на тех, кто пришел полюбоваться их страданиями.
Много в жизни людей налажено весьма странно. Зоопарки – это только одна из странностей нашей жизни. Еще мне странно, что мы учимся в школе тому, что никогда нам не пригодится, и не учимся практически ничему, что должен знать человек о себе и об окружающем мире. Я считаю, что прежде всего человек должен уметь за себя постоять – это главная наука. Человек должен уметь жить на земле, не нанося ей вреда и не вредя себе самому – это еще две науки, разные причем и очень сложные. Человек должен уметь выжить в ситуации, когда он не может включить чайник в розетку, достать из ящика крупу и сахар, а из холодильника – масло. В ситуации, когда у него нет ни крупы, ни сахара, ни чайника, ни розетки.
Меня с некоторых пор мучает вопрос – я пользуюсь огромным количеством предметов, о которых я не знаю ничего. Если бы мне пришлось заново начинать человеческую цивилизацию (предположим, я бы осталась после потопа одна или с каким-нибудь беспомощным Мошкиным), я бы не смогла даже записать – для потомков – что такое мобильный телефон, какой принцип его устройства. Я бы не смогла никак сделать примитивную электрическую цепь. Я бы и огонь не смогла добыть. А как? Стучать камнем об камень, пока не высечется искра? Я стучала этим летом на даче, часа два. Руки все стерла в кровь, а искры так и не выбила…
Думать о сложных, посторонних, вселенских вопросах, когда очень горько и тошно на душе – это мой собственный прием. Моя собственная школа выживания. Я научилась этому давным-давно. Когда учителя унижают тебя или еще кого-то и ты не можешь никак это изменить, самое лучшее – начать думать о том, что такое сила гравитации. Или попытаться представить, что Земля сейчас вращается со скоростью 465 метров в секунду вокруг своей оси и со скоростью 30 километров в секунду вокруг Солнца, а мы этого не ощущаем – мы как будто приклеены к ней с помощью загадочной энергии, силы, преодолеть которую человек не может. Но всячески пытается. Тогда крик Дылды или несправедливые папины укоры так уж сильно тебя не унизят.
Я подумала – если папа позвонит и попросит меня вернуться, я, конечно, вернусь, вредничать не буду. Но он не позвонил, наверно, сильно расстроился из-за того, что так несдержанно вел себя у клетки с обезьянами и все смеялись не над орангутангами, а над ним. А зачем так было чеканить слова? Он же не малограмотный политик и не диктор, которого взяли на телевидение по знакомству, а он совсем не умеет говорить.
Я села на троллейбус и поехала домой, радуясь, что мама в последний момент сунула мне в карман билетик. Мне не давала покоя одна папина фраза… Как-то крутилась и крутилась в голове… Я знала: если спрошу маму напрямую, она замолчит, уйдет в себя… заплачет… Ведь папа имел в виду что-то плохое. Значит, маму это расстроит. Значит, она мне этого точно рассказывать не будет. Надо начать издалека. Не потому, что я хитрая и не хочу с мамой поговорить искренне по душам. Я-то как раз хочу! Но она со мной дружит только до определенного предела. А за этим пределом – мама-друг становится моим родителем, воспитателем и взрослым человеком, у которого есть тайны, страшные тайны, тайны, которые не надо знать детям, тайны, которые могут взорвать мир самого этого взрослого человека, если достать их из дальних закромов памяти и прошлого.
Когда я приехала домой, от мамы как раз уходил ученик, тот самый Артем, которого я недавно воспитывала устрашением. А как иначе? Человек без страха не воспитывается, это же не я придумала. Я выходила из лифта, а он стоял, ждал лифта и ковырялся в телефоне. Увидев меня, он страшно обрадовался, покраснел, надулся, положил одну руку на бок, она соскочила, Артем сам засмеялся и предложил:
– Го Макдак? – Что означало, не хочу ли я с ним, малявкой, пройтись в столовую американского общепита и не съем ли вместе с ним какой-нибудь химический пирожок.
Я пожала плечами и обошла его, потому что он и сам не входил в лифт и не давал мне выйти. Вот наглый какой, а! Представляю, какой он будет через два-три года. Артем еще что-то бубнил мне вслед, но я даже не обернулась. Приятно, конечно, когда в них есть мужские качества – а именно, наглость и смелость, – но не до такой же степени!
У мамы уже сидела следующая ученица – Настя Козочкина, быстро выросшая тринадцатилетняя девочка. За лето она обогнала меня по росту и стала краситься. Я вздохнула – надо было все-таки пойти пешком от метро, дождаться, пока Козочкина позанимается и уйдет. Козочкина иногда бесит меня так, что у меня поднимается температура.
Я тихо снимала в прихожей куртку и ботинки, чтобы не мешать маме, которая в это время терпеливо говорила:
– Надо думать, какую приставку писать, понимаешь, Настюша? «Пре-» или «при-». А ты пишешь, не думая.
Я видела в большом зеркале, как Козочкина пожала плечами и отбросила хвост, который затянула так туго и так высоко – на самой макушке, что накрашенные брови поехали наверх, а сам хвост все время падал ей на лицо.
– Я думаю. Это вы плохо объяснили мне, – ответила Козочкина и вспомнила, что говорить надо, сильно вытягивая губы вперед – тогда она выглядит сексуальной, и все мальчики в школе будут за ней бегать. Она изо всех сил вытянула губы и подперлась одной рукой, другой отбрасывая щекотящий ее щеку хвост.
– Хорошо, давай еще раз. Приставка «пре-» употребляется…
Козочкина сидела с совершенно тупым лицом, чесала щеку – щекотно же! – и молча смотрела на маму. Ее светлые выпуклые глаза не выражали ровным счетом ничего – ни радости от знакомства с приставкой «пре-», ни даже раздражения.
– Поняла?
– Ну да… – Козочкина выпрямила спину и откинулась на спинку стула. – Мама говорит, вам надо подобрать ко мне ключ.
Я-то знаю ключ к таким Козочкиным. Нашей Дылды на нее нет. Вот начнется у нее химия в следующем году, Дылда ей покажет, какие у нее есть ключики. Хотя моей маме Козочкина хамить от этого не перестанет, еще хуже будет. Будет овцой сидеть перед Дылдой, покорной и молчаливой, а потом отыгрываться на маме. Поэтому я и пытаюсь тоже зарабатывать деньги – чтобы хоть как-то помочь маме. Чтобы в один прекрасный день можно было сказать Козочкиной: «Или нормально себя веди, или до свидания!»
Моя мама соблюдает евангельский принцип – «непротивление злу насилием», меня пыталась учить, пока я была маленькая. Я не успела научиться, потому что очень рано поняла, что зло, которому моя мама не противится никак, благодаря ее терпению и смирению разрастается до невероятных пределов и покрывает своей плесенью все вокруг. Это как гниль в сырых помещениях. Если проглядеть, запустить – будет расти на глазах, она ведь живая – другая форма жизни, как пыль.
Козочкина – это не Артем. Ей не расскажешь языком жестов за маминой спиной, как я поступлю с ней, если она будет доводить маму. Разрыдается, ее мать потом будет отчитывать мою маму.
– Объясните норма-а-ально, – капризным голосом сказала Козочкина. – Ничо не поня-я-ятно…
Я ушла в свою комнату, чтобы не слышать продолжения. Одна мысль все не давала мне покоя… Настоящая ли я дочь своих родителей? Может, именно об этом они молчат? Может, я чего-то не знаю? Зачем тогда папа приходит? И я ведь похожа на него… Но должны же быть какие-то их совместные фотографии, что-то из того прошлого, о котором они не говорят…
Под кроватью, в самой глубине я нашла коробку со старыми фотографиями, маминым дипломом, моими первыми рисунками. Мама все аккуратно разложила по папкам, файлам и пакетам. Я достала объемный мешок с фотографиями. Там лежали фотографии, по каким-то причинам не вошедшие в наш большой семейный альбом.
Вот маленькая мама, чем-то неуловимо похожая на меня, но более встревоженная и робкая, ест что-то или просто держит в руках и испуганно оглядывается. Кто там сзади нее стоит, кого не видно? А вот – бабушка и дедушка, никогда не ставшие старыми и не увидевшие меня. Бабушка была учительницей, как и моя мама, дедушка – военным инженером-конструктором. Как жаль, как невыразимо жаль, что я не могу с ними поговорить. Понять хотя бы, почему мама получилась у них такой испуганной, чем ее напугали в детстве. Или ее напугали уже потом? Но ведь я-то – не такая? А вдруг мои дети будут такими же растерянными и все станут ездить у них на голове, как у моей мамы все ее знакомые, коллеги и ученики?
Вот еще одна мамина фотография – в большой белой шапке, надвинутой до самых глаз, мама похожа на испуганного гномика. Есть хотя бы одна фотография, где она смело смотрит на фотографа?
Я порылась в мешке. Понятно, почему мама не положила все эти фотографии в альбом. В нем – только парадные, неинтересные фотографии, выпускные, из фотоателье, с праздников. А здесь – живые, здесь как раз осколочки той старой жизни, о которой мне так хотелось бы узнать.
Папа, наверно, добрый человек. Не знаю. Или злой. О своих родителях невозможно ничего понять. Так близко – непонятно. Чтобы понять, добрый человек или нет, нужно отойти на шаг. Тем более что я не могу судить родителей, которые меня родили, кормят и, очевидно, любят. Я иногда вижу, что они не правы или очень сильно злятся. Как вот сейчас папа.
– Я… привел… тебя… Алехандра… и твоих… братьев… – Папа выдавливал из себя каждое слово, как будто кто-то его душил, не давал говорить, а говорить надо, вот он и давится такими тяжелыми словами.
Я перевела взгляд на полубратьев. Джонни отступил на шаг, он ужасно не любит никаких ссор, сразу предпочитает ретироваться. Глебушка уловил папин тон, прищурился и поддакнул:
– Пьивёл!
– Пап. – Я тоже отошла чуть в сторону. Не знаю, как другие, а я обычно физически чувствую негативную энергию. Мне становится от нее как-то не по себе. Она же материальна, как любое поле. – Пап. Вот ты говоришь – империю зла сломали. А что построили взамен? Империю добра? Вот это, в чем мы сегодня живем, – это империя добра?
На голову нам тем временем начал капать препротивнейший мелкий холодный моросяк – как иначе назовешь эту воду, взвешенную сейчас в воздухе. Это и не дождь, и не вёдро – то есть не сухая, не солнечная, не милая осенняя пора… А ужасная пора, серая, тоскливая… Еще морды этих несчастных зверей, их опущенные вытертые хвосты, грязные лапы, повисшие уши… И тоска, тоска в глазах…
Смурь, неведомо откуда спустившаяся на нас, надавила на всех, Глебушка покрутил головой туда-сюда и заревел. Джонни достал телефон, воткнул наушники. Папа почему-то решил, что Глебушка заплакал от моих слов, попытался подхватить его, но его так раскармливают и в школе, и дома (потенциальные гении же едят сколько хотят, без ограничений, Глебушка раздобрел и стал нереально быстро расти), что папа не смог оторвать его от земли. И страшно рассердился. Страшно!
– Ты… – закричал он срывающимся голосом. – Т-ты… да ты… Да ты… Да ты знаешь, вообще, как ты… кто ты…
Я отчетливо видела, что ему есть что сказать. Он не то что слов найти не может. Он сдерживает себя, чтобы что-то не сказать. Я могла подхлестнуть его, но не стала. И не потому что я боялась что-то плохое услышать. Уже плохо, что такие слова есть у него в душе. Или в голове? Где рождаются слова, которые мы говорим друг другу в минуту гнева? Все-таки в душе, наверно. И они разные, эти слова. Если из души – то это самые настоящие слова. А из головы могут быть и лживые. Хотя, конечно, смотря какая у кого душа…
– Что ты так взбеленился? – спросила я папу как можно более мирно, попыталась взять за руку. – Ну, сломали и сломали. Ладно…
– Я не об этом… Ты… Твоя мать… Я из-за тебя человеческий облик теряю…
Бедная потертая лошадь со впалыми боками и очень коротенькими ножками – какой-то редкой породы – слыша папины слова, замотала головой и грустно заржала. Это добило папу окончательно.
– Во-от! Во-от! – вскрикивал он. – Ты всех против меня настроила! Всех! Вынь это из ушей! – Он изо всех сил выдернул наушники у Джонни.
Тот обиженно скривился. А папа набрал воздуха и продолжил, стараясь чеканить слова, чтобы не получалась неразборчивая манная каша. Я знаю, так учат дикторов и политиков, которые не умеют хорошо говорить – рубить слова и делать паузы в неожиданных местах, тогда люди будут тебя от изумления слушать.
– Тебя берут! – кричал папа. – Не для того! Чтобы ты! Издевалась над отцом! И учила! Младших! Братьев! Не уважать! Меня!
– Я не вещь, чтобы меня брать, – пожала я плечами. В мои планы не входило идти с папой на конфликт, тем более такой открытый. Но если он сам настаивает… – Пока! Спасибо! – Я повернулась и ушла.
– Стой! – закричал папа. – Стой! А ну тебя! Идешь и иди! Взрослая уже! Дети, пошли дальше. Так, вон там орангутанги…
Дети, один из которых только на год и семь месяцев младше меня, поплелись за папой. Джонни все оборачивался. Я показала ему в воздухе, как папа делает из него слипшийся пирожок: прессует его кулаком изо всей силы об ладонь, откусывает, морщится, сплевывает и выбрасывает за плечо. Джонни захохотал. Папа резко развернулся и на самом деле изо всей силы толкнул Джонни, и тот, высокий, уже выше папы, мешковатый, плохо стоящий на неудобных длинных ногах, потерял равновесие, потому что слишком сильно тряс тяжелой крупной головой, продолжая хохотать, и упал.
Тут засмеялся Глебушка, а также все окружающие и, само собой, орангутанги, к которым папа привел своих детей. Может быть, они просто верещали, им было вовсе не смешно, но папа озверел неописуемо. И еще раз пнул Джонни и одновременно стал его поднимать, случайно задел Глебушку, тот тоже упал, мне показалось нарочно, потому что на него давно вообще никто не обращал внимания, а он к такому не привык. Вокруг него должны все скакать, восхищаться, записывать его слова, снимать его на камеру, выкладывать потом в Сеть, чтобы восхищались другие…
Я шла побыстрее к выходу и слышала, как смеются люди, воет Глебушка, ухают орангутанги и вскрикивает папа, как заведенный:
– Всё! Всё! Всё!
Что «всё», понятно не было, но папе надо было высказаться.
Московский зоопарк – это сравнительно небольшой пятачок посреди города, практически в центре Москвы, рядом с Садовым кольцом. Выйдя оттуда, трудно поверить, что в нескольких шагах от автострады, в километре от Белого дома в клетках сидят грустные львы и потертые лошади, всклокоченные медведи и птицы с подрезанными крыльями и смотрят на тех, кто пришел полюбоваться их страданиями.
Много в жизни людей налажено весьма странно. Зоопарки – это только одна из странностей нашей жизни. Еще мне странно, что мы учимся в школе тому, что никогда нам не пригодится, и не учимся практически ничему, что должен знать человек о себе и об окружающем мире. Я считаю, что прежде всего человек должен уметь за себя постоять – это главная наука. Человек должен уметь жить на земле, не нанося ей вреда и не вредя себе самому – это еще две науки, разные причем и очень сложные. Человек должен уметь выжить в ситуации, когда он не может включить чайник в розетку, достать из ящика крупу и сахар, а из холодильника – масло. В ситуации, когда у него нет ни крупы, ни сахара, ни чайника, ни розетки.
Меня с некоторых пор мучает вопрос – я пользуюсь огромным количеством предметов, о которых я не знаю ничего. Если бы мне пришлось заново начинать человеческую цивилизацию (предположим, я бы осталась после потопа одна или с каким-нибудь беспомощным Мошкиным), я бы не смогла даже записать – для потомков – что такое мобильный телефон, какой принцип его устройства. Я бы не смогла никак сделать примитивную электрическую цепь. Я бы и огонь не смогла добыть. А как? Стучать камнем об камень, пока не высечется искра? Я стучала этим летом на даче, часа два. Руки все стерла в кровь, а искры так и не выбила…
Думать о сложных, посторонних, вселенских вопросах, когда очень горько и тошно на душе – это мой собственный прием. Моя собственная школа выживания. Я научилась этому давным-давно. Когда учителя унижают тебя или еще кого-то и ты не можешь никак это изменить, самое лучшее – начать думать о том, что такое сила гравитации. Или попытаться представить, что Земля сейчас вращается со скоростью 465 метров в секунду вокруг своей оси и со скоростью 30 километров в секунду вокруг Солнца, а мы этого не ощущаем – мы как будто приклеены к ней с помощью загадочной энергии, силы, преодолеть которую человек не может. Но всячески пытается. Тогда крик Дылды или несправедливые папины укоры так уж сильно тебя не унизят.
Я подумала – если папа позвонит и попросит меня вернуться, я, конечно, вернусь, вредничать не буду. Но он не позвонил, наверно, сильно расстроился из-за того, что так несдержанно вел себя у клетки с обезьянами и все смеялись не над орангутангами, а над ним. А зачем так было чеканить слова? Он же не малограмотный политик и не диктор, которого взяли на телевидение по знакомству, а он совсем не умеет говорить.
Я села на троллейбус и поехала домой, радуясь, что мама в последний момент сунула мне в карман билетик. Мне не давала покоя одна папина фраза… Как-то крутилась и крутилась в голове… Я знала: если спрошу маму напрямую, она замолчит, уйдет в себя… заплачет… Ведь папа имел в виду что-то плохое. Значит, маму это расстроит. Значит, она мне этого точно рассказывать не будет. Надо начать издалека. Не потому, что я хитрая и не хочу с мамой поговорить искренне по душам. Я-то как раз хочу! Но она со мной дружит только до определенного предела. А за этим пределом – мама-друг становится моим родителем, воспитателем и взрослым человеком, у которого есть тайны, страшные тайны, тайны, которые не надо знать детям, тайны, которые могут взорвать мир самого этого взрослого человека, если достать их из дальних закромов памяти и прошлого.
Когда я приехала домой, от мамы как раз уходил ученик, тот самый Артем, которого я недавно воспитывала устрашением. А как иначе? Человек без страха не воспитывается, это же не я придумала. Я выходила из лифта, а он стоял, ждал лифта и ковырялся в телефоне. Увидев меня, он страшно обрадовался, покраснел, надулся, положил одну руку на бок, она соскочила, Артем сам засмеялся и предложил:
– Го Макдак? – Что означало, не хочу ли я с ним, малявкой, пройтись в столовую американского общепита и не съем ли вместе с ним какой-нибудь химический пирожок.
Я пожала плечами и обошла его, потому что он и сам не входил в лифт и не давал мне выйти. Вот наглый какой, а! Представляю, какой он будет через два-три года. Артем еще что-то бубнил мне вслед, но я даже не обернулась. Приятно, конечно, когда в них есть мужские качества – а именно, наглость и смелость, – но не до такой же степени!
У мамы уже сидела следующая ученица – Настя Козочкина, быстро выросшая тринадцатилетняя девочка. За лето она обогнала меня по росту и стала краситься. Я вздохнула – надо было все-таки пойти пешком от метро, дождаться, пока Козочкина позанимается и уйдет. Козочкина иногда бесит меня так, что у меня поднимается температура.
Я тихо снимала в прихожей куртку и ботинки, чтобы не мешать маме, которая в это время терпеливо говорила:
– Надо думать, какую приставку писать, понимаешь, Настюша? «Пре-» или «при-». А ты пишешь, не думая.
Я видела в большом зеркале, как Козочкина пожала плечами и отбросила хвост, который затянула так туго и так высоко – на самой макушке, что накрашенные брови поехали наверх, а сам хвост все время падал ей на лицо.
– Я думаю. Это вы плохо объяснили мне, – ответила Козочкина и вспомнила, что говорить надо, сильно вытягивая губы вперед – тогда она выглядит сексуальной, и все мальчики в школе будут за ней бегать. Она изо всех сил вытянула губы и подперлась одной рукой, другой отбрасывая щекотящий ее щеку хвост.
– Хорошо, давай еще раз. Приставка «пре-» употребляется…
Козочкина сидела с совершенно тупым лицом, чесала щеку – щекотно же! – и молча смотрела на маму. Ее светлые выпуклые глаза не выражали ровным счетом ничего – ни радости от знакомства с приставкой «пре-», ни даже раздражения.
– Поняла?
– Ну да… – Козочкина выпрямила спину и откинулась на спинку стула. – Мама говорит, вам надо подобрать ко мне ключ.
Я-то знаю ключ к таким Козочкиным. Нашей Дылды на нее нет. Вот начнется у нее химия в следующем году, Дылда ей покажет, какие у нее есть ключики. Хотя моей маме Козочкина хамить от этого не перестанет, еще хуже будет. Будет овцой сидеть перед Дылдой, покорной и молчаливой, а потом отыгрываться на маме. Поэтому я и пытаюсь тоже зарабатывать деньги – чтобы хоть как-то помочь маме. Чтобы в один прекрасный день можно было сказать Козочкиной: «Или нормально себя веди, или до свидания!»
Моя мама соблюдает евангельский принцип – «непротивление злу насилием», меня пыталась учить, пока я была маленькая. Я не успела научиться, потому что очень рано поняла, что зло, которому моя мама не противится никак, благодаря ее терпению и смирению разрастается до невероятных пределов и покрывает своей плесенью все вокруг. Это как гниль в сырых помещениях. Если проглядеть, запустить – будет расти на глазах, она ведь живая – другая форма жизни, как пыль.
Козочкина – это не Артем. Ей не расскажешь языком жестов за маминой спиной, как я поступлю с ней, если она будет доводить маму. Разрыдается, ее мать потом будет отчитывать мою маму.
– Объясните норма-а-ально, – капризным голосом сказала Козочкина. – Ничо не поня-я-ятно…
Я ушла в свою комнату, чтобы не слышать продолжения. Одна мысль все не давала мне покоя… Настоящая ли я дочь своих родителей? Может, именно об этом они молчат? Может, я чего-то не знаю? Зачем тогда папа приходит? И я ведь похожа на него… Но должны же быть какие-то их совместные фотографии, что-то из того прошлого, о котором они не говорят…
Под кроватью, в самой глубине я нашла коробку со старыми фотографиями, маминым дипломом, моими первыми рисунками. Мама все аккуратно разложила по папкам, файлам и пакетам. Я достала объемный мешок с фотографиями. Там лежали фотографии, по каким-то причинам не вошедшие в наш большой семейный альбом.
Вот маленькая мама, чем-то неуловимо похожая на меня, но более встревоженная и робкая, ест что-то или просто держит в руках и испуганно оглядывается. Кто там сзади нее стоит, кого не видно? А вот – бабушка и дедушка, никогда не ставшие старыми и не увидевшие меня. Бабушка была учительницей, как и моя мама, дедушка – военным инженером-конструктором. Как жаль, как невыразимо жаль, что я не могу с ними поговорить. Понять хотя бы, почему мама получилась у них такой испуганной, чем ее напугали в детстве. Или ее напугали уже потом? Но ведь я-то – не такая? А вдруг мои дети будут такими же растерянными и все станут ездить у них на голове, как у моей мамы все ее знакомые, коллеги и ученики?
Вот еще одна мамина фотография – в большой белой шапке, надвинутой до самых глаз, мама похожа на испуганного гномика. Есть хотя бы одна фотография, где она смело смотрит на фотографа?
Я порылась в мешке. Понятно, почему мама не положила все эти фотографии в альбом. В нем – только парадные, неинтересные фотографии, выпускные, из фотоателье, с праздников. А здесь – живые, здесь как раз осколочки той старой жизни, о которой мне так хотелось бы узнать.