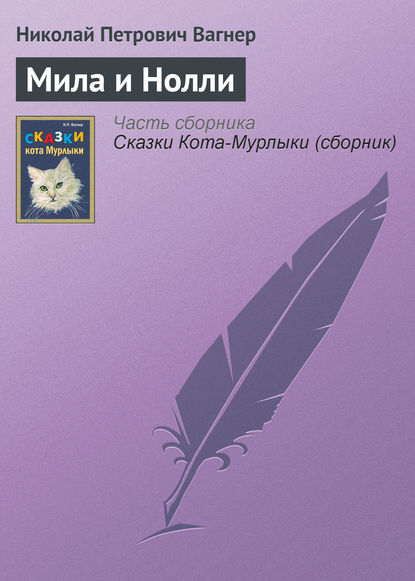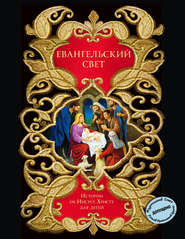По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Мила и Нолли
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Как же, – думала она, – говорили они, что здесь нет страдания: разве это стоны веселья?
Она шла к тем кустам, откуда раздавались эти жалобные стоны, ближе и ближе слышались они, и вдруг на камнях, обросших мохом, она увидала что-то небольшое, черное, косматое, лежит и стонет. Она сделала еще несколько шагов и вдруг бросилась к этому странному предмету.
– Волчок! – вскричала она. – Бедный Волчок!
Да, это действительно был он, бедный Волчок.
– Волчок, мой добрый Волчок, – говорила она, – что с тобой?
Он узнал ее, встрепенулся и радостно завизжал; он смотрел на нее своими умными, ласковыми глазами и лизал ее руки. Мила пробовала поднять его, поставить на ноги, но он не мог стоять и падал, как мертвый. Он весь дрожал, судорожно махал ногами, как будто хотел бежать, хрипел, и светлые глаза его затемнились тусклой синевой.
– Нолли! – вскричала Мила, чувствуя, как слезы подступают ей к горлу и душат ее. – Нолли, где ты?… Он умирает!..
А Нолли был уже тут, возле Милы. Он давно отыскивал ее. Он прибежал, наклонился над Волчком, и Волчок узнал его своими потухающими глазами. Он собрал последние силы, подполз к ногам Нолли и, судорожно вытянувшись, умер у этих ног.
Нолли смотрел на него, гладил его труп, и воспоминания быстро пробегали в его голове. Ему представлялось, как он лежал с Волчком в одной конуре, как никогда он не разлучался с ним, как Волчок вез его в бочке по морю и как привез, наконец, к его дорогой Миле, на остров Попугаев. И вот ничего, ничего теперь не осталось от этой верной любящей натуры, кроме неподвижного трупа. И сердце Нолли сжималось и ныло, а Мила рыдала, припав к плечу его. Слезы ее падали на землю. Это были первые слезы на острове феи Лазуры, и каждая слезинка, падая на землю, превращалась в черную розу.
X
А вдали снова раздавалась все та же веселая музыка. Ближе и ближе неслись ее звуки, и вот прямо к тому месту, где стояли, наклонясь над трупом Волчка, Мила и Нолли, летел бешеный, веселый поезд. Он все обхватывал кругом неудержимым весельем, и все летело за ним, в упоении и в восторге: летели птицы, летели бабочки, летели цветы, которые не могли удержаться на своих стебельках, даже листья – упавшие, мертвые листья, и те не выдержали, крутились и вихрем неслись вместе с летучим поездом.
– Мила, Мила, Нолли! – кричали, проносясь мимо, их вчерашние друзья и подруги. – За нами, за нами, в золотые рощи, на Зеленое Озеро!
Вот подлетела к ним и фея Лазура, лежа на огромной белой чайке, такая же блестящая и веселая, как вчера, подлетела и быстро остановилась.
– Неисправимые дети неисправимого людского рода! – вскричала она и засмеялась. – Вы плачете над мертвой собакой! Поймите, что здесь, в моем царстве наслаждения, нет, не должно быть ни страдания, ни сострадания. Колесо жизни вечно вертится, образы ее мелькают, вечно меняясь и переливаясь друг в друга; жизнь играет с ними как дитя, с полной, безграничной свободой. Поймите же это, и пусть в ваших детских сердцах также играет безграничное, свободное, бесстрастное веселье!.. Этот труп собаки на вашей земле долго бы гнил, медленно превращаясь в новые образы: здесь эти превращения совершаются мгновенно.
И она махнула длинным шарфом, который обвивал ее стройную талию – и труп Волчка вдруг превратился в пышный куст розмарина.
И фея Лазура унеслась вместе с веселым поездом. А Мила и Нолли, обнявшись, пошли прочь от куста розмарина, который для них был так же чужд, как и все, что их окружало.
Они ушли в густую, тенистую чащу темных миртовых деревьев, и там сели под раскидистым кедром.
– Нолли, – говорит Мила, закрыв глаза, – мои мысли бегут, и я никак не могу остановить их. Голова моя кружится. Скажи мне, дорогой мой, что такое смерть? И неужели, как говорила Лазура, жизнь есть вечная перемена различных образов? Для чего же живем мы, волнуемся, страдаем, и неужели действительно нет ничего лучше, выше, блаженнее той жизни, которой живут эти веселые дети, окружающие Лазуру?
– Мила моя, – говорит Нолли, – сердце привыкает к тем волнениям, с которыми сжилось оно с детства, ему тяжело расстаться с этими сильными, но сладкими страстями. Если же оно не сроднилось с ними, то для него нет ничего желаннее мирных удовольствий, среди которых так легко и свободно живется…
– Ах, нет, нет, дорогой мой! Это все не то, – говорит Мила, грустно качая головкой. – Я не могу передать того, что думаю, что чувствую, но это все не то!..
И они оба замолчали, и думы их шли разными путями. А время летело быстро и незаметно, без шума, в этой невозмутимой тиши тенистой рощи.
– Мила, друг мой, – говорит Нолли. – В чувствах, как в море, есть приливы и отливы, – и в них есть темные и светлые стороны, ночь и день. Потеря Волчка представляет тебе все в черном тумане, и для светлого чувства нет теперь места в твоем страдающем сердце. Но это чувство пройдет, как проходит все в этом изменяющемся мире, и его место займет тихая радость. Если бы в нашем сердце волновались постоянно глубокие, сильные страсти, оно не выдержало бы этого высокого могучего строя, и его тонкие струны должны были бы разорваться. Но жизнь идет своим мелким, обычным ходом, и на ее мелочах успокаивается это нежное, чуткое сердце, до новых тревог и волнений. Когда же для него открывается мир тех мелких восторгов, которыми наслаждаются эти дети Голубых островов, тогда оно живет постоянно ровной, счастливой жизнью.
– Ах, нет, это не то, это все не то, дорогой мой.
– Поверь, моя родная, – уверяет Нолли, – что когда улягутся в тебе грустные волнения этого дня, ты веселее взглянешь на все тебя окружающее, и все покажется тебе в другом свете.
Мила припала к груди его и ничего не отвечала, потому что чувствовала, что все это не то, и ей было тяжело, что ее дорогой друг Нолли не понимает ее.
– Мила, – говорит Нолли, – я помню, когда я был маленьким мальчиком, я целый день работал, и я помню, как говорили, что тот доволен и весел, кто жизнь свою проводит в полезных трудах.
– Но для чего же трудиться, Нолли, – шепчет Мила, – когда нет нужды в этом труде, и тебя окружает полное довольство?..
И как бы в подтверждение слов ее, перед ними вдруг развернулась белая скатерть, и вся она уставилась вкусным, роскошным обедом. А они долго сидели молча и смотрели на этот обед.
– Мила, – сказал Нолли, – когда голод давит нас, то все представляется нам в уродливом и грустном виде, а мы с самого утра ничего не ели с тобой, дорогой друг, съешь хоть что-нибудь, попробуй, и твои тяжелые думы уснут, и сердцу станет легче.
Мила хочет напомнить Нолли, что она по целым дням ничего не ела, когда ждала его или считала его умершим; что человек не может есть, когда он весь переполнен тяжелым волнением… но она не хочет огорчить своего дорогого Нолли и берет сочный, ароматный плод. Она вспоминает при этом, как приносили ей такие же плоды попугаи. Ах! Это было так недавно, а ей кажется, что уже целые годы пролетели с тех пор, пока она оставила остров Попугаев, на котором протекло ее беззаботное детство. Правда, она испытала там много страданий, но они были легче, да, гораздо легче тех тяжелых дум и вопросов, которые поглотили теперь все ее сердце, все ее мысли.
– Мила, – говорит Нолли, – выпей немного вина, и в твоем сердце заиграет оно и прогонит из головы тяжелые думы.
– Нет, – говорит Мила, – моих тяжелых дум не прогонишь вином, и разве это счастье – жить в каком-то опьяняющем чаду? Разве жизнь – шутка? неужели и мысли надо так же гнать из головы, как чувства из сердца? Ах, дорогой мой! Что же тогда останется в жизни?..
XI
И Мила сидит с своими тяжелыми, неразрешимыми думами. Нолли целует ей руки, глаза, голову, но Мила сидит неподвижная, как бы окованная тяжелым, заколдованным сном.
– Мила, – говорит Нолли, и голос его дрожит, – дорогая моя Мила, что с тобою? Мне страшно за тебя и за себя: мне кажется, что ты не любишь меня больше!..
– Нет, Нолли, нет, мой милый друг, – и она крепко целует его, – я люблю тебя, но скажи мне: разве любовь не то же опьянение? Разве рано или поздно не ослабнут ее натянутые струны? Разве не улетят все грезы и ее сладкие волнения, как милый, обманчивый сон, и чувства не завянут в нас, как цветы поздней, морозной осенью? И тогда… что же останется в жизни?.. Ах, Нолли, Нолли! Скажи мне, для чего мы живем?!.
И она ломает руки, и голова ее, измученная этим неразрешимым вопросом, тихо склоняется на грудь.
Она закрывает глаза, и ей кажется, что она одна, одна в каком-то громадном, темном пространстве, и ряд образов носится перед нею.
Целую ночь просидел Нолли над нею, не смыкая глаз и не понимая, что с ней делается. У него самого сердце горело и мысли путались в каком-то тумане.
XII
А в тихом тумане ясного утра уже разливаются все те же звуки волшебной, веселой музыки.
– В них нет страдания и нет сострадания! – думает Нолли.
И снова проносится вихрем воздушный караван. Они несутся, эти чудные дети, в легких, как воздух прозрачных, белых одеждах на белых, серебристых, длиннорунных ламах.
– Мила! Нолли! – кричат они, – летим туда, на вершины холодных гор, купаться в утренних, серебристых туманах!
И Мила вдруг как будто очнулась от безумия.
– Нолли! – говорит она, схватив его за руку, – что же, несемся, дорогой мой, туда, туда, в вышину, в холодные туманы: мне ведь надо умыть мою горячую голову и пылающую грудь!
И они вскакивают на двух длинношерстых лам с розовыми ушами и несутся, несутся вихрем вместе со всем ликующим, воздушным караваном.
И, как птицы, порхают мимо них кусты, деревья, поляны, гигантские цветы и шумные каскады. Выше и выше встают голубые горы, круче становятся подъемы, глубже обрывы, громаднее разбросанные камни. Ламы летят, как бешеные. Целый поток сверкающих искр брызжет из-под их острых копыт.
Свежий горный воздух обдает горячее лицо Милы. Ее глаза блестят восторгом.
– Опьяненье! опьяненье! – шепчет ей все тот же неугомонный внутренний голос.