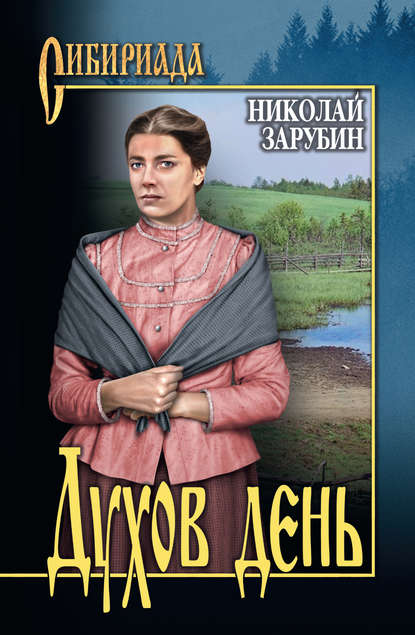По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Духов день (сборник)
Серия
Год написания книги
2017
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Понимал её положение и Устин, поглядывая теперь из хозяйского угла на заученно-суетящуюся у печи бабу, так и не ставшую за десять лет совместного проживания своей. Поглядывал, как на печь, около которой та суетилась, как на всхрапывающего за окном коня, как на улёгшегося мордой на лапы цепного кобеля.
Думал думу о своём, доступном только ему одному.
Может, только когда наезжал со своей бабой Матрёной давний дружка Тимоха Дрянных, в избе четы Брусникиных и селился жилой дух. Мужики усаживались на своей половине, бабы – на своей, и всяк по-своему отводил душу.
– Слышко, Устин, – хрипловато клонился к приятелю Тимоха, – навезла чего-то тятьке с маткой, а Степан Фёдорыч ей швейную машину отвалил. Моя бегала, так все спознала. Малец-то, Петька, вроде и не похож ни на Настю, ни на ейного политика. А девчонка – вылитая Сенька, так и глядит исподлобья.
Отвалился, хихикая.
Устин сдерживал себя, хорошо зная дружка закадычного, – неспроста говорил тот ему про занозу.
Но, бывало, и кулаком по столу треснет, испытывая наслаждение и от враз заметавшихся глазёнок Тимохи, и от наступившей вдруг тишины в избе.
Лил в глиняные стаканы себе, Тимохе, и выплёскивалась самогонка в глотки мужиков незамедлительно. И уже Устин клонился к приятелю:
– Ты, варначья твоя душа, затем прибыл, чтоб нутро мне вывернуть? Не радуйся, а попомни моё слово: не быть ей за Сенькой, хоть, бл… натаскать успела от энтого зарубинского отродья…
Матерился, скрипел зубами, но и тут умел совладать с собой.
Менялись на столе хозяйские яства, лилась рекой самогонка.
Засыпали тут же, за столом. И тогда уж в полный голос распускали языки бабы – обо всём, что было и не было в их деревнях, что было и не было в их семьях. Но если Матрёна могла позволить себе на чём свет стоит костерить своего Тимофея – мужика во всём ей покорного и бесхарактерного, то Ульяна больше говорила о прибытках хозяйственного порядка и о том, что Устин уж не тот, что в Афанасьеве, и что всего у неё в достатке – и шалей, и юбок, и кофт, и буднего, и праздничного.
– А счастья-то хватат? – наклонялась к приятельнице захмелевшая Матрёна. – Ласкат он тебя-то?.. Чё деток-то не заводите?..
Изводила, изгалялась. Портила заглянувший в душу Ульяны праздник. Насладившись своей бабьей извечной усладой – укорить в чём бы то ни было, говорила примирительно:
– И с ими, девка, тож мука. То пелёнки, то сопли, то одевай, то обувай, то жени, то замуж отдавай.
И заканчивала:
– Живёте – и живите себе. Добро в избе – тоже счастье.
И пели бабы песни, и полыхал медью и жаром на столе самовар.
Дня через два вслед за Дрянными собирался в Афанасьево и Устин. Знала, зачем едет, молча подсобляла собираться, выходила за ворота и с каждым разом всё больше чувствовала, как усыхает в ней даже не женская гордость – человек усыхает.
Ни горести, ни вздоха, ни сожаленья.
…К туго завязанному житейскому узлу стремится живая русская женская душа: в счастье ли, несчастье ли, в горе ли, радости ли. Чего умом не постигнет – сердцем почувствует. Чего сердцем не почувствует, до того через дитя, рождённое в муках, дойдёт. Но всяким умом она хороша – большим ли, малым ли. Всяким сердцем чиста – полным ли любовью ответной или поруганным. Всякой статью. Во всякие года – молодые ли, зрелые, унёсшие ли жизнь за черту одряхления. И хотя у каждой своя молитва, своя дорога – и молитва об одном, и дорога к единому – к семейному очагу. До гробовой доски кладёт силы она, дабы огонь в очаге том не затухал. Ну а ежели огня и духом не бывало, души своей живой раскалённые угли подкладывает в тот очаг, пока не истратит последний. Тогда уж – конец. И жизни, и самой земле.
Допёк-таки Настасью Устин. Переехала к нему в начале июня, посадив в огороде картошку и всякую овощную мелочь – кто ж знает, как сложится жизнь с новым мужем и чем потом будешь жить.
На заимке Устиновой жила с ребятишками почитай два месяца. Отсеялись, приспело время косьбы.
С вечера отбивал Устин литовки, приспособившись подвешивать черенок к прибитой между берёзиной и стеной жилой избы жердине, на которой обычно висели телячьи и бараньи шкуры. Высокий звук ударов кривого молотка проникал через стены, тревожа душу Настасьи давними воспоминаниями о подготовке к покосу в родительском доме, а затем и в её собственной, образовавшейся с Семёном, семье.
Три года не слышала она этот звук, снося в пору сенокосную, пока была еще коровёнка, литовки к братке Гане. Теперь двигалась по избе, ловила слухом знакомый от рождения стук, никак не могла отделаться от привязливых своих дум.
В Заводе никто не выказал особого внимания к появлению новой хозяйки в избе Устина Брусникина. Не до того было. Спиртовое производство с исчезновением неведомо куда исконного владельца Федора Акимовича Черемных – пришло в запустение, а Советы не торопились налаживать. И чем было питать то производство при всеобщей скудности? Картошки – себе бы нарыть, свёколка, та и вовсе вывелась – каждый норовил запастись на зиму чем посытнее. Мало приспособленный к земле народ здешний от века кормился от ведра произведенного в Заводе спирта. Корову, конечно, держал всякий. Лошадь, понятно, тоже имел. Огород на семью. Но заимок, как у родителей Ульяны, по пальцам одной руки сосчитать.
И откуда им взяться? Скальный берег реки Ии – с одной стороны. Невысокий, поросший ивняком и черемуховыми кустами берег речки Курзанки, впадающей в неё, – тут же. Со стороны Тулуна подпирают деляны опытной станции. Остается урочище Угуй – место ладное, на которое зарились и заводские.
Правда, после двух войн – германской и Гражданской – народу заметно поубавилось, хоть и старался сибирский мужик меньше влазитъ в братоубийственную свару. Но в первую брали не спрося, от второй убежать и того было труднее – убежишь разве от своего же соседа, ежели приспичило ему перекраситься в красный цвет и драть горло за мировую революцию? Такой скорей любого чужого придвинется с ножом к горлу – и коровёнку порешит, и лошадёнку со двора сведет.
Приглядываясь к хозяйству Устина, не могла поначалу надивиться, как это он скотину умудрился уберечь. Две дойных коровы, три телка, две лошади и вся к ним справа. Водилось и зерно, имелось пчелиных колод эдак с пяток.
Потихоньку-помаленьку голова приходила в ясность, глаза примечали недоброе.
Неспроста, видно, родитель посватал Устину Ульяну – дочь Полину. Ох неспроста… Всё вызнал, все просчитал. И разговор у хитрого Федота с сыном состоялся в своё время основательный. Не на девице красной женил, на наследстве, которому молодые руки жадного до богачества Устина были в самую пору.
Знал Федот и о зверском отношении сына к супруге. Знал, да помалкивал, кося глазом в сторону своей половины. Он и сам женился с соображением, и сам в молодости не щадил её даже при подрастающих детях. «Жена, что норовистая кобылица, – любил говаривать, – бей, ежели уросит, но пуще того, ежели не уросит… Наперед, чтоб не баловала…»
Поговаривали в Афанасьеве, что Федот связан не то с цыганами, не то ещё с кем. Основанием для того служили частые отъезды старшего Брусникина из деревни, особенно в базарные дни. Брал с собой старшего сына Павла, а однажды привёз его в санях подстреленным. Насмерть. Далеко слышно было, как голосила по сыну мать – поначалу от горя голосила, а потом и от науки Федотовой, чтобы не выкрикивала лишнего, поскольку Пелагея, забывшись, в причитаниях своих винила в смерти Павла самого Федота.
Поездки свои Брусникин стал совершать реже, но младшего своего, Устина, с собой уже не брал, желая, видно, поостеречь его от участи старшего сына.
С годами остарел и к началу германской выезды, можно сказать, бросил совсем, не заказав, однако, дорогу к жилищу своему сумрачному, не известному на деревне люду. То ли для схорону везли те люди к Федоту награбленное-наворованное – никто ведь не заглядывал в возки. То ли для совета. То ли ещё для чего. Но что везли – точно: видели люди, как носили в амбар поклажу. А с переездом Устина в Завод стали заезжать и туда – одно племя-то, брусникинское. Да и фамилия – Брусникины – как нельзя лучше к ним лепилась: с виду вроде люди, а копни глубже – звери. Короче, ягода не ягода – кровь алая, запёкшаяся…
И чего ездили – бог весть. Ездили при Ульяне, наехали тут на днях и при Настасье.
Незнакомые всё, но один – гривастый и безбородый – всё же встречался ей: видела его с племянницыным дружком.
Собрала на стол, сам Устин припёр четверть самогону, а потом, отозвав её в куть, просительно выговорил:
– Ты бы, Настасьюшка, не глазела на нас, на мужиков, сходила бы куда, чё ли?..
Понятно, не хотят свидетелей иметь. Глянула на него исподлобья и вышла.
Заделье, конечно, найти можно было и во дворе, но вдруг впервые за эти, почитай, два месяца жизни с Устином заворочались пока мало понятные ей самой мстительные мысли в мозгу, так что присела на притулившуюся возле бани лавчонку и не шутя призадумкалась.
– Так-так-так… – пробормотала в конце концов и, будучи уверена, что её никто не видит, направилась к телеге, на которой приехали непрошеные гости.
– Так-так-так… – продолжала бормотать, шаря рукой под рогожиной.
Верёвка, топор, две культяпки обрезанных винтовок. Подскочил Петька.
Думал думу о своём, доступном только ему одному.
Может, только когда наезжал со своей бабой Матрёной давний дружка Тимоха Дрянных, в избе четы Брусникиных и селился жилой дух. Мужики усаживались на своей половине, бабы – на своей, и всяк по-своему отводил душу.
– Слышко, Устин, – хрипловато клонился к приятелю Тимоха, – навезла чего-то тятьке с маткой, а Степан Фёдорыч ей швейную машину отвалил. Моя бегала, так все спознала. Малец-то, Петька, вроде и не похож ни на Настю, ни на ейного политика. А девчонка – вылитая Сенька, так и глядит исподлобья.
Отвалился, хихикая.
Устин сдерживал себя, хорошо зная дружка закадычного, – неспроста говорил тот ему про занозу.
Но, бывало, и кулаком по столу треснет, испытывая наслаждение и от враз заметавшихся глазёнок Тимохи, и от наступившей вдруг тишины в избе.
Лил в глиняные стаканы себе, Тимохе, и выплёскивалась самогонка в глотки мужиков незамедлительно. И уже Устин клонился к приятелю:
– Ты, варначья твоя душа, затем прибыл, чтоб нутро мне вывернуть? Не радуйся, а попомни моё слово: не быть ей за Сенькой, хоть, бл… натаскать успела от энтого зарубинского отродья…
Матерился, скрипел зубами, но и тут умел совладать с собой.
Менялись на столе хозяйские яства, лилась рекой самогонка.
Засыпали тут же, за столом. И тогда уж в полный голос распускали языки бабы – обо всём, что было и не было в их деревнях, что было и не было в их семьях. Но если Матрёна могла позволить себе на чём свет стоит костерить своего Тимофея – мужика во всём ей покорного и бесхарактерного, то Ульяна больше говорила о прибытках хозяйственного порядка и о том, что Устин уж не тот, что в Афанасьеве, и что всего у неё в достатке – и шалей, и юбок, и кофт, и буднего, и праздничного.
– А счастья-то хватат? – наклонялась к приятельнице захмелевшая Матрёна. – Ласкат он тебя-то?.. Чё деток-то не заводите?..
Изводила, изгалялась. Портила заглянувший в душу Ульяны праздник. Насладившись своей бабьей извечной усладой – укорить в чём бы то ни было, говорила примирительно:
– И с ими, девка, тож мука. То пелёнки, то сопли, то одевай, то обувай, то жени, то замуж отдавай.
И заканчивала:
– Живёте – и живите себе. Добро в избе – тоже счастье.
И пели бабы песни, и полыхал медью и жаром на столе самовар.
Дня через два вслед за Дрянными собирался в Афанасьево и Устин. Знала, зачем едет, молча подсобляла собираться, выходила за ворота и с каждым разом всё больше чувствовала, как усыхает в ней даже не женская гордость – человек усыхает.
Ни горести, ни вздоха, ни сожаленья.
…К туго завязанному житейскому узлу стремится живая русская женская душа: в счастье ли, несчастье ли, в горе ли, радости ли. Чего умом не постигнет – сердцем почувствует. Чего сердцем не почувствует, до того через дитя, рождённое в муках, дойдёт. Но всяким умом она хороша – большим ли, малым ли. Всяким сердцем чиста – полным ли любовью ответной или поруганным. Всякой статью. Во всякие года – молодые ли, зрелые, унёсшие ли жизнь за черту одряхления. И хотя у каждой своя молитва, своя дорога – и молитва об одном, и дорога к единому – к семейному очагу. До гробовой доски кладёт силы она, дабы огонь в очаге том не затухал. Ну а ежели огня и духом не бывало, души своей живой раскалённые угли подкладывает в тот очаг, пока не истратит последний. Тогда уж – конец. И жизни, и самой земле.
Допёк-таки Настасью Устин. Переехала к нему в начале июня, посадив в огороде картошку и всякую овощную мелочь – кто ж знает, как сложится жизнь с новым мужем и чем потом будешь жить.
На заимке Устиновой жила с ребятишками почитай два месяца. Отсеялись, приспело время косьбы.
С вечера отбивал Устин литовки, приспособившись подвешивать черенок к прибитой между берёзиной и стеной жилой избы жердине, на которой обычно висели телячьи и бараньи шкуры. Высокий звук ударов кривого молотка проникал через стены, тревожа душу Настасьи давними воспоминаниями о подготовке к покосу в родительском доме, а затем и в её собственной, образовавшейся с Семёном, семье.
Три года не слышала она этот звук, снося в пору сенокосную, пока была еще коровёнка, литовки к братке Гане. Теперь двигалась по избе, ловила слухом знакомый от рождения стук, никак не могла отделаться от привязливых своих дум.
В Заводе никто не выказал особого внимания к появлению новой хозяйки в избе Устина Брусникина. Не до того было. Спиртовое производство с исчезновением неведомо куда исконного владельца Федора Акимовича Черемных – пришло в запустение, а Советы не торопились налаживать. И чем было питать то производство при всеобщей скудности? Картошки – себе бы нарыть, свёколка, та и вовсе вывелась – каждый норовил запастись на зиму чем посытнее. Мало приспособленный к земле народ здешний от века кормился от ведра произведенного в Заводе спирта. Корову, конечно, держал всякий. Лошадь, понятно, тоже имел. Огород на семью. Но заимок, как у родителей Ульяны, по пальцам одной руки сосчитать.
И откуда им взяться? Скальный берег реки Ии – с одной стороны. Невысокий, поросший ивняком и черемуховыми кустами берег речки Курзанки, впадающей в неё, – тут же. Со стороны Тулуна подпирают деляны опытной станции. Остается урочище Угуй – место ладное, на которое зарились и заводские.
Правда, после двух войн – германской и Гражданской – народу заметно поубавилось, хоть и старался сибирский мужик меньше влазитъ в братоубийственную свару. Но в первую брали не спрося, от второй убежать и того было труднее – убежишь разве от своего же соседа, ежели приспичило ему перекраситься в красный цвет и драть горло за мировую революцию? Такой скорей любого чужого придвинется с ножом к горлу – и коровёнку порешит, и лошадёнку со двора сведет.
Приглядываясь к хозяйству Устина, не могла поначалу надивиться, как это он скотину умудрился уберечь. Две дойных коровы, три телка, две лошади и вся к ним справа. Водилось и зерно, имелось пчелиных колод эдак с пяток.
Потихоньку-помаленьку голова приходила в ясность, глаза примечали недоброе.
Неспроста, видно, родитель посватал Устину Ульяну – дочь Полину. Ох неспроста… Всё вызнал, все просчитал. И разговор у хитрого Федота с сыном состоялся в своё время основательный. Не на девице красной женил, на наследстве, которому молодые руки жадного до богачества Устина были в самую пору.
Знал Федот и о зверском отношении сына к супруге. Знал, да помалкивал, кося глазом в сторону своей половины. Он и сам женился с соображением, и сам в молодости не щадил её даже при подрастающих детях. «Жена, что норовистая кобылица, – любил говаривать, – бей, ежели уросит, но пуще того, ежели не уросит… Наперед, чтоб не баловала…»
Поговаривали в Афанасьеве, что Федот связан не то с цыганами, не то ещё с кем. Основанием для того служили частые отъезды старшего Брусникина из деревни, особенно в базарные дни. Брал с собой старшего сына Павла, а однажды привёз его в санях подстреленным. Насмерть. Далеко слышно было, как голосила по сыну мать – поначалу от горя голосила, а потом и от науки Федотовой, чтобы не выкрикивала лишнего, поскольку Пелагея, забывшись, в причитаниях своих винила в смерти Павла самого Федота.
Поездки свои Брусникин стал совершать реже, но младшего своего, Устина, с собой уже не брал, желая, видно, поостеречь его от участи старшего сына.
С годами остарел и к началу германской выезды, можно сказать, бросил совсем, не заказав, однако, дорогу к жилищу своему сумрачному, не известному на деревне люду. То ли для схорону везли те люди к Федоту награбленное-наворованное – никто ведь не заглядывал в возки. То ли для совета. То ли ещё для чего. Но что везли – точно: видели люди, как носили в амбар поклажу. А с переездом Устина в Завод стали заезжать и туда – одно племя-то, брусникинское. Да и фамилия – Брусникины – как нельзя лучше к ним лепилась: с виду вроде люди, а копни глубже – звери. Короче, ягода не ягода – кровь алая, запёкшаяся…
И чего ездили – бог весть. Ездили при Ульяне, наехали тут на днях и при Настасье.
Незнакомые всё, но один – гривастый и безбородый – всё же встречался ей: видела его с племянницыным дружком.
Собрала на стол, сам Устин припёр четверть самогону, а потом, отозвав её в куть, просительно выговорил:
– Ты бы, Настасьюшка, не глазела на нас, на мужиков, сходила бы куда, чё ли?..
Понятно, не хотят свидетелей иметь. Глянула на него исподлобья и вышла.
Заделье, конечно, найти можно было и во дворе, но вдруг впервые за эти, почитай, два месяца жизни с Устином заворочались пока мало понятные ей самой мстительные мысли в мозгу, так что присела на притулившуюся возле бани лавчонку и не шутя призадумкалась.
– Так-так-так… – пробормотала в конце концов и, будучи уверена, что её никто не видит, направилась к телеге, на которой приехали непрошеные гости.
– Так-так-так… – продолжала бормотать, шаря рукой под рогожиной.
Верёвка, топор, две культяпки обрезанных винтовок. Подскочил Петька.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: