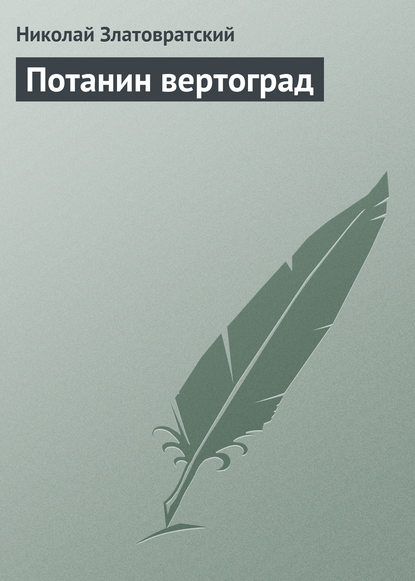По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Потанин вертоград
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Потанин вертоград
Николай Николаевич Златовратский
Как это было
«Нигде, кажется, нет стольких «мечтателей», как среди нас, русских. Это явление в высокой степени знаменательное. Мечта – что бы ни говорили против нее люди практические – ведь это поэзия жизни, заглушенный порыв к идеалу, страстное желание взмахнуть духовными крыльями, чтобы хотя на мгновение подняться над скорбной и серой юдолью жизни…»
Николай Николаевич Златовратский
Потанин вертоград
* * *
Нигде, кажется, нет стольких «мечтателей», как среди нас, русских. Это явление в высокой степени знаменательное. Мечта – что бы ни говорили против нее люди практические – ведь это поэзия жизни, заглушенный порыв к идеалу, страстное желание взмахнуть духовными крыльями, чтобы хотя на мгновение подняться над скорбной и серой юдолью жизни. И никогда, кажется, не плодилось у нас столько этих «мечтателей», как в годы, непосредственно предшествовавшие и следовавшие за «освобождением». Предо мною прошло много таких фигур, которые оставили на душе глубокий след.
Освободительные идеи уже носились в воздухе и проникали все глубже и глубже в самые глухие закоулки нашей родины – и вот из этих глухих «недр» вдруг потянулись, как из пещер на мерцающий вдали свет, какие-то странные личности, удивительные, приводившие всех в изумление, а иногда даже и в страх, о существовании которых никто, кажется, не мог даже и подозревать. Эти странные личности иногда появлялись и в зальце моего отца, поражая наше детское воображение. Личности были действительно странные: помещики – лохматые, бородатые, в нагольных или суконных полушубках и личных сапогах[1 - Личные сапоги – сшитые из кожи, повернутой стороной, где была шерсть, наружу.] или валенках, но в то же время в очках или с какими-то особыми перстнями «с сувенирами» на грубых, толстых, загорелых пальцах, курившие из каких-то особых «турецких» трубок с причудливыми чубуками; говорили они большею частью громко и грубовато, хотя нередко вставляли французские фразы, и очень много выпивали водки. Но зато над ними все добродушно подсмеивались и говорили, что это самый милейший и добрейший народ, за исключением, впрочем, истинных «бар», которые ими брезговали и посматривали на них очень подозрительно, встречая их теперь, к своему изумлению, на дворянских собраниях. Все они приезжали в город, обыкновенно, в простых крестьянских пошевнях[2 - Пошевни – широкие сани, розвальни.] или телегах, всегда рядом с «братом-мужиком», который, однако, непременно оказывался каким-нибудь особенным, «феноменальным мужиком»; этого «феноменального» брата-мужика они почти насильно тащили с собой в комнаты, к гостям и в гости, поили водкой и рассказывали присутствующим про его какие-нибудь необыкновенные дарования: то он оказывался замечательным оратором и знатоком народных песен и мотивов, то изобретателем удивительных машин, но настоящим «министром» по уму…
– Вот оно где сидит – это будущее-то!.. Вот здесь-с!.. Дайте только нам с ним ход!.. Уж поверьте нам, мы с ним из одной чашки одной ложкой хлебаем!..
И увлеченный патрон, похлопывая по плечу своего протеже, машет возбужденно руками, ерошит на голове волосы и особенно выразительно сверкает на всех глазами, в которых так ясно светится какая-то неизреченная «мечта»…
Потом – какие-то удивительные добровольцы из духовного звания, добровольцы-расстриги[3 - Расстрига – служитель религиозного культа, лишенный сана, или монах, лишенный монашества.], чрезвычайно неловко чувствовавшие себя в мешковатых, купленных наскоро и по случаю сюртуках, и брюках, не знавшие, куда девать свои руки и ноги, и стыдившиеся своих подстриженных затылков и бритых бород. Это они вдруг расстались с своими «пещерами» и, гонимые какой-то изумительной «мечтой», выношенной в длинные вечера в своих берлогах, двинулись в города и столицы «приложить свои силы к делу… на светском поприще».
А вот какой-то толстенький, низенький, с проседью человек, мещанин, надевший барский сюртук, но забывший переменить сапоги-кубышки, подбривающий по-прежнему, как рекрут, затылок и носящий оловянную серьгу в ухе. Это – бывшая правая рука знаменитого откупщика, вдруг взбунтовавшийся какой-то дикой мечтой, и теперь вот чего-то волнуется, бегает, суетится, плюется, на чем свет ругает и проклинает и своего бывшего «хозяина» и свою собственную «продажную душу», не дает никому покоя своим покаянным порывом и доносами на всевозможные откупные фортели и плутни и какими-то невероятными реформаторскими проектами., которые он сочиняет сотнями, просиживая напролет целые ночи в грязных номерах гостиниц. А вот еще – высокий, белобрысый, длинный и сухой, как веха, юный послушник, с висящими косицами желтыми волосами, в шумящем коленкоровом полукафтане. Он постоянно всех просит шепотом на пару слов, «по секретному делу», и затем, уведя собеседника куда-нибудь за печку, целый час мучит его какими-то странными, маловразумительными сообщениями, вытаскивая в то же время таинственно из-за пазухи целый ворох стихотворных упражнений «обличительного направления»…
Было тут же немало и крестьян, но так как все они в то время принадлежали к какому-то особому «секретному» разряду людей, с которыми разговаривали не иначе как в темных передних, или сенях, или прямо на кухне, и то какими-то полунамеками, то вначале мы, дети, имели о них очень смутное представление.
Намечались уже в то время личности и несколько другого характера, так сказать «обратного течения» – не «из недр», а «в недра». Я помню хорошо одного мелкого чиновника, уже не молодого, лет тридцати, который до того заинтересовался «начавшимся делом», что чуть не каждый день приходил к нам, говорил с отцом, прислушивался ко всему, что только имело какое-нибудь отношение к делу, но сам не высказывался, а между тем все более становилось заметно, что он что-то носил в душе, что-то в нем назревало. Это был раньше просто скромный, задумчивый, одинокий человек, а теперь вдруг он сделался оживленным, нервным; он чего-то ждал напряженно, со страхом, но вместе и с надеждой на что-то такое, что должно было его спасти чуть не от смерти. Он был словно заключенный, считавший лихорадочно минуты своего освобождения, о котором до него долетела смутная молва. И действительно, когда «вопрос» был уже окончательно решен, он пришел к нам и торжественно объявил отцу, что «он теперь свободен»! И в доказательство прибавил, что уже продал довольно удачно «всю форменную свою пару». Оказалось, что Буднев (так его звали) подал в отставку и заявил его преосвященству[4 - Преосвященство – в соединении с местоимениями «его», «ваше», «их» – титулование епископа.] о своем смиренном желании «принять иноческий[5 - Иноческий – то же, что монашеский.] чин». Это было так неожиданно, что даже отец был изумлен. И только впоследствии оказалось, что тайною мечтою Буднева было поступить в миссионеры[6 - Миссионер – проповедник, посылаемый церковью для религиозной проповеди и распространения христианства среди нехристиан.]… Но почему он не мог это все сделать раньше, почему все это было приурочено им к освобождению крестьян, к которому он мог иметь только очень отдаленное отношение, – это, как и многое другое, касавшееся всех этих странных личностей, составляло загадку, еще раз доказывавшую только, что 19 февраля было у нас явлением далеко не сословного только характера: оно являлось преддверием великого освобождения личности вообще, как материального, так и духовного. Чтобы хотя несколько понять это и почувствовать, достаточно было в то время взглянуть на Буднева, когда, после нескольких месяцев «искуса» в каком-то монастыре, он явился к нам, вместо знакомого, шаблонного вицмундира, в новеньком черном подряснике, подпоясанном широким кожаным поясом, с отпущенной бородкой и уже длинными волосами; глаза его вдохновенно горели, все в нем было возвышенно и торжественно. Да, действительно, «он, наконец, был свободен!..». И в сияющих взорах этого чудака светилась та же таинственная всепокоряющая «мечта», которая раскрывала пред ним какие-то неизреченные перспективы.
Все это были, конечно, «чудаки», личности несколько исключительные, но в этих оригинальных «уродцах», выброшенных со дна взбудораженной общественной и народной стихии, может быть, невидимо прозябали те ростки, которые после сказались в явлениях изумительных и большого значения.
Но эти «чудаки» были и в глазах своих собственных и наших «люди серьезные», а потому исключительно имели дело с моим отцом и всегда наполняли только наше зальце. Но у нас, на детской половине, у матушки, хотя и не призванной к «серьезной, деловой жизни», были, однако, свои «мечтатели», свои чудаки и оригиналы, заявлявшие какие-то свои права на жизнь, и, конечно, это были прежде всего женщины. И в то время когда для нас, детей, серьезные люди батюшкиной половины были малопонятны и являлись только чудаками и оригиналами, – мечтатели, ютившиеся скромно и робко около матушки, напротив, всегда как-то очень скоро становились для нас своими людьми, «живыми», к которым мы сразу привязывались своей детской душой.
Бывало, вдруг вынырнет на свет божий из каких-то неведомых ни для кого палестин такая «душа» (и, вероятнее всего, еще крепостная), заявится к нам, всегда сначала по каким-то «делам», а там, глядишь, и живет у нас неделю и другую: нас спать укладывает, сказки рассказывает, грудного ребенка по целым часам нянчит, с матушкой по ночам какие-то таинственные беседы ведет, словно она с нами век прожила, выходила нас и вынянчила. Живет-живет так, бережно храня на сердце что-то дорогое и заветное, и вдруг снова нырнет, иной раз навсегда и бесследно, и исчезнет в необозримой глуши наших палестин. А иной раз… иной раз такая бродячая душа неожиданно соединит свои судьбы с твоими невидимыми и непостижимыми узами…
– Ну, вот и опять я прилетела к вам, милые птенчики! Прилетела опять, надоедница!
Эти слова, обыкновенно, произносились таким ясным, звонким, птичьим тоненьким голоском, что он, мне кажется, еще сейчас звенит около меня.
Мы, малые птенцы, заслышав этот голос, восторженно поднимали кверху руки и, как испуганные цыплята, еще не поздоровавшись с прилетевшей гостьей, летели стремглав в детскую к маме, в кабинет к отцу.
– Папа! мама!.. Прилетела! Прилетела!.. – Кто?
– Потаня! Да… Опять прилетела!.. Потаня!..
– А! Это опять она… Не сидится ей дома! Вот достанется ей на пряники… за эти шатанья, – притворно-сердито ворчит отец и с недовольным видом нервного, раздраженного человека спускает на нос очки и продолжает прерванное чтение.
Но мы мало обращаем внимания на слова отца и на тон, с которым они сказаны: мы чувствуем, что нам почему-то вдруг стало ужасно весело, смешно, радостно… Пробежав обратно детскую, где мама нервно возилась с больным ребенком, мы уже неслись снова навстречу прилетевшей гостье.
А «прилетевшая» гостья, по обыкновению, прежде чем войти в горницы, заходила на кухню и здесь, развязав мешок в уголке, укромно, тщательно переодевалась из дорожного в визитный костюм. Это одевание почему-то имело для нас особый, таинственный смысл. Мы останавливались молча за дверью и терпеливо ждали, когда кончится таинственный обряд. Наконец дверь тихо скрипела – и на пороге появлялась Потаня…
Это – такое маленькое, такое жалкое существо, о котором я никогда не мог вспоминать без чувства какого-то особого грустного и тихого умиления. Она стала ходить к нам еще задолго до того, как странные чудаки-мечтатели начали заполнять наше маленькое зальце. Потаня была уродец; с двумя горбами – на спине и груди, с маленькими ручками и ножками, она была до того низенького роста! что казалась даже ниже нас, десятилетних детей; несмотря на то что голова ее была несоразмерно велика, что на подбородке у нее сидела большая волосатая бородавка, что нос у нее был очень длинный и что ей было не меньше тридцати лет, лицо ее было такое улыбающееся, детски наивное, а быстрые глазки так живо бегали под густыми ресницами, что нам казалось всегда, что она вот-вот пустится прыгать и играть с нами в жмурки или в лошадки. И это было бы, вероятно, так, если б, по нашему мнению, не мешал ее парадный наряд. В этом парадном наряде она желала быть такой солидной, чопорной, степенной и… даже надменной!.. Да и как же могло быть иначе? Ведь это был ее генеральский мундир, ее драгоценность, ее родовое наследство, которое она хранила пуще глаза, никогда не расставалась с ним, постоянно носила бережно в мешочке и надевала только в самых важных случаях жизни. Такими важными случаями были, между прочим, тайные посещения ею нашего маленького городка. Я даже не могу сказать наверное, знал ли кто-нибудь в ее деревне и господской дворне, к которой она была приписана, о существовании ее парадного наряда. И что это был за изумительный наряд! В особенности для нас он был необычаен. Вы легко поймете наш восторг и изумление, когда после таинственного переодевания Потаня вдруг являлась перед нами в ярком пунцовом сарафане, спереди которого тянулся бесконечный ряд блестящих пуговок среди петель из золотого шнурка; подол этого удивительного сарафана был оторочен широчайшей каймой из позумента и целой прихотливой гирляндой цветов и листьев, вышитых шелком. Затем на Потане была надета обыкновенная душегрейка палевого цвета, значительно полинявшая, отороченная также позументом, а по воротнику и по бортам, кроме того, узкой меховой опушкой, местами, впрочем, повылезшей, и только на голове Потани был скромный платочек, из-под которого вилась чуть не до подола ее черная густая коса. Если к этому прибавить несколько колец и перстней, которые появлялись на ее тонких пальцах только в то время, когда она одевалась в свой знаменитый наряд, и, наконец, неизбежный чистый белый платочек, который она держала в руках и в который всегда было завернуто «что-то важное», то мы легко можем представить Потаню в тот момент, когда она являлась неожиданно из далекой деревни по каким-то «важным делам» в наш город. Очевидно, важные дела требовали, по ее мнению, и важного костюма.
И вот в таком-то торжественном виде наша маленькая Потаня, как-то особенно приседая и порхая, степенно входила в наше зальце, в то же время весело и любовно здороваясь с нами своими быстрыми, бегающими глазками.
– Ну, как живы, милые птенчики? Что папенька, что маменька? Все грустят? Ничего, потерпим господу… Будет весело, будет, милые птенчики!..– быстро звенела она своим птичьим голоском.
И затем, чинно протянув батюшке, с низкими поклонами, кончики своих маленьких тонких пальчиков, украшенных перстнями, и едва прикоснувшись ими к руке отца, она степенно садилась перед ним на краешек стула, едва дотрагиваясь до полу маленькими ножками.
– Ну-ну! опять прилетела! – говорил, подсмеиваясь и посматривая на нее, батюшка. – А зачем?
– Зачем, сударь?.. А все за тем же… Мы все за тем же…
И маленькая Потаня, не без тайной хитрости, как-то двусмысленно поигрывая глазками, смотрит в упор на батюшку.
– Ну, смотри! – грозил ей батюшка. – Ведь вы все бредите там? А о чем?.. Вздор все… все пустая болтовня… Ничего не будет… Зададут вот вам всем: чик! чик!..
– Будто уж, сударь, ничего еще об ином о чем неизвестно? – недоверчиво спрашивает Потаня и стыдливо опускает глаза при таинственных словах: «Чик! чик!»
– Ни о чем еще неизвестно… Ну, о чем? О чем тебе нужно? Ничего нет, ровно ничего нет… и не будет!.. Что вы там, с ума сошли все? – сердито ворчит батюшка на Потаню.
– Ну, это вы, сударь, напрасно… скрытность эту оказываете… Напрасно!.. Мы уж тоже известны кое о чем…
– Вздор, говорю тебе… Выбросьте из головы эти бредни, пока беды не нажили… Ну, что шляешься без толку? Ведь, поди, потихоньку сбежала? Ведь опять, как в прошлый раз, посадят на месяц на хлеб да на воду… засадят в свинарню… Или неймется? А то и того хуже будет… Не посмотрят, что золотой сарафан.
Батюшка начинал сердиться и уже раздраженно ходил по комнате, а Потаня еще стыдливее опускала при последних словах отца глаза, но по таинственному блеску их было заметно, что такими словами Потаню трудно смутить.
– Ну, что будет? Что? – вдруг сердито останавливался батюшка пред Потаней. – Ну, ежели кому и будет что-нибудь, так не нам с тобой, калекам. Мы все одно будем каторжную-то лямку тянуть. Для кого мы живем? Кому служим? Для своей-то души живем ли мы?
– Для души, сударь, – вот – вот истинное слово!.. Для души будем жить все… сообща… Вот-вот золотое слово!..– вдруг подхватывала Потаня и начинала восторженно-детски махать своими руками.
– Ну, что замахала?.. Чему обрадовалась? – еще сердитее ворчал батюшка. – Ну, кто тебе это позволит, сумасшедшая? Кто? Откуда тебе что известно?
– Ах, ах, сударь… Какой маловер! – качала головой Потаня, весело играя глазами.
– Ну вот, не угодно ли! И ей еще весело! Она всеми глазами смеется! – говорил батюшка, махая на нее в отчаянии рукой, как на неисправимую сумасшедшую.
– Стало быть, погодить велено, сударь?..– обыкновенно спрашивала Потаня. – В секрете еще это самое слово держать, стало быть, приказано?.. Ну что ж, погодим… А мы вот уж удумали… Так решили: как, господи благослови, объявится это слово, так чтобы, благословясь, и начать…
– Что такое удумали?
– А вот-с, извольте взглянуть…
И Потаня бережно развертывала свой чистый белый платочек и подавала торжественно отцу какую-то таинственную бумагу.
Отец развертывал засаленный лист бумаги и внимательно начинал читать, по-видимому с большим напряжением стараясь понять, в чем дело. И вдруг, не дочитав до половины, он бросал лист на стол, вскакивал в еще большем раздражении и, снова махнув безнадежно рукой, уходил в кабинет.
Потаня совсем конфузилась, в недоумении покачивала головой и тихонько шептала, свертывая опять бумагу в платочек:
– Ах, какие маловеры!.. Ах, какие…
Николай Николаевич Златовратский
Как это было
«Нигде, кажется, нет стольких «мечтателей», как среди нас, русских. Это явление в высокой степени знаменательное. Мечта – что бы ни говорили против нее люди практические – ведь это поэзия жизни, заглушенный порыв к идеалу, страстное желание взмахнуть духовными крыльями, чтобы хотя на мгновение подняться над скорбной и серой юдолью жизни…»
Николай Николаевич Златовратский
Потанин вертоград
* * *
Нигде, кажется, нет стольких «мечтателей», как среди нас, русских. Это явление в высокой степени знаменательное. Мечта – что бы ни говорили против нее люди практические – ведь это поэзия жизни, заглушенный порыв к идеалу, страстное желание взмахнуть духовными крыльями, чтобы хотя на мгновение подняться над скорбной и серой юдолью жизни. И никогда, кажется, не плодилось у нас столько этих «мечтателей», как в годы, непосредственно предшествовавшие и следовавшие за «освобождением». Предо мною прошло много таких фигур, которые оставили на душе глубокий след.
Освободительные идеи уже носились в воздухе и проникали все глубже и глубже в самые глухие закоулки нашей родины – и вот из этих глухих «недр» вдруг потянулись, как из пещер на мерцающий вдали свет, какие-то странные личности, удивительные, приводившие всех в изумление, а иногда даже и в страх, о существовании которых никто, кажется, не мог даже и подозревать. Эти странные личности иногда появлялись и в зальце моего отца, поражая наше детское воображение. Личности были действительно странные: помещики – лохматые, бородатые, в нагольных или суконных полушубках и личных сапогах[1 - Личные сапоги – сшитые из кожи, повернутой стороной, где была шерсть, наружу.] или валенках, но в то же время в очках или с какими-то особыми перстнями «с сувенирами» на грубых, толстых, загорелых пальцах, курившие из каких-то особых «турецких» трубок с причудливыми чубуками; говорили они большею частью громко и грубовато, хотя нередко вставляли французские фразы, и очень много выпивали водки. Но зато над ними все добродушно подсмеивались и говорили, что это самый милейший и добрейший народ, за исключением, впрочем, истинных «бар», которые ими брезговали и посматривали на них очень подозрительно, встречая их теперь, к своему изумлению, на дворянских собраниях. Все они приезжали в город, обыкновенно, в простых крестьянских пошевнях[2 - Пошевни – широкие сани, розвальни.] или телегах, всегда рядом с «братом-мужиком», который, однако, непременно оказывался каким-нибудь особенным, «феноменальным мужиком»; этого «феноменального» брата-мужика они почти насильно тащили с собой в комнаты, к гостям и в гости, поили водкой и рассказывали присутствующим про его какие-нибудь необыкновенные дарования: то он оказывался замечательным оратором и знатоком народных песен и мотивов, то изобретателем удивительных машин, но настоящим «министром» по уму…
– Вот оно где сидит – это будущее-то!.. Вот здесь-с!.. Дайте только нам с ним ход!.. Уж поверьте нам, мы с ним из одной чашки одной ложкой хлебаем!..
И увлеченный патрон, похлопывая по плечу своего протеже, машет возбужденно руками, ерошит на голове волосы и особенно выразительно сверкает на всех глазами, в которых так ясно светится какая-то неизреченная «мечта»…
Потом – какие-то удивительные добровольцы из духовного звания, добровольцы-расстриги[3 - Расстрига – служитель религиозного культа, лишенный сана, или монах, лишенный монашества.], чрезвычайно неловко чувствовавшие себя в мешковатых, купленных наскоро и по случаю сюртуках, и брюках, не знавшие, куда девать свои руки и ноги, и стыдившиеся своих подстриженных затылков и бритых бород. Это они вдруг расстались с своими «пещерами» и, гонимые какой-то изумительной «мечтой», выношенной в длинные вечера в своих берлогах, двинулись в города и столицы «приложить свои силы к делу… на светском поприще».
А вот какой-то толстенький, низенький, с проседью человек, мещанин, надевший барский сюртук, но забывший переменить сапоги-кубышки, подбривающий по-прежнему, как рекрут, затылок и носящий оловянную серьгу в ухе. Это – бывшая правая рука знаменитого откупщика, вдруг взбунтовавшийся какой-то дикой мечтой, и теперь вот чего-то волнуется, бегает, суетится, плюется, на чем свет ругает и проклинает и своего бывшего «хозяина» и свою собственную «продажную душу», не дает никому покоя своим покаянным порывом и доносами на всевозможные откупные фортели и плутни и какими-то невероятными реформаторскими проектами., которые он сочиняет сотнями, просиживая напролет целые ночи в грязных номерах гостиниц. А вот еще – высокий, белобрысый, длинный и сухой, как веха, юный послушник, с висящими косицами желтыми волосами, в шумящем коленкоровом полукафтане. Он постоянно всех просит шепотом на пару слов, «по секретному делу», и затем, уведя собеседника куда-нибудь за печку, целый час мучит его какими-то странными, маловразумительными сообщениями, вытаскивая в то же время таинственно из-за пазухи целый ворох стихотворных упражнений «обличительного направления»…
Было тут же немало и крестьян, но так как все они в то время принадлежали к какому-то особому «секретному» разряду людей, с которыми разговаривали не иначе как в темных передних, или сенях, или прямо на кухне, и то какими-то полунамеками, то вначале мы, дети, имели о них очень смутное представление.
Намечались уже в то время личности и несколько другого характера, так сказать «обратного течения» – не «из недр», а «в недра». Я помню хорошо одного мелкого чиновника, уже не молодого, лет тридцати, который до того заинтересовался «начавшимся делом», что чуть не каждый день приходил к нам, говорил с отцом, прислушивался ко всему, что только имело какое-нибудь отношение к делу, но сам не высказывался, а между тем все более становилось заметно, что он что-то носил в душе, что-то в нем назревало. Это был раньше просто скромный, задумчивый, одинокий человек, а теперь вдруг он сделался оживленным, нервным; он чего-то ждал напряженно, со страхом, но вместе и с надеждой на что-то такое, что должно было его спасти чуть не от смерти. Он был словно заключенный, считавший лихорадочно минуты своего освобождения, о котором до него долетела смутная молва. И действительно, когда «вопрос» был уже окончательно решен, он пришел к нам и торжественно объявил отцу, что «он теперь свободен»! И в доказательство прибавил, что уже продал довольно удачно «всю форменную свою пару». Оказалось, что Буднев (так его звали) подал в отставку и заявил его преосвященству[4 - Преосвященство – в соединении с местоимениями «его», «ваше», «их» – титулование епископа.] о своем смиренном желании «принять иноческий[5 - Иноческий – то же, что монашеский.] чин». Это было так неожиданно, что даже отец был изумлен. И только впоследствии оказалось, что тайною мечтою Буднева было поступить в миссионеры[6 - Миссионер – проповедник, посылаемый церковью для религиозной проповеди и распространения христианства среди нехристиан.]… Но почему он не мог это все сделать раньше, почему все это было приурочено им к освобождению крестьян, к которому он мог иметь только очень отдаленное отношение, – это, как и многое другое, касавшееся всех этих странных личностей, составляло загадку, еще раз доказывавшую только, что 19 февраля было у нас явлением далеко не сословного только характера: оно являлось преддверием великого освобождения личности вообще, как материального, так и духовного. Чтобы хотя несколько понять это и почувствовать, достаточно было в то время взглянуть на Буднева, когда, после нескольких месяцев «искуса» в каком-то монастыре, он явился к нам, вместо знакомого, шаблонного вицмундира, в новеньком черном подряснике, подпоясанном широким кожаным поясом, с отпущенной бородкой и уже длинными волосами; глаза его вдохновенно горели, все в нем было возвышенно и торжественно. Да, действительно, «он, наконец, был свободен!..». И в сияющих взорах этого чудака светилась та же таинственная всепокоряющая «мечта», которая раскрывала пред ним какие-то неизреченные перспективы.
Все это были, конечно, «чудаки», личности несколько исключительные, но в этих оригинальных «уродцах», выброшенных со дна взбудораженной общественной и народной стихии, может быть, невидимо прозябали те ростки, которые после сказались в явлениях изумительных и большого значения.
Но эти «чудаки» были и в глазах своих собственных и наших «люди серьезные», а потому исключительно имели дело с моим отцом и всегда наполняли только наше зальце. Но у нас, на детской половине, у матушки, хотя и не призванной к «серьезной, деловой жизни», были, однако, свои «мечтатели», свои чудаки и оригиналы, заявлявшие какие-то свои права на жизнь, и, конечно, это были прежде всего женщины. И в то время когда для нас, детей, серьезные люди батюшкиной половины были малопонятны и являлись только чудаками и оригиналами, – мечтатели, ютившиеся скромно и робко около матушки, напротив, всегда как-то очень скоро становились для нас своими людьми, «живыми», к которым мы сразу привязывались своей детской душой.
Бывало, вдруг вынырнет на свет божий из каких-то неведомых ни для кого палестин такая «душа» (и, вероятнее всего, еще крепостная), заявится к нам, всегда сначала по каким-то «делам», а там, глядишь, и живет у нас неделю и другую: нас спать укладывает, сказки рассказывает, грудного ребенка по целым часам нянчит, с матушкой по ночам какие-то таинственные беседы ведет, словно она с нами век прожила, выходила нас и вынянчила. Живет-живет так, бережно храня на сердце что-то дорогое и заветное, и вдруг снова нырнет, иной раз навсегда и бесследно, и исчезнет в необозримой глуши наших палестин. А иной раз… иной раз такая бродячая душа неожиданно соединит свои судьбы с твоими невидимыми и непостижимыми узами…
– Ну, вот и опять я прилетела к вам, милые птенчики! Прилетела опять, надоедница!
Эти слова, обыкновенно, произносились таким ясным, звонким, птичьим тоненьким голоском, что он, мне кажется, еще сейчас звенит около меня.
Мы, малые птенцы, заслышав этот голос, восторженно поднимали кверху руки и, как испуганные цыплята, еще не поздоровавшись с прилетевшей гостьей, летели стремглав в детскую к маме, в кабинет к отцу.
– Папа! мама!.. Прилетела! Прилетела!.. – Кто?
– Потаня! Да… Опять прилетела!.. Потаня!..
– А! Это опять она… Не сидится ей дома! Вот достанется ей на пряники… за эти шатанья, – притворно-сердито ворчит отец и с недовольным видом нервного, раздраженного человека спускает на нос очки и продолжает прерванное чтение.
Но мы мало обращаем внимания на слова отца и на тон, с которым они сказаны: мы чувствуем, что нам почему-то вдруг стало ужасно весело, смешно, радостно… Пробежав обратно детскую, где мама нервно возилась с больным ребенком, мы уже неслись снова навстречу прилетевшей гостье.
А «прилетевшая» гостья, по обыкновению, прежде чем войти в горницы, заходила на кухню и здесь, развязав мешок в уголке, укромно, тщательно переодевалась из дорожного в визитный костюм. Это одевание почему-то имело для нас особый, таинственный смысл. Мы останавливались молча за дверью и терпеливо ждали, когда кончится таинственный обряд. Наконец дверь тихо скрипела – и на пороге появлялась Потаня…
Это – такое маленькое, такое жалкое существо, о котором я никогда не мог вспоминать без чувства какого-то особого грустного и тихого умиления. Она стала ходить к нам еще задолго до того, как странные чудаки-мечтатели начали заполнять наше маленькое зальце. Потаня была уродец; с двумя горбами – на спине и груди, с маленькими ручками и ножками, она была до того низенького роста! что казалась даже ниже нас, десятилетних детей; несмотря на то что голова ее была несоразмерно велика, что на подбородке у нее сидела большая волосатая бородавка, что нос у нее был очень длинный и что ей было не меньше тридцати лет, лицо ее было такое улыбающееся, детски наивное, а быстрые глазки так живо бегали под густыми ресницами, что нам казалось всегда, что она вот-вот пустится прыгать и играть с нами в жмурки или в лошадки. И это было бы, вероятно, так, если б, по нашему мнению, не мешал ее парадный наряд. В этом парадном наряде она желала быть такой солидной, чопорной, степенной и… даже надменной!.. Да и как же могло быть иначе? Ведь это был ее генеральский мундир, ее драгоценность, ее родовое наследство, которое она хранила пуще глаза, никогда не расставалась с ним, постоянно носила бережно в мешочке и надевала только в самых важных случаях жизни. Такими важными случаями были, между прочим, тайные посещения ею нашего маленького городка. Я даже не могу сказать наверное, знал ли кто-нибудь в ее деревне и господской дворне, к которой она была приписана, о существовании ее парадного наряда. И что это был за изумительный наряд! В особенности для нас он был необычаен. Вы легко поймете наш восторг и изумление, когда после таинственного переодевания Потаня вдруг являлась перед нами в ярком пунцовом сарафане, спереди которого тянулся бесконечный ряд блестящих пуговок среди петель из золотого шнурка; подол этого удивительного сарафана был оторочен широчайшей каймой из позумента и целой прихотливой гирляндой цветов и листьев, вышитых шелком. Затем на Потане была надета обыкновенная душегрейка палевого цвета, значительно полинявшая, отороченная также позументом, а по воротнику и по бортам, кроме того, узкой меховой опушкой, местами, впрочем, повылезшей, и только на голове Потани был скромный платочек, из-под которого вилась чуть не до подола ее черная густая коса. Если к этому прибавить несколько колец и перстней, которые появлялись на ее тонких пальцах только в то время, когда она одевалась в свой знаменитый наряд, и, наконец, неизбежный чистый белый платочек, который она держала в руках и в который всегда было завернуто «что-то важное», то мы легко можем представить Потаню в тот момент, когда она являлась неожиданно из далекой деревни по каким-то «важным делам» в наш город. Очевидно, важные дела требовали, по ее мнению, и важного костюма.
И вот в таком-то торжественном виде наша маленькая Потаня, как-то особенно приседая и порхая, степенно входила в наше зальце, в то же время весело и любовно здороваясь с нами своими быстрыми, бегающими глазками.
– Ну, как живы, милые птенчики? Что папенька, что маменька? Все грустят? Ничего, потерпим господу… Будет весело, будет, милые птенчики!..– быстро звенела она своим птичьим голоском.
И затем, чинно протянув батюшке, с низкими поклонами, кончики своих маленьких тонких пальчиков, украшенных перстнями, и едва прикоснувшись ими к руке отца, она степенно садилась перед ним на краешек стула, едва дотрагиваясь до полу маленькими ножками.
– Ну-ну! опять прилетела! – говорил, подсмеиваясь и посматривая на нее, батюшка. – А зачем?
– Зачем, сударь?.. А все за тем же… Мы все за тем же…
И маленькая Потаня, не без тайной хитрости, как-то двусмысленно поигрывая глазками, смотрит в упор на батюшку.
– Ну, смотри! – грозил ей батюшка. – Ведь вы все бредите там? А о чем?.. Вздор все… все пустая болтовня… Ничего не будет… Зададут вот вам всем: чик! чик!..
– Будто уж, сударь, ничего еще об ином о чем неизвестно? – недоверчиво спрашивает Потаня и стыдливо опускает глаза при таинственных словах: «Чик! чик!»
– Ни о чем еще неизвестно… Ну, о чем? О чем тебе нужно? Ничего нет, ровно ничего нет… и не будет!.. Что вы там, с ума сошли все? – сердито ворчит батюшка на Потаню.
– Ну, это вы, сударь, напрасно… скрытность эту оказываете… Напрасно!.. Мы уж тоже известны кое о чем…
– Вздор, говорю тебе… Выбросьте из головы эти бредни, пока беды не нажили… Ну, что шляешься без толку? Ведь, поди, потихоньку сбежала? Ведь опять, как в прошлый раз, посадят на месяц на хлеб да на воду… засадят в свинарню… Или неймется? А то и того хуже будет… Не посмотрят, что золотой сарафан.
Батюшка начинал сердиться и уже раздраженно ходил по комнате, а Потаня еще стыдливее опускала при последних словах отца глаза, но по таинственному блеску их было заметно, что такими словами Потаню трудно смутить.
– Ну, что будет? Что? – вдруг сердито останавливался батюшка пред Потаней. – Ну, ежели кому и будет что-нибудь, так не нам с тобой, калекам. Мы все одно будем каторжную-то лямку тянуть. Для кого мы живем? Кому служим? Для своей-то души живем ли мы?
– Для души, сударь, – вот – вот истинное слово!.. Для души будем жить все… сообща… Вот-вот золотое слово!..– вдруг подхватывала Потаня и начинала восторженно-детски махать своими руками.
– Ну, что замахала?.. Чему обрадовалась? – еще сердитее ворчал батюшка. – Ну, кто тебе это позволит, сумасшедшая? Кто? Откуда тебе что известно?
– Ах, ах, сударь… Какой маловер! – качала головой Потаня, весело играя глазами.
– Ну вот, не угодно ли! И ей еще весело! Она всеми глазами смеется! – говорил батюшка, махая на нее в отчаянии рукой, как на неисправимую сумасшедшую.
– Стало быть, погодить велено, сударь?..– обыкновенно спрашивала Потаня. – В секрете еще это самое слово держать, стало быть, приказано?.. Ну что ж, погодим… А мы вот уж удумали… Так решили: как, господи благослови, объявится это слово, так чтобы, благословясь, и начать…
– Что такое удумали?
– А вот-с, извольте взглянуть…
И Потаня бережно развертывала свой чистый белый платочек и подавала торжественно отцу какую-то таинственную бумагу.
Отец развертывал засаленный лист бумаги и внимательно начинал читать, по-видимому с большим напряжением стараясь понять, в чем дело. И вдруг, не дочитав до половины, он бросал лист на стол, вскакивал в еще большем раздражении и, снова махнув безнадежно рукой, уходил в кабинет.
Потаня совсем конфузилась, в недоумении покачивала головой и тихонько шептала, свертывая опять бумагу в платочек:
– Ах, какие маловеры!.. Ах, какие…