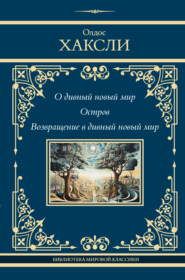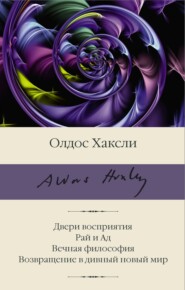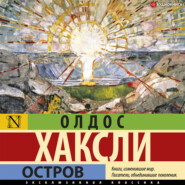По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Контрапункт
Автор
Жанр
Год написания книги
1928
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Чего он хотел? Но хотел-то он Люси Тэнтемаунт. Он хотел ее вопреки рассудку, вопреки всем своим идеалам и принципам, неудержимо, вопреки своим собственным стремлениям, даже вопреки своему чувству, потому что он не любил Люси; мало того, он ненавидел ее. Благородная цель оправдывает постыдные средства. Ну а если цель постыдна, тогда как? Ради Люси он причинял страдания Марджори, которая его любила, которая все принесла ему в жертву, которая была несчастлива. Но и своим несчастьем она шантажировала его.
Одна часть его «я» присоединилась к ее мольбам и склоняла его к тому, чтобы не поехать на вечер и остаться дома. Но другая часть была сильней. Он ответил ложью – наполовину ложью, в которой была лицемерно оправдывавшая его доля истины; это было хуже, чем неприкрытая ложь.
Он обнял ее за талию. Само это движение было ложью.
– Но, дорогая, – возразил он ласковым тоном взрослого, который уговаривает ребенка вести себя как следует, – мне необходимо быть там. Знаешь, там ведь будет отец. – Это была правда: старый Бидлэйк всегда присутствовал на вечерах у Тэнтемаунтов. – Мне необходимо переговорить с ним. О делах, – добавил он неопределенно и внушительно: эти магические слова должны были поставить между ним и Марджори дымовую завесу мужских интересов. Но, подумал он, ложь все равно просвечивает сквозь дым.
– А ты не мог бы встретиться с ним в другое время?
– Это очень важное дело, – ответил он, качая головой. – А кроме того, – добавил он, забывая, что несколько оправданий всегда менее убедительны, чем одно, – леди Эдвард специально для меня пригласила одного американского издателя. Он может оказаться полезным; ты знаешь, какие бешеные деньги они платят. Леди Эдвард сказала, что она с удовольствием пригласила бы издателя, но тот, кажется, уехал обратно в Америку. У них неслыханные гонорары, – продолжал он, сгущая дымовую завесу шутливыми замечаниями. – Это единственная страна в мире, где писателям иногда переплачивают. – Он сделал попытку рассмеяться. – А не мешало бы, чтобы мне где-нибудь переплатили как возмещение за все эти бесчисленные заказы по две гинеи за тысячу слов. – Он крепче сжал ее в объятиях, наклонился поцеловать ее. Но Марджори отвернулась. – Марджори, – умолял он, – не плачь. Не надо. – Он чувствовал себя виноватым и несчастным. Но, Господи, почему она не оставляет его в покое?
– Я не плачу, – ответила она. Щека, к которой он прикоснулся губами, была влажная и холодная.
– Марджори, если ты не хочешь, я не пойду.
– Я хочу, чтобы ты пошел, – ответила она, все еще не глядя на него.
– Ты не хочешь. Я останусь.
– Нет, не оставайся. – Марджори посмотрела на него и заставила себя улыбнуться. – Это просто глупо с моей стороны. Было бы нелепо не повидаться с отцом и с этим американцем.
В ее устах его собственные доводы казались ему бессмысленными и неправдоподобными. Он содрогнулся от отвращения.
– Подождут, – ответил он, и в его голосе прозвучала злоба. Он злился на самого себя за ложь (почему он не сказал ей всю правду, не скрывая, не прикрашивая? Она ведь все равно знала), и он злился на нее за то, что она напоминала ему о лжи. Ему хотелось, чтобы ложь была забыта, чтобы было так, словно он и не произносил ее никогда.
– Нет, нет, я требую. Это было глупо с моей стороны. Прости меня.
Теперь он сопротивлялся, отказывался уходить, просил разрешения остаться. Теперь, когда опасность миновала, он мог позволить себе поломаться. Потому что Марджори – это было ясно – твердо решила, что он должен идти. Ему представлялась возможность проявить благородство и принести жертву по дешевке, даже задарма. Какая гнусная комедия! Но он играл ее. В конце концов он согласился уйти, как будто этим он делал ей одолжение. Марджори надела ему на шею кашне, подала цилиндр и перчатки, поцеловала его на прощание, мужественно стараясь казаться веселой. У нее была своя гордость и свой кодекс любовной чести; и, несмотря на страдания, несмотря на ревность, она держалась за свои принципы: он должен быть свободным, она не имеет права вмешиваться в его жизнь. К тому же самое разумное – это не вмешиваться. По крайней мере ей казалось, что это самое разумное.
Уолтер закрыл за собой дверь и вышел в прохладную ночь. Преступник, бегущий от места преступления, бегущий от вида жертвы, бегущий от жалости и раскаяния, не чувствовал бы большего облегчения. Выйдя на улицу, он глубоко вздохнул: он свободен, он может не вспоминать о том, что было, не думать о том, что будет. Может в течение одного или двух часов жить так, словно нет ни прошлого, ни будущего. Может жить настоящей минутой и только там, где в эту минуту находится его тело. Свободен! Но это было пустое хвастовство: забыть он не мог. Бежать не так легко. Ее голос преследовал его. «Я требую, чтобы ты пошел». Его преступление было не только убийством, но еще и мошенничеством. «Я требую». Как благородно он отказывался! Как великодушно согласился под конец! Шулерство венчало собой жестокость.
– Господи! – сказал он почти вслух. – Как я мог? – Он чувствовал к самому себе отвращение, смешанное с удивлением. – Но зачем она не оставляет меня в покое! – продолжал он. – Почему она не ведет себя разумно? – Бессильная злоба снова охватила его.
Он вспомнил то время, когда он желал совершенно иного. Больше всего ему хотелось, чтобы она не оставляла его в покое. Он сам поощрял ее преданность. Он вспомнил коттедж, где они прожили несколько месяцев в полном уединении, среди голых меловых холмов. Какой вид на Беркшир! Но ближайшая деревня отстояла за полторы мили. Как тяжела была сумка с провизией! Какая грязь, когда шел дождь! И воду приходилось таскать из колодца глубиной в добрых сто футов. Но даже тогда, когда он не был занят чем-нибудь утомительным, было ли ему хорошо? Был ли он когда-нибудь счастлив с Марджори – по крайней мере настолько счастлив, насколько должен был бы быть? Он ожидал, что это будет похоже на «Эпипсихидион», – это не было похоже, может быть, потому, что он слишком сознательно стремился к этому, слишком старался сделать свои чувства и свою жизнь с Марджори похожими на поэму Шелли.
– Искусство нельзя принимать слишком буквально. – Он вспомнил, что сказал муж его сестры, Филип Куорлз, когда они однажды вечером разговаривали о поэзии. – Особенно когда речь идет о любви.
– Даже если искусство правдиво? – спросил Уолтер.
– Оно может оказаться слишком правдивым. Без примесей. Как дистиллированная вода. Когда истина есть только истина и ничего больше, она противоестественна, она становится абстракцией, которой не соответствует ничто реальное. В природе к существенному всегда примешивается сколько-то несущественного. Искусство воздействует на нас именно благодаря тому, что оно очищено от всех несущественных мелочей подлинной жизни. Ни одна оргия не бывает такой захватывающей, как порнографический роман. У Пьера Луиса все девушки молоды и безупречно сложены; ничто не мешает наслаждаться: ни икота или дурной запах изо рта, ни усталость или скука, ни внезапное воспоминание о неоплаченном счете или о ненаписанном деловом письме. Все ощущения, мысли и чувства, которые мы получаем от произведения искусства, чисты – химически чисты, – добавил он со смехом, – а не моральны.
– Но «Эпипсихидион» – не порнография, – возразил Уолтер.
– Конечно, но он тоже химически чист. Вы помните этот сонет Шекспира:
Ее глаза на солнце не похожи,
Коралл краснее, чем ее уста,
Снег с грудью милой – не одно и то же,
Из черных проволок ее коса.
Есть много роз пунцовых, белых, красных,
Но я не вижу их в ее чертах.
Хоть благовоний много есть прекрасных,
Увы, но только не в ее устах.
И так далее. Он понимал поэзию слишком буквально, и это – реакция. Пусть это будет предупреждением для вас.
Разумеется, Филип был прав. Месяцы, проведенные в коттедже, не были похожи ни на «Эпипсихидион», ни на «Maison du berger»[1 - «Пастушеский дом» (фр.).]. Чего стоили хотя бы колодец и прогулки в деревню!.. Но даже если бы не было колодца и прогулок, даже если бы у него была одна Марджори без всяких примесей – стало ли бы от этого лучше? Вероятно, только хуже. Марджори без примесей была бы еще хуже, чем Марджори на фоне житейских мелочей.
Взять, например, ее утонченность, ее холодную добродетель, такую бескровную и одухотворенную; теоретически и на большом расстоянии он восхищался ими. Но практически, вблизи от себя? Он влюбился в ее добродетель, в ее утонченную, культурную, бескровную одухотворенность; а кроме того, она была несчастна: Карлинг был невыносим. Жалость превратила Уолтера в странствующего рыцаря. Ему казалось тогда (ему было в то время двадцать два года, он был чист страстной чистотой подростка, привыкшего сублимировать свои сексуальные стремления. Он только что окончил Оксфордский университет и был начинен стихами и сложными построениями философов и мистиков), ему казалось, что любовь – это разговоры, что любовь – это духовное общение. Такова истинная любовь. Сексуальная жизнь – это лишь одна из житейских мелочей, неизбежная, потому что человеческие существа, к сожалению, обладают телами; но считаться с ней нужно как можно меньше. Страстно чистый и привыкший претворять свою страстность в серафическую духовность, он восторгался утонченной и спокойной чистотой, которая у Марджори происходила от врожденной холодности и пониженной жизнеспособности.
– Вы такая хорошая, – говорил он, – вам это дается так легко. Мне хочется стать таким же хорошим, как вы.
Это желание было равносильно желанию стать полумертвым; но тогда он не осознавал этого. Под оболочкой робости, застенчивости и тонкой чувствительности в нем скрывалась страстная жажда жизни. Ему действительно стоило большого труда сделаться таким же хорошим, как Марджори. Но он старался. И он восторгался ее добротой и чистотой. И ее преданность трогала его – по крайней мере до тех пор, пока она не начала утомлять и раздражать его, – а ее обожание льстило ему.
Шагая к станции Чок-Фарм, он вдруг вспомнил рассказ отца о разговоре с каким-то шофером-итальянцем о любви. (У старика был особый дар вызывать людей на разговор, всяких людей, даже слуг, даже рабочих. Уолтер всегда завидовал ему в этом.) По теории шофера, некоторые женщины похожи на гардеробы. Sono come i cassetoni[2 - Они как гардеробы (ит.).]. С каким смаком старый Бидлэйк рассказывал этот анекдот! Они могут быть очень красивы; но какой толк – обнимать красивый гардероб? Какой в этом толк? (А Марджори, подумал Уолтер, даже не очень красива.) «Нет, уж лучше женщины другого сорта, – говорил шофер, – будь они трижды уроды. Вот моя девочка, – признался он, – та совсем другого сорта. Е un frullino, proprio un frullino[3 - Она взбивалочка, настоящая взбивалочка (ит.).] – настоящая взбивалочка для яиц». И старик подмигивал, как веселый порочный сатир. Чопорный гардероб или бойкая взбивалочка? Уолтер должен был признать, что у него такие же вкусы, как у шофера. Во всяком случае, он по личному опыту знал, что, когда «истинная любовь» снисходила до «мелочей» сексуальной жизни, ему не очень нравились женщины «гардеробного» сорта. Теоретически, на расстоянии, чистота и доброта и утонченная одухотворенность достойны восхищения. Но на практике, вблизи, они гораздо менее привлекательны. А когда женщина непривлекательна, ее преданность и лесть и обожание становятся невыносимыми. Не отдавая себе отчета, он одновременно ненавидел Марджори за ее терпеливую холодность великомученицы и презирал себя за свою животную чувственность. Его любовь к Люси была безудержной и бесстыдной, но Марджори была бескровна и безжизненна. Он одновременно оправдывал себя и осуждал. И все-таки больше осуждал. Его чувственные желания низменны; они неблагородны. Взбивалочка и комод – что может быть омерзительней и подлей подобной классификации? Мысленно он услышал сочный, чувственный смех отца. Ужасно! Вся сознательная жизнь Уолтера протекала под знаком борьбы с отцом, с его веселой, беспечной чувственностью. Сознательно он всегда был на стороне матери, на стороне чистоты, утонченности, на стороне духа. Но кровь его была по крайней мере наполовину отцовской. А теперь два года жизни с Марджори воспитали в нем активную ненависть к холодной добродетели. Он возненавидел добродетель, но одновременно стыдился своей ненависти, стыдился того, что он называл своими скотскими, чувственными желаниями, стыдился своей любви к Люси. Ах, если бы только Марджори оставила его в покое! Если бы она перестала требовать ответа на свою нежеланную любовь, которую она упорно навязывала ему! Если бы она перестала быть такой ужасающе преданной! Он мог бы остаться ее другом: ведь он прекрасно относится к ней за ее доброту, нежность, верность, преданность. Ему было бы очень приятно, если бы она платила ему за дружбу дружбой. Но ее любовь вызывала в нем тошноту. А когда она, воображая, что борется с другими женщинами их же оружием, насиловала свою добродетельную холодность и пыталась вернуть его любовь страстными ласками, тогда она становилась просто ужасна.
А кроме того, продолжал размышлять Уолтер, ее тяжелая, лишенная тонкости серьезность просто скучна. Несмотря на всю свою культурность, а может быть, именно благодаря ей Марджори была туповата. Конечно, ей нельзя было отказать в культурности: она читала книги, она запоминала их. Но понимала ли она их? Была ли она способна их понять? Замечания, которыми она прерывала свои долгие-долгие молчания, культурные, серьезные замечания, – как тяжеловесны они были, как мало в них было юмора и подлинного понимания! С ее стороны было очень разумно, что она по большей части молчала. В молчании заключено столько же потенциальной мудрости и остроумия, сколько гениальных статуй – в неотесанной глыбе мрамора. Молчаливый не свидетельствует против себя. Марджори в совершенстве владела искусством сочувственного слушания. А когда она нарушала молчание, ее реплики состояли наполовину из цитат. У Марджори была прекрасная память и привычка заучивать наизусть глубокие мысли и пышные фразы. Уолтер не сразу обнаружил, что за ее молчанием и цитатами скрывается беспомощность мысли и тупость. А когда он обнаружил, было слишком поздно.
Он подумал о Карлинге. Пьяница и верующий. Вечно твердящий о церковных одеяниях, о святых и непорочном зачатии – а сам мерзкий пьяный извращенец. Не будь он так отвратителен, не будь Марджори так несчастна – что тогда? Уолтер представил себя свободным. Он не пожалел бы, он не полюбил бы. Он вспомнил красные распухшие глаза Марджори после одной из тех отвратительных сцен, которые ей устраивал Карлинг. Грязная скотина!
«Ну, а я-то кто?» – подумал он.
Он знал, что, как только за ним закрылась дверь, Марджори дала волю слезам. У Карлинга было хоть то оправдание, что он пил. Прости им, ибо не ведают, что творят. Но сам он был всегда трезв. Он знал, что сейчас Марджори плачет.
«Я должен вернуться», – сказал он себе. Но вместо этого он ускорил шаги, он почти побежал вперед. Это было бегство от своей совести и в то же время неудержимое стремление навстречу желанию.
«Я должен вернуться, я должен вернуться».
Он торопливо шел дальше, ненавидя ее за то, что причинял ей боль.
Когда он проходил мимо табачной лавки, человек, стоявший у витрины, неожиданно сделал шаг назад. Уолтер со всего размаха налетел на него.
– Простите, – машинально сказал он и, не оглядываясь, пошел дальше.
– Чего толкаетесь? – услышал он позади себя злобный окрик. – Надо смотреть, куда идешь. С цепи сорвался, что ли?
Двое уличных мальчишек поддержали его яростным улюлюканьем.
– А тоже, в цилиндре! – продолжал обиженный с презрительной ненавистью к джентльмену в полном параде.
Следовало бы обернуться и дать сдачи этому типу. Его отец уничтожил бы его одним словом. Но Уолтер умел только спасаться бегством. Он побаивался таких столкновений и предпочитал не связываться с «низами». Ругань потерялась в отдалении.
Какая гадость! Его передернуло. Мысли вернулись к Марджори.
«Почему она не может вести себя разумно? – говорил он себе. – Просто разумно. Если бы у нее было хоть какое-нибудь дело, что-нибудь такое, что занимало бы ее!»
Все несчастье Марджори в том, что у нее слишком много свободного времени. Ей не о чем думать, кроме как о нем. Но ведь в этом виноват он сам: он сам отнял у нее все занятия и лишил ее возможности думать о чем бы то ни было, кроме него. Когда он познакомился с ней, она состояла членом артели художественного труда – одной из чрезвычайно приличных любительских художественных мастерских в Кенсингтоне. Абажуры и общество разрисовывавших абажуры молодых женщин и – самое главное – обожание, которым они окружали миссис Коль, председательницу артели, утешали Марджори в ее несчастном замужестве. Она создала свой собственный мирок, независимый от Карлинга, – женский мирок, чем-то похожий на пансион для девиц, где можно было болтать о платьях и магазинах, сплетничать, «обожать» миссис Коль, как школьницы обожают начальницу, и, кроме всего прочего, воображать, будто делаешь нужное дело и содействуешь процветанию Искусства.