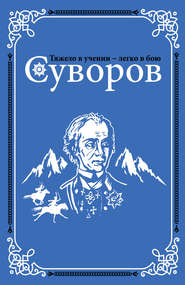По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Куприн
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Стояла обычная гнилая петербургская осень. Холодный город закрылся облаками, которые цеплялись за крыши и трубы, ложась на улицах мыльной сыростью. От тумана отсырело все – кожуха извозчиков, плащи городовых, даже лица прохожих казались влажно-серыми. Подняв воротник своего пальто, Куприн сухо кивнул Бунину и побрел в дешевые номера за Николаевским вокзалом. Злость точила его.
«Наивный провинциал приехал завоевывать Петербург! Как это ты мечтал?
В моем лице даровитый, широкий провинциальный юг победит анемичный, бестемпераментный, сухой столичный север! Это неизбежный закон борьбы двух характеров! Исход ее можно всегда предугадать! О, можно привести сколько угодно имен. Министры, писатели, художники, адвокаты. Берегись, дряблый, холодный, бледный, скучный Петербург!..»
– Берегись, – усмехнулся горько Куприн, стирая с лица водяную пыль, словно снимая пелену с глаз.
Грязные тротуары, серое, ослизлое небо, и на этом фоне грубые дворники со своими метлами, запуганные извозчики, женщины в уродливых калошах, с мокрыми подолами юбок, желчные, сердитые люди с вечным флюсом, кашлем и человеконенавистничеством… Петербург!
«Зачем я согласился пойти с этим дурацким визитом к Давыдовым? – корил себя Куприн. – Сама издательница не сочла нужным со мной познакомиться, а дочка, эта столичная барышня, видимо, слишком много думает о себе… Очень она мне нужна… Пускай они с Буниным найдут кого-нибудь другого, кто бы позволил им над собой потешаться и разыгрывать свои комедии. А еще приглашала бывать… Покорнейше благодарю! Ноги моей там не будет! Но к Богдановичу я, конечно, на днях зайду…»
2
Редакция журнала «Мир божий» занимала несколько комнат в той же большой квартире Давыдовой. В ближайший вторник, приемный день Богдановича, Куприн появился в его кабинете.
За столом сидел человек, выглядевший гораздо старше своих сорока лет: исхудалое бледное лицо, прямой пробор мягких волос, светлая, заостренная книзу бородка. Сухой белой рукой он быстро чертил на полях наборной рукописи корректурные знаки.
Куприн назвал себя, и Богданович живо поднялся, ответив решительно, отрывистым тоном:
– Очень, очень рад! Прочитал ваш рассказ «В цирке». Понравился! Будем готовить для январской книжки…
Куприн знал о тяжелом прошлом Богдановича, суровых бедствиях его студенческой жизни в Киевском университете, где он вступил в партию народовольцев, об ужасах военного суда 80-х годов, крепости и ссылке, а затем о тяжелой, изматывающей душу работе в провинциальной прессе.
Богданович пригласил в кабинет постоянных сотрудников журнала – критиков В. П. Кранихфельда и М. П. Неведомского, историка Е. В. Тарле и познакомил с ними Куприна.
– А не привезли ли вы чего-нибудь новенького? – поинтересовался он. – Мы надеемся на ваше регулярное сотрудничество и потому решили установить вам гонорар сто пятьдесят рублей за лист, а не сто, как это было с вашим первым рассказом…
Приятная новость несколько омрачалась тем, что Куприн невольно вспомнил, кому он обязан своим дебютом в «Мире божьем». В мае 1897 года, по обыкновению без гроша в кармане, он гостил у одесских знакомых Карышевых, которые познакомили его с Буниным. Тот сразу же стал убеждать его написать что-нибудь для «Мира божьего». Куприн не верил в успех, жалостливо говорил: «Да меня не примут!» – «Я хорошо знаком с Давыдовой, ручаюсь, что примут». – «Очень благодарю, но что ж я напишу? Ничего не могу придумать!» – «Вы знаете, например, солдат, напишите что-нибудь о них. Например, как какой-нибудь молодой солдат ходит ночью на часах, томится, скучает, вспоминая деревню…» – «Но я же не знаю деревни!» – «Пустяки, я знаю, давайте придумывать вместе…» Так он написал рассказ «Ночная смена», который затем приняли в «Мир божий»…
– Я мечтал бы постоянно печататься у вас, – смущенно сказал Богдановичу Куприн. – Но пока что, кроме нескольких сюжетов, нет ничего.
– Значит, рассказы все-таки есть, только в голове? – вмешался Кранихфельд, с большими залысинами и длинным бритым лицом.
– Я провел эту осень в Зарайском уезде – обмерил там около шестисот десятин крестьянской земли с помощью теодолита… – начал рассказывать Куприн. – Всего около ста урочищ с самыми удивительными названиями, от которых веет татарщиной и даже половецкой древностью…
Он не заметил, как в комнату вошла полная блеклая дама – редактор журнала Давыдова.
– И вот вам сюжет, – продолжал Куприн: – Студент и землемер ночуют в сторожке лесника, где вся семья больна малярией… Впечатление, как будто эти люди одержимы духами, в которых сами с ужасом верят. Баба поет: «И все люди спят, и все звери спят…» И от этого напева веет древним ужасом пещерных людей перед таинственной и грозной природой. Среди ночи лесника вызывают стуком в окно на пожар в лесную дачу. Студент, чуткий и слабонервный человек, никак не может отделаться от мучительного и суеверного страха за лесника, который один среди этой ночи идет теперь в тумане по лесу…
– Настроение передано превосходно. – Александра Аркадьевна подошла к Куприну и подала ему рыхлую, в перстнях руку. – Давно хотела познакомиться с вами и очень сожалею, что не могла принять вас в воскресенье… А теперь прошу вместе с сотрудниками журнала остаться у меня отобедать…
Приглашение застигло Куприна врасплох. Он растерялся и от застенчивости не сумел отказаться.
Поднимаясь на второй этаж вслед за Богдановичем, Куприн снова ругал себя: «Отчего я так тушуюсь перед откормленными мордатыми петербургскими швейцарами, перед секретарями в судах, перед бонтонными литературными дамами?.. Ведь есть же во мне нечто врожденное здоровое, что позволяет видеть насквозь и кружковых ораторов, и старых волосатых румяных профессоров, кокетничающих невинным либерализмом, и внушительных и елейных соборных протопопов, и жандармских полковников, и радикальных женщин-врачей, твердящих впопыхах куски из прокламаций, но с душой холодной, жесткой и плоской, как мраморная доска, и особенно всех этих благополучных представителей «света», который я ненавидел и буду ненавидеть…»
Дочь Давыдовой, встретившая их в уютной столовой с большим буфетом черного дерева, изображающим кабанью охоту, показалась ему еще краше, чем при знакомстве. «Зачем она так хороша? – подумал Куприн. – Была бы попроще, из обычной семьи, право, решился бы и всерьез начал ухаживать за ней. А то…»
Его раздражало у Давыдовых все: безукоризненно накрахмаленные салфетки и скатерть, тяжелое столовое серебро, переливчато мерцающий хрусталь, дорогие вина, серая глянцевитая икра в вазочке, маринады, балыки и даже бойкая тетушка Марии – Вера Дмитриевна Бочечкарева, руководившая прислугой. Двум горничным помогала подавать на стол хрупкая девушка, почти девочка – Лиза Гейнрих, младшая сестра покойной жены Мамина-Сибиряка Марии Морицовны.
Равнодушно скользнув взглядом по ее точеному личику, по белой наколке (Лиза, несколько лет прожившая в семье Давыдовых, работала теперь в Георгиевской общине сестер милосердия и лишь изредка навещала Александру Аркадьевну), Куприн хмуро сказал себе: «Сейчас заведут умные разговоры, затрещит молодая хозяйка, а там и опять начнутся подковырки…»
– Надолго к нам в Питер? – поинтересовалась Александра Аркадьевна. – Верно, нет. Ведь вы, молодые, не любите сидеть на месте.
– Увы! – Куприн непритворно вздохнул. – Кажется, надолго и всерьез. Меня пригласили работать в редакции «Журнала для всех»…
– Виктор Сергеевич? Миролюбов? – оживилась Давыдова. – Да ведь он же мой крестник. Вы не знали?
Куприн пожал сильными плечами.
– Я помню его еще студентом Петербургской консерватории, когда мой покойный муж там директорствовал. Он тогда носил фамилию Миров. Это был прекрасный оперный бас, мощный и густой. И вот представьте: когда его карьера бурно развивалась и ему уже предложили перейти из Московской императорской оперы в Мариинку, у Мирова открылся процесс легких! Пришлось оставить сцену. Но что делать дальше? Я знала, что некий отставной генерал продает право на издание дешевого ежемесячного журнала для народа. Посоветовала Миролюбову приобрести журнал, оказала материальное содействие… И вот смотрите! Журнал процветает, читается широко…
– Еще бы! – подала голос Мария. – Одно имя Горького сколько привлекает подписчиков!..
Куприн быстро и зорко посмотрел на нее.
«А ведь совсем не задавала и не ломака!
Отчего я так несправедлив к ней… Скромна, очаровательна, умна…» – подумал он, холодея при мысли, что, кажется, влюблен.
– Горький – это человек полнокровной жизни, драчун и страстный жизнелюбивый мечтатель, – твердо сказал Куприн. – Ярчайший самородок. Сколько в нем смелости, свежести! И какое знание жизни, полученное не за чужой счет, а на собственной шкуре…
– Александр Иванович! – обратился к нему Кранихфельд. – Я слежу за вами уже давно и все больше удивляюсь тому, как знаете жизнь вы… Ваши произведения необыкновенно разнообразны. «Молох» – большой завод, «Олеся» – полесские крестьяне, «Allеz!» – цирк, «В недрах земли» – шахтеры, «На переломе» – кадетский корпус. А сколько написано об армии! «Ночная смена», «Дознание», «Прапорщик армейский»…
«Ну, Саша, настал черед показать им, кто ты такой», – сказал себе Куприн.
– Вы знаете, Владимир Павлович, – с нарочитой скромностью начал он, – хлебнул я в жизни действительно немало разного. Но как писатель и сотой доли не исчерпал еще того, что повидал. Моя жизнь? Извольте. Сперва кадетский корпус, Александровское юнкерское училище, провинциальное офицерство. Однообразно. А вот после отставки чем только я не занимался! Был землемером. В Полесье выступал предсказателем… Артистом в городе Сумы – изображал больше лакеев и рабов. А потом с балаклавскими рыбаками связался, славные были ребята! Кирпичи на козе таскал, арбузы в Киеве грузил. Был я псаломщиком, махорку сажал, в Москве продавал замечательное изобретение… – Он, смеясь узкими глазами, покосился на Александру Аркадьевну и решительно отрубил: – «Пудерклозет инженера Тимаховича». Преподавал в училище для слепых… А когда меня оттуда выгнали, пошел на рельсовый завод…
– Прекрасно! Браво! – Мария захлопала в ладоши. – Вот чего не хватает нашим петербургским писателям. Они познают жизнь только из окошка своей дачи на Стрельне.
– Муся! – Александра Аркадьевна долгим осуждающим взглядом остановила порыв дочери. – Не кажется ли тебе, что ты ведешь себя слишком экстравагантно?
«Муся… Куся… Фуся… Зачем она называет ее так? – подумал Куприн. – Ведь это все какие-то кошачьи или собачьи клички, которые режут ухо! Куда лучше наше русское: Мария, Маруся, Маша…» Но прежнее раздражение прошло.
Когда Куприн прощался, Александра Аркадьевна благосклонно сказала ему:
– Я больна и приемов у нас пока не бывает. Но если вам не будет скучно провести вечер в нашем семейном кругу, заходите к нам запросто.
С того дня он зачастил к Давыдовым.
3
Одним из первых петербургских визитов Куприна было посещение журнала «Русское богатство», где царствовал Михайловский.
Публицист и критик, один из вождей и теоретиков русского народничества, Николай Константинович Михайловский был, что называется, законодателем мод у радикальной и либеральной интеллигенции. Человек крайне серьезный, он даже слегка страдал от сознания непогрешимости собственного авторитета, требуя от художественной литературы прежде всего полезности, служения обществу. Слово Михайловского, его печатный отзыв звучали приговором. Одной рецензии, подписанной им, было порой достаточно, чтобы уничтожить или вознести писателя. Правда, существовали литературные величины, которых не могло сломить даже его перо ригориста: Л. Толстой, Достоевский, Чехов…
Михайловский поддержал Куприна еще в 1894 году, при его первой публикации на страницах «Русского богатства» рассказа «Из отдаленного прошлого» (названного позднее «Дознание»), а затем сделал немало для того, чтобы в декабрьском номере журнала за 1896 год появилась повесть «Молох», которая привлекла к Куприну всероссийское внимание.
Шестидесятилетний книжник, живший только печатным словом, седовласый и седобородый, в золотом пенсне, сквозь которое смотрели умные, острые глаза, Михайловский встретил Куприна сдержанным упреком:
«Наивный провинциал приехал завоевывать Петербург! Как это ты мечтал?
В моем лице даровитый, широкий провинциальный юг победит анемичный, бестемпераментный, сухой столичный север! Это неизбежный закон борьбы двух характеров! Исход ее можно всегда предугадать! О, можно привести сколько угодно имен. Министры, писатели, художники, адвокаты. Берегись, дряблый, холодный, бледный, скучный Петербург!..»
– Берегись, – усмехнулся горько Куприн, стирая с лица водяную пыль, словно снимая пелену с глаз.
Грязные тротуары, серое, ослизлое небо, и на этом фоне грубые дворники со своими метлами, запуганные извозчики, женщины в уродливых калошах, с мокрыми подолами юбок, желчные, сердитые люди с вечным флюсом, кашлем и человеконенавистничеством… Петербург!
«Зачем я согласился пойти с этим дурацким визитом к Давыдовым? – корил себя Куприн. – Сама издательница не сочла нужным со мной познакомиться, а дочка, эта столичная барышня, видимо, слишком много думает о себе… Очень она мне нужна… Пускай они с Буниным найдут кого-нибудь другого, кто бы позволил им над собой потешаться и разыгрывать свои комедии. А еще приглашала бывать… Покорнейше благодарю! Ноги моей там не будет! Но к Богдановичу я, конечно, на днях зайду…»
2
Редакция журнала «Мир божий» занимала несколько комнат в той же большой квартире Давыдовой. В ближайший вторник, приемный день Богдановича, Куприн появился в его кабинете.
За столом сидел человек, выглядевший гораздо старше своих сорока лет: исхудалое бледное лицо, прямой пробор мягких волос, светлая, заостренная книзу бородка. Сухой белой рукой он быстро чертил на полях наборной рукописи корректурные знаки.
Куприн назвал себя, и Богданович живо поднялся, ответив решительно, отрывистым тоном:
– Очень, очень рад! Прочитал ваш рассказ «В цирке». Понравился! Будем готовить для январской книжки…
Куприн знал о тяжелом прошлом Богдановича, суровых бедствиях его студенческой жизни в Киевском университете, где он вступил в партию народовольцев, об ужасах военного суда 80-х годов, крепости и ссылке, а затем о тяжелой, изматывающей душу работе в провинциальной прессе.
Богданович пригласил в кабинет постоянных сотрудников журнала – критиков В. П. Кранихфельда и М. П. Неведомского, историка Е. В. Тарле и познакомил с ними Куприна.
– А не привезли ли вы чего-нибудь новенького? – поинтересовался он. – Мы надеемся на ваше регулярное сотрудничество и потому решили установить вам гонорар сто пятьдесят рублей за лист, а не сто, как это было с вашим первым рассказом…
Приятная новость несколько омрачалась тем, что Куприн невольно вспомнил, кому он обязан своим дебютом в «Мире божьем». В мае 1897 года, по обыкновению без гроша в кармане, он гостил у одесских знакомых Карышевых, которые познакомили его с Буниным. Тот сразу же стал убеждать его написать что-нибудь для «Мира божьего». Куприн не верил в успех, жалостливо говорил: «Да меня не примут!» – «Я хорошо знаком с Давыдовой, ручаюсь, что примут». – «Очень благодарю, но что ж я напишу? Ничего не могу придумать!» – «Вы знаете, например, солдат, напишите что-нибудь о них. Например, как какой-нибудь молодой солдат ходит ночью на часах, томится, скучает, вспоминая деревню…» – «Но я же не знаю деревни!» – «Пустяки, я знаю, давайте придумывать вместе…» Так он написал рассказ «Ночная смена», который затем приняли в «Мир божий»…
– Я мечтал бы постоянно печататься у вас, – смущенно сказал Богдановичу Куприн. – Но пока что, кроме нескольких сюжетов, нет ничего.
– Значит, рассказы все-таки есть, только в голове? – вмешался Кранихфельд, с большими залысинами и длинным бритым лицом.
– Я провел эту осень в Зарайском уезде – обмерил там около шестисот десятин крестьянской земли с помощью теодолита… – начал рассказывать Куприн. – Всего около ста урочищ с самыми удивительными названиями, от которых веет татарщиной и даже половецкой древностью…
Он не заметил, как в комнату вошла полная блеклая дама – редактор журнала Давыдова.
– И вот вам сюжет, – продолжал Куприн: – Студент и землемер ночуют в сторожке лесника, где вся семья больна малярией… Впечатление, как будто эти люди одержимы духами, в которых сами с ужасом верят. Баба поет: «И все люди спят, и все звери спят…» И от этого напева веет древним ужасом пещерных людей перед таинственной и грозной природой. Среди ночи лесника вызывают стуком в окно на пожар в лесную дачу. Студент, чуткий и слабонервный человек, никак не может отделаться от мучительного и суеверного страха за лесника, который один среди этой ночи идет теперь в тумане по лесу…
– Настроение передано превосходно. – Александра Аркадьевна подошла к Куприну и подала ему рыхлую, в перстнях руку. – Давно хотела познакомиться с вами и очень сожалею, что не могла принять вас в воскресенье… А теперь прошу вместе с сотрудниками журнала остаться у меня отобедать…
Приглашение застигло Куприна врасплох. Он растерялся и от застенчивости не сумел отказаться.
Поднимаясь на второй этаж вслед за Богдановичем, Куприн снова ругал себя: «Отчего я так тушуюсь перед откормленными мордатыми петербургскими швейцарами, перед секретарями в судах, перед бонтонными литературными дамами?.. Ведь есть же во мне нечто врожденное здоровое, что позволяет видеть насквозь и кружковых ораторов, и старых волосатых румяных профессоров, кокетничающих невинным либерализмом, и внушительных и елейных соборных протопопов, и жандармских полковников, и радикальных женщин-врачей, твердящих впопыхах куски из прокламаций, но с душой холодной, жесткой и плоской, как мраморная доска, и особенно всех этих благополучных представителей «света», который я ненавидел и буду ненавидеть…»
Дочь Давыдовой, встретившая их в уютной столовой с большим буфетом черного дерева, изображающим кабанью охоту, показалась ему еще краше, чем при знакомстве. «Зачем она так хороша? – подумал Куприн. – Была бы попроще, из обычной семьи, право, решился бы и всерьез начал ухаживать за ней. А то…»
Его раздражало у Давыдовых все: безукоризненно накрахмаленные салфетки и скатерть, тяжелое столовое серебро, переливчато мерцающий хрусталь, дорогие вина, серая глянцевитая икра в вазочке, маринады, балыки и даже бойкая тетушка Марии – Вера Дмитриевна Бочечкарева, руководившая прислугой. Двум горничным помогала подавать на стол хрупкая девушка, почти девочка – Лиза Гейнрих, младшая сестра покойной жены Мамина-Сибиряка Марии Морицовны.
Равнодушно скользнув взглядом по ее точеному личику, по белой наколке (Лиза, несколько лет прожившая в семье Давыдовых, работала теперь в Георгиевской общине сестер милосердия и лишь изредка навещала Александру Аркадьевну), Куприн хмуро сказал себе: «Сейчас заведут умные разговоры, затрещит молодая хозяйка, а там и опять начнутся подковырки…»
– Надолго к нам в Питер? – поинтересовалась Александра Аркадьевна. – Верно, нет. Ведь вы, молодые, не любите сидеть на месте.
– Увы! – Куприн непритворно вздохнул. – Кажется, надолго и всерьез. Меня пригласили работать в редакции «Журнала для всех»…
– Виктор Сергеевич? Миролюбов? – оживилась Давыдова. – Да ведь он же мой крестник. Вы не знали?
Куприн пожал сильными плечами.
– Я помню его еще студентом Петербургской консерватории, когда мой покойный муж там директорствовал. Он тогда носил фамилию Миров. Это был прекрасный оперный бас, мощный и густой. И вот представьте: когда его карьера бурно развивалась и ему уже предложили перейти из Московской императорской оперы в Мариинку, у Мирова открылся процесс легких! Пришлось оставить сцену. Но что делать дальше? Я знала, что некий отставной генерал продает право на издание дешевого ежемесячного журнала для народа. Посоветовала Миролюбову приобрести журнал, оказала материальное содействие… И вот смотрите! Журнал процветает, читается широко…
– Еще бы! – подала голос Мария. – Одно имя Горького сколько привлекает подписчиков!..
Куприн быстро и зорко посмотрел на нее.
«А ведь совсем не задавала и не ломака!
Отчего я так несправедлив к ней… Скромна, очаровательна, умна…» – подумал он, холодея при мысли, что, кажется, влюблен.
– Горький – это человек полнокровной жизни, драчун и страстный жизнелюбивый мечтатель, – твердо сказал Куприн. – Ярчайший самородок. Сколько в нем смелости, свежести! И какое знание жизни, полученное не за чужой счет, а на собственной шкуре…
– Александр Иванович! – обратился к нему Кранихфельд. – Я слежу за вами уже давно и все больше удивляюсь тому, как знаете жизнь вы… Ваши произведения необыкновенно разнообразны. «Молох» – большой завод, «Олеся» – полесские крестьяне, «Allеz!» – цирк, «В недрах земли» – шахтеры, «На переломе» – кадетский корпус. А сколько написано об армии! «Ночная смена», «Дознание», «Прапорщик армейский»…
«Ну, Саша, настал черед показать им, кто ты такой», – сказал себе Куприн.
– Вы знаете, Владимир Павлович, – с нарочитой скромностью начал он, – хлебнул я в жизни действительно немало разного. Но как писатель и сотой доли не исчерпал еще того, что повидал. Моя жизнь? Извольте. Сперва кадетский корпус, Александровское юнкерское училище, провинциальное офицерство. Однообразно. А вот после отставки чем только я не занимался! Был землемером. В Полесье выступал предсказателем… Артистом в городе Сумы – изображал больше лакеев и рабов. А потом с балаклавскими рыбаками связался, славные были ребята! Кирпичи на козе таскал, арбузы в Киеве грузил. Был я псаломщиком, махорку сажал, в Москве продавал замечательное изобретение… – Он, смеясь узкими глазами, покосился на Александру Аркадьевну и решительно отрубил: – «Пудерклозет инженера Тимаховича». Преподавал в училище для слепых… А когда меня оттуда выгнали, пошел на рельсовый завод…
– Прекрасно! Браво! – Мария захлопала в ладоши. – Вот чего не хватает нашим петербургским писателям. Они познают жизнь только из окошка своей дачи на Стрельне.
– Муся! – Александра Аркадьевна долгим осуждающим взглядом остановила порыв дочери. – Не кажется ли тебе, что ты ведешь себя слишком экстравагантно?
«Муся… Куся… Фуся… Зачем она называет ее так? – подумал Куприн. – Ведь это все какие-то кошачьи или собачьи клички, которые режут ухо! Куда лучше наше русское: Мария, Маруся, Маша…» Но прежнее раздражение прошло.
Когда Куприн прощался, Александра Аркадьевна благосклонно сказала ему:
– Я больна и приемов у нас пока не бывает. Но если вам не будет скучно провести вечер в нашем семейном кругу, заходите к нам запросто.
С того дня он зачастил к Давыдовым.
3
Одним из первых петербургских визитов Куприна было посещение журнала «Русское богатство», где царствовал Михайловский.
Публицист и критик, один из вождей и теоретиков русского народничества, Николай Константинович Михайловский был, что называется, законодателем мод у радикальной и либеральной интеллигенции. Человек крайне серьезный, он даже слегка страдал от сознания непогрешимости собственного авторитета, требуя от художественной литературы прежде всего полезности, служения обществу. Слово Михайловского, его печатный отзыв звучали приговором. Одной рецензии, подписанной им, было порой достаточно, чтобы уничтожить или вознести писателя. Правда, существовали литературные величины, которых не могло сломить даже его перо ригориста: Л. Толстой, Достоевский, Чехов…
Михайловский поддержал Куприна еще в 1894 году, при его первой публикации на страницах «Русского богатства» рассказа «Из отдаленного прошлого» (названного позднее «Дознание»), а затем сделал немало для того, чтобы в декабрьском номере журнала за 1896 год появилась повесть «Молох», которая привлекла к Куприну всероссийское внимание.
Шестидесятилетний книжник, живший только печатным словом, седовласый и седобородый, в золотом пенсне, сквозь которое смотрели умные, острые глаза, Михайловский встретил Куприна сдержанным упреком: