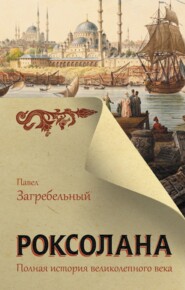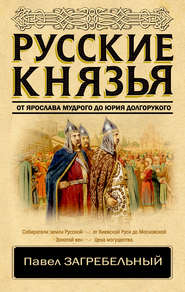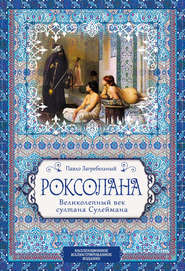По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Русские князья. От Ярослава до Юрия (сборник)
Серия
Год написания книги
2016
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А не твое это дело.
Мищило обиженно умолк.
– Побеседовали? – спросил Агапит. – Это пречудесно, такая встреча!
Он наслаждался своим великодушием, ему, видно, самому казалось, что все события развиваются именно так, как того захотелось ему, великому мастеру Агапиту, и вот, например, этого русобородого человека спас вчера не кто иной, как он, Агапит, и сегодня открыл в нем великие способности тоже он, Агапит, и болгарина, о котором уже второй день говорит весь Константинополь, превратил в русича опять-таки он, Агапит; ну а уж что дал Сивооку еще и единоземца на радость, то кто бы уже мог отрицать, что сделал это только он, Агапит. Если бы речь шла о ком-то другом, то сложил бы он целую песенку с припевом, в котором повторялось бы слово «Агапит»[44 - Агапетос – любимый (греч.).]. Но мастер был слишком нетороплив в своих словах и размышлениях, чтобы дойти до такой живости, как сложение или напевание песенок, радость и удовольствие он умел выражать одной улыбкой, которая вырисовывалась на его толстых губах с отчетливостью, столь редко встречающейся среди обыкновенных людей.
В это время посмотреть на Сивоока пришло несколько незначительных, судя по их одежде, светских и духовных византийских чиновников, и тут произошло нечто и вовсе неожиданное: Агапит, при всей его дебелости и неуклюжести, легко крутанулся к ним, взмахнул своей хламидой, сделал вид, что кланяется, потому что на самом деле поклониться из-за своей полноты не мог, зато наверстал это гибкостью, так сказать, внутренней, развел приветственно руками, отошел в сторону, пропуская пришедших к Сивооку, вел себя так, будто пришли его ближайшие друзья, хотя на самом деле, оказалось, он их впервые видел, точно так же, как и они его. Чиновники немного растерялись от присутствия такого вельможного господина, поскорее прошмыгнули мимо Сивоока и распрощались с Агапитом, а он еще словно бы даже бросился их сопровождать и уже только после этого возвратился назад и спросил у Сивоока, согнав с лица слащавость, даренную чиновникам:
– Так хочешь ко мне?
– Еще не знаю, чего могу хотеть, а чего не могу, – сказал тот, удивляясь поведению Агапита. – Не знаю, кто я: раб или человек, хотя рабом не чувствовал себя никогда и не дойду до этого.
– В этом что-то есть, – поднял палец вверх Агапит, – это красиво сказано, а еще лучше ты, человече, нарисовал эти узоры, на которые я еще немного посмотрю. Это прекрасно! Говорю я, Агапит! И будешь ты среди моих антропосов, как тебя?
Сивоок молчал, обиженный столь пренебрежительной забывчивостью, но из-за спины у Агапита высунулся Мищило и напомнил своему принципалу:
– Его зовут Сивоок.
– Сивоок, – повторил, причмокивая губами, Агапит. – Ну что же, это имя тоже может быть славным, как и Агапит! И что может быть прекраснее, спрашиваю я всех вас?
Видимо, он часто обращался с такими вопросами, ни к кому, собственно, не адресуясь в частности, и привык, что никто и не должен отвечать, ибо сразу же после восклицания на его толстых, сальных губах появилась улыбка довольства самим собой и всем миром, который казался ему полным гармоничности, поднял край хитона, взмахнул им, обдал Сивоока запахами восточных ароматов и пошел, забирая с собой всех «антропосов».
Так ко всем приключениям Сивоока прибавилось еще одно. Ну и что с того?
Сивоок не мог знать, что Агапит с его неторопливостью был по-слоновьи упорным в своих прихотях.
И ежели уж он намерился иметь у себя чудом спасенного русича, то шел за этой своей прихотью, будто балованный маленький ребенок.
Никто, разумеется, не хотел встать на помощь Агапиту, да он и сам хорошо знал, что напрасно искать конец какого-нибудь дела там, где его не может быть, среди этих людей, которые обладали пышными титулами и не менее пышной одеждой благодаря лишь тому, что всю свою жизнь уклонялись от решения каких бы то ни было дел, не сказали ни разу «да» или «нет».
Выручить его мог один человек лишь, и этим человеком был сам император.
Подступиться к императору, если ты не принадлежал к чинам кувуклия, считалось делом маловероятным, найти же людей, которые отстаивали бы перед василевсом твои интересы, было еще трудней. Но для Агапита, казалось, не существовало невозможного. Он имел золото, но золото имели и многие другие. Зато никто не был таким упрямым, как Агапит. Он мог неделями и даже месяцами толкаться среди чинов, кланяться им, льстить им, пока не добивался своего, он не знал, что такое унижение, всегда готов был подчиниться кому угодно, лишь бы только исхитрить задуманное для себя.
Многие отговаривали его от намерения просить у императора спасенного белого болгарина, то есть русича, как тот сам себя именует. Зачем? Разве мало в Константинополе людей, чтобы выбрать из них для себя мистия, ученика, а то и просто раба? Ювелиры на Аргиропратии, медники на Халкопратии, дуборезы в Цангарии – пожалуйста! А так кто бы это шел к императору с таким ничтожным делом?
– Так, так, – соглашался Агапит, – но!..
Он произносил это «но», многозначительно поднимая палец вверх, сам всматривался в этот палец, пока и собеседник тоже не задирал голову, тогда Агапит спокойно опускал руку и с сочувствием к своему не очень сообразительному слушателю говорил так, будто и не было паузы с рассматриванием поднятого в небо пальца.
– Но когда человеку чего-нибудь хочется, нужно удовлетворить это желание, ибо иначе перестанешь быть человеком.
– Тяжело и трудно, – вздыхал собеседник.
– Но не для такого человека, как вы, – одаривал его Агапит такой улыбкой, что тому казалось, будто его обнимает красавица или же осыпают золотыми монетами.
В Константинополе начались осенние врумалии[45 - Врумалиями в Константинополе назывались особые праздники, которые шли по греческой азбуке с 24 ноября по 17 декабря – 24 дня, главнейшими были дни, выпадавшие на имя императоров (К – для Константина, скажем), поэтому врумалии считались именинными праздниками.], императора можно было видеть теперь в Триклине девятнадцати акувитов[46 - Триклин девятнадцати акувитов – один из главных залов Большого дворца, где стояло девятнадцать акувитов, то есть столов для банкетов.], где он возлежал за трапезой.
Ему подавали только на золотых блюдах. Слуги вносили заморские фрукты в вазах из чистого золота и таких тяжелых, что поднимать их на столы приходилось на обшитых позолоченной кожей веревках, переброшенных через блоки, хитро спрятанные под потолком триклина, но на трапезы в Триклине девятнадцати акувитов приглашался согласно ритуалу лишь определенный круг людей, к которым Агапит не принадлежал, точно так же согласно предписаниям, шедшим еще от предыдущих императоров, подбиралось сопровождение царствующей особы на загородную охоту, на игры в Циканистрии, на конные прогулки, на торжественные выходы в храмы и монастыри, даже на ипподром, где смотреть на императора могли сразу сто тысяч человек, которые сидели на мраморных скамьях, но пребывать в кафисме вместе с императором имели право лишь посвященные, доверенные, самые приближенные. Да, в конце концов, если бы даже Агапит и принадлежал к тому узкому кругу императорского окружения, то всячески избегал бы придворной суеты, ибо его огромное тело не выносило спешки, а ленивая душа художника жаждала прежде всего покоя и свободы для размышлений.
Он мог разрешить себе стоять в сторонке от суеты кувуклия еще и благодаря тому, что всегда вдоволь имел золота и драгоценностей для этого возбужденного, безумного мира, где все можно купить. Поэтому неудивительно, что через несколько дней после того, как в голову ему пришла мысль заполучить Сивоока, Агапит ублажил и подкупил кого нужно, и василевсу Константину, когда он был на ипподроме, осторожно сказано было о желании известного зодчего Агапита выкупить белого болгарина. Император страшно рассердился на несвоевременность и неуместность такой просьбы.
– Какое мне дело до какого-то там болгарина, или кто он там! – закричал он. – Я должен знать: зацепится правая колесница за левую на первом или на втором повороте!
Две колесницы, одна запряженная четверкой коней белых, другая с конями персидскими в яблоках, мчались в облаках пыли, сопровождаемые безумным криком сотен тысяч глоток, вдоль мраморных трибун, мимо статуй и скульптурных групп, установленных по продольной оси ипподрома; ездовые, расставив ноги, застыв в напряжении, изо всех сил натягивали вожжи перед обелиском Феодосия, обозначавшим место поворота, они знали, что нужно во что бы то ни стало замедлить яростный разбег коней, умело повернуть почти на месте, чтобы потом снова мчаться по прямой, но в обратном направлении, прямо к центру ипподрома, к императорской кафисме, но будет еще один поворот – и снова безумная гонка по прямой, и еще один поворот, и так двадцать три круга – семьдесят две стадии, и только после этого – конец, достижение цели и либо венец победителя, либо позор побежденного, и сто тысяч разъяренных, обалдевших от крика константинопольцев тоже знали об этом, а еще считали, что под обелиском Феодосия подстерегает нечистая сила, и вопили еще яростнее, и от этого рева кони неистовствовали еще сильнее, зверели, возницы ничего уже с ними не могли поделать, колесницы летели, как камень с пращи, удержать их не могло уже ничто, трубы герольдов объявляли о каждом очередном круге, трубы звучали, будто звук Страшного суда, этот поворотный столб должен был стать концом безумной гонки, ужасной катастрофой, обломками колесниц, смертью; колесницы мчались рядом, ни одна ни другая не могли вырваться вперед хотя бы на маленькое расстояние, катастрофа казалась неизбежной, ипподром ревел от восторга и предчувствия прекрасной гибели ездовых и их коней, белых арабских и персидских в яблоках; император тоже поддался всеобщему ликованию, лицо его покрылось красными пятнами, парадный наряд расстегнулся, венец съехал набок, из раскрытого рта на бороду стекала нитка слюны; еще миг, еще полмига, еще неуловимое мгновенье – и тогда колесница, запряженная четверкой белых коней императорской чистой-пречистой масти, каким-то непостижимым прыжком очутилась чуточку впереди четверки в яблоках и первой обогнула страшный столб, захватывая для себя весь простор, какой там был, а другой колеснице не оставалось и лоскутка свободного места, она очутилась между первой колесницей и столбом, первая колесница выписывала пологий, умопомрачительный круг, будто падающее небесное тело в своем последнем свечении, а другая ввергалась в мертвую зону этого круга, для нее не оставалось простора, для нее не было никакого места, персидские в яблоках кони шарахнулись от коней белой императорской масти, колесница зацепилась колесом за столб, перекосилась, возница еще держался в этом невероятном наклоне к земной поверхности, он прочертил своим телом смертельную дугу, колесо среди рева, треска и хохота оторвалось, кони потянули колесницу на одном колесе, потянули ее перевернутой, волоком, потащили возницу, который тоже упал и вылетел из колесницы, но еще держался за вожжи, колесница разламывалась на лету, летело железо, дерево, возницу било о землю, било обломками, но он еще не выпускал вожжи, персидские в яблоках кони, будто одержимые демоном, бешено бросались то в одну сторону, то в другую, они уже не бежали вперед, а, казалось, решили добить, доломать остатки колесницы и освободиться от упрямого наездника, это заняло у них немного времени, они освободились и, сразу же успокоившись, пошли рысцой следом за конями белыми, которые уже долетели к цели под восторженный стон ипподрома.
Высокопоставленный евнух багряным шелковым платком вытер слюну на бороде императора, Константин привстал в своей ложе, протянул вслепую руку за венцом для победителя, ему вложили в руку венец, это было прекрасное мгновенье, тем прекраснее оно, что победили кони белой императорской масти; на ипподроме всегда господствовало суеверие относительно конской масти: коней черных, вороных, карих, гнедых сюда не допускали, потому что эти масти считали цветами смерти, тут любили смерть веселую, яркую, а еще больше любили светлую победу, каждый из присутствующих заблаговременно загадывал себе какоето желание, связанное с победой коней светлейшей масти; когда же такими становились кони чистой императорской масти, то это считалось самой лучшей приметой для всех, прежде же всего – для царствующей особы.
У императора в тот день было прекрасное настроение, благодаря чему подкупленный Агапитом препозит снова напомнил Константину о белом болгарине.
– Но, кажется, мы определили его на какую-то службу? – небрежно молвил император.
Препозит был подготовлен к любому вопросу.
– Его приставили ухаживать за конями, – сказал он почтительно, – но пользы там от него нет никакой, он перепугал всех коней.
– Этого варвара боятся даже кони, – засмеялся император. – Ежели так, отдайте его тому, кто заплатит за него логофету казны кентинарий золота.
Его не интересовало, кто именно внесет такую сумму, он понятия не имел об Агапите, наверное, никогда и не слышал его имени, а если и слышал случайно, то давно забыл, ибо почему император всех ромеев должен держать в голове чье-то там имя?
А кентинарий за Сивоока, за которого еще вчера никто не догадался бы попросить хотя бы номисму, император назначил просто потому, что кто-то проявил заинтересованность белым болгарином. А за любопытство нужно платить.
Год 1015. Середина лета. Новгород
Но Бог не вдасть дьяволу радости.
Летопись Нестора
Высокие свечи в серебряном трехсвечнике горели в княжеской опочивальне до глубокой ночи. Ярослав читал привезенную ему за большие деньги из Болгарии книгу святого отца церкви Иоанна Дамаскина.
«Нет ничего выше разума, ибо разум – свет души, а неразум – тьма. Как лишение света творит тьму, так и лишение разума затемняет смысл. Бессмысленность присуща тварям, человек же без разума – немыслим. Но разум не развивается сам собою, а требует наставника. Приступим же к единому учителю истины – Христу, в котором заключаются все тайны разума. Приблизившись же к дверям мудрости, не удовольствуемся этим, но с надеждой на успех будем толкаться в нее».
Князь отодвинул книгу, долго смотрел в светлый огонь свечи. Ждал, что, пробужденные книжной премудростью, придут собственные мысли, но в голове стояла какая-то тяжелая, колеблющаяся стена, сердце князя билось ускоренно, будто после длительного бега, он с трудом удерживался от того, чтобы не вскочить и в самом деле не побежать куда-нибудь. Куда же? Жил в последние месяцы в душевном смятении, ощущал растерзанность сердца. Прикусив губу, снова взял книгу в руки.
«Хотя истина не нуждается в пестрых украшениях, но они необходимы для отрицания тех, кто опирается на ложный разум. Истину надлежит исследовать не празднословием, а смирением».
Если бы кто-нибудь да мог возражать ему в чем-либо! Вокруг было только послушание и угодливость – повсеместные спутники княжеской власти. Разве лишь Забава? Но прочь, прочь! Речь идет о делах куда более высоких. Ему нужна только мудрость, только просветленность разума, а все, что мутит, затемняет, сбивает с толку, – прочь!
«Что есть философия? Философия есть страх Божий, добродетельная жизнь, избегание греха, удаление от мира, познание божественных и людских речей, она учит, как человек делами своими должен приближаться к Богу». Книга умудренного инока из иерусалимского монастыря Святого Саввы состояла из семидесяти глав, и князь долго бился над трудными словесами, осиливая в себе бурление крови, пока не уснул сном тяжелым и беспокойным после позднего чтения.
Уже ударили первые морозы, наладился санный путь в Новгород, князь ждал вестей, но вестей не было ни из Киева, ни из варяг, зато, словно бы в предчувствии возвышения Ярослава, двинулись к нему паломники, странствующие иноки, святые люди, которые побывали в далеких заморских землях, а теперь разносили по всей Русской земле чудеса, видеть которые они сподобились. Видели же они в Иерусалиме на месте распятия Иисуса Христа расселину, сквозь которую пролилась его кровь на голову Адама. Видели столб Давида, где он сложил Псалтырь. Видели колодец Иакова, возле Сихема, где Иисус беседовал с самаритянкой. Величайшим же чудом была в Иерусалиме светлость, которая нисходит с неба в час вечерний в Великую субботу и зажигает кадила. Светлость эта похожа на киноварь, багряна она, как кровь, а кадила загораются от нее только православные. Подносили свечу, зажженную от этого небесного свечения, к бороде, но борода не горела.
Паломников приглашали на княжеские пиршества, места для них отводили рядом с Ярославом. Подавали им множество грибных блюд, мясо, жаренное на огне, дичь, выставляли кубки и ковши с пивом, медами, фряжским вином; но святые люди довольствовались одним лишь хлебом да водой, клали смиренно на дубовый стол свои никогда не мытые руки, скрюченные от ломоты в костях, с потрескавшейся, похожей на воловью кожей, ворочали медленно гигантскими, как медвежья шуба, бородами, отращиваемыми нарочно, чтобы противопоставить настоящую мужскую красоту бесовскому женскому безбородству. Не живи для себя, а для Бога, заботясь о жизни вечной. Ум, отдаляясь от всего внешнего и сосредоточиваясь во внутреннем, возвращается к тебе, то есть соединяется со своим словом, которое пребывает в мысли по естеству, через слово соединяется с молитвой, и молитва восходит в разум Божий, со всей силой любви и усердием. А молиться нужно ежечасно. Как святой Павел, совершавший ежедневно по триста молитв и, чтобы не сбиться со счету, закладывавший за пазуху триста камешков, выбрасывая по одному после прочтения молитвы. А чтобы соединиться с Богом в помыслах своих, нужно избегать рынков, городов и людского шума, ибо нет на свете большей пагубы, нежели людской гомон, игрища, смех и кощунства. Беги от них. Возлюби молчание, живи в пещерах, как святые отцы-пещерники, или в дуплах деревьев, как иноки-дендриты, кто и на столбе стоял, как Симеон-столпник, и никакие соблазны земли не вынудили его спуститься оттуда, а иные ходят нагими, еще другие лежат на земле и не поднимаются, ибо подняться можешь только для греха, а те носят железные вериги с медными крестами на голом теле, и не было мук, которых не вынесли бы они ради очищения от греховности. Святого Макария, когда он занимался рукоделием, укусил комар. Макарий задавил комара, а потом, раскаявшись в своей нетерпимости, осудил себя на шесть месяцев сидения голым возле болота. Комары искусали его так, что люди могли узнать Макария только по голосу, думали – прокаженный.
Иноки переносили столько скорби и печали, что людскими устами это даже выразить невозможно.
Человек – образ Божества, поэтому должен стремиться к красоте первозданной, а она дается лишь уничтожением плоти. Был святой человек, который носил, не снимая, каменную шапку. А другой оковал себя девятисаженной цепью. Один не спал вовсе, не ложился и не садился, а для большей бодрости держал в руках камень, чтобы тот своим падением будил его, не давал уснуть. Пищу принимали только самую простейшую и в самых малых количествах. Один или два раза на неделю. Если же одолеют хворости, то и вовсе не употребляй еды, а питайся лишь водой и соком. Ибо еда, слава, богатства, красота, как весенний цвет, проходят и исчезают. Человек же создан для небесных благ, поэтому должен испытывать отвращение ко всему земному.