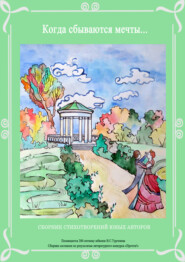По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я в Интернете посмотрю! – пригрозила Лялька, и доктор сдался – нисколько, то есть – сколько угодно вы протянете, если не считать, конечно, риска внезапной смерти, да, кстати, при бигемении – восьмидесятипроцентная смертность в случае инфаркта, так что никаких стрессов, вам совсем нельзя волноваться, слышите – совсем! Только не лезьте вы на форумы, я вас умоляю, такого количества клинических идиотов в одном месте даже представить себе нельзя! Риск внезапной смерти – это значит в любой момент? – уточнила Лялька. Да, – сказал кардиолог. Это значит – в любой момент. Но ведь это каждый может, сами понимаете… Лялька не дослушала, встала, пошла по коридору, по улице, все еще улыбаясь – было совсем не страшно, а наоборот – тепло, будто больное сердце досталось ей в наследство напрямую от отчима, вот если бы нашли язву, как у матери, было бы обидно, а от отчима – от отчима все что угодно, вот только времени больше не было. То есть – совсем.
Лялька планировала выйти на пенсию лет через десять, в сорок с небольшим, и за год объехать неспешно весь мир, исключая совсем уже невозможные места, вроде Сомали, Афганистана и России, на родине она жить не желала категорически и принципиально. Родина была – мать. Но теперь десяти лет не было, и года тоже не было, потому Лялька торопливо подбила бабки. Как выяснилось, миллиона у нее не было тоже, и сильно не было, но это были уже пустяки, долгая и счастливая старость ей больше не грозила, потому надо было просто взять себя в руки и найти свое место прямо сейчас. Лялька купила огромную карту мира, прилепила скотчем к стене и, подумав, обвела маркером Европу. Близко, спокойно, цивилизованно. Но главное – близко. Далеко лететь было просто опасно – Лялька совершенно не хотела умереть в воздухе, беспомощно зависнув меж двух миров. Она придвинула к себе ноутбук и набрала в поисковой строке – “кладбища Европы”.
Все оказалось не так уж страшно. Одна таблетка утром, одна – вечером, не волноваться, не бегать, не пить ничего крепче воды, не, не, не… План был идеальный – найти свое место, купить рядом дом, забашлять кому положено, чтобы не выслали трупом на родину, успокоиться, умереть. Но свое место все не находилось. Лялька чинно вышагивала по шуршащим гравием дорожкам – в Париже были вкусные блинчики, но кладбища ей не понравились, особенно Сен-Женевьев-де-Буа, просто коммуналка какая-то, честное слово. И повернуться будет негде. Вена оказалась совершенно очаровательной, особенно Центральное кладбище, абсолютно недоступное, увы! увы! Но Лялька, уже готовая внутренне довольствоваться Хитцингским, вдруг случайно увидела себя в витринном отражении – высокая, нескладная, плоская, с вылупленными глазами, совсем-совсем мать. Вена тотчас же потускнела, помутнела, будто подернулась гнилостным сумраком, и Лялька, выписавшись из отеля на три дня раньше запланированного, отправилась дальше. Лондон, Будапешт, Барселона – она моталась по карте, металась по ней, изредка заглядывая в провинцию, но и там кладбища настороженно молчали, и молчало, не отзываясь ни на тенистые кущи, ни на зеленые выстриженные лужайки, Лялькино сердце, аккуратно пропускавшее каждый второй, каждый второй, каждый второй удар.
Италию она проехала почти всю, методично передвигаясь с юга на север – ничего интересного, руины, макароны, туристический ор. Прокатный “фиат” кряхтел на каждом повороте, жаловался на судьбу, но на границе Лацио и Тосканы все-таки сломался. Сервисная служба прислала механика, молодого, совершенно порнографического красавца в голубом кокетливом комбинезоне на голый лепной торс, механик говорил только по-итальянски и норовил включить то жиголо, то дурака, но Лялька, вообще ни одного языка, кроме русского, сроду не знавшая и, тем не менее, объехавшая уже почти всю Европу, быстро сбила с красавчика спесь. Евро – они, знаете, лучше любого разговорника. Особенно наличные. А у Ляльки было полно наличных.
Тем не менее, несмотря на евро, провозились они с “фиатом” долго, так долго, что в Тоскану Лялька въехала не к шести часам вечера, как планировалось, а сильно за полночь. Она заранее забронировала номер в агритуризмо где-то под Гросетто, ей нравились эти старые фермы, переделанные под отели, вот такое бы купить да похорониться в собственной оливковой роще. Но даже совсем заброшенные, в развалинах, стоили под миллион евро. Дорого. Не потянуть. Посередине виа Аурелиа механическая тетка, живущая в навигаторе, вдруг сказала: “Вы прибыли в пункт назначения”. И замолчала значительно. Лялька притормозила, опустила стекло. Было совершенно темно, пустынно, ни огонька кругом, и оглушительно пахло влажными, прущими из-под земли ароматными грибами. Порчини, вспомнила Лялька одно из немногих привязавшихся к ней итальянских слов. Она включила аварийку, вышла из машины. Никаких признаков жилья поблизости не было, и Лялька вдруг поняла, что стоит на старой, римской еще дороге, в самой середине душистой, чуть лепечущей, непроницаемой ночи, и одновременно с этим – в парке, над могилой старой кошки, и рядом с ней, молча, стоит отчим – невысокий, тихий, спрятавший внутри себя огромную, никому не видимую, гагаринскую улыбку. Живой.
Лялька засмеялась. Это было ее место. Теперь она точно знала. Она нашла!
Она снова села в машину и, отключив ненужный больше навигатор, съехала с трассы. Мягкая грунтовка петляла в итальянской темноте, пока не уперлась в какие-то ворота. Лялька выключила двигатель, выпила на ощупь свою таблетку и, опустив до предела неудобные сиденья, заснула, без сновидений, без страхов, без надежды – совершенно спокойно. Как в детстве.
Проснулась она от мягкого, властного нажима тосканского солнца. “Фиат” стоял возле каменной приземистой церкви, у кружевных чугунных ворот, возле которых красовалась табличка: Cimitero comunale[1 - Муниципальное кладбище (um.).]. Перевод Ляльке не понадобился. Она зашла в церковь – прохладную, совершенно пустую, подивилась на украшенный живыми пионами алтарь, на ящик с маленькими электрическими свечками. Лялька порылась в карманах и сунула в прорезь тяжелый российский пятирублевик. Итальянский Господь принял неконвертируемую жертву, что-то тихо щелкнуло – и одна из свечек загорелась. Было очень спокойно, даже уютно, как и должно быть в месте, куда люди приходили молиться, жениться, переглядываться, крестить младенцев и отпевать покойников как минимум пятьсот лет. Может, даже больше. Лялька умылась, фыркая от удовольствия, возле чаши со святой водой, прополоскала рот и вышла на улицу.
Кладбище было заперто. Все правильно. Церковь – она для живых, а мертвые пусть отдыхают. Лялька смерила взглядом каменную стенку и – была не была, что я зря, что ли, столько лет спортом занималась? – ловко перекинула через нее худое жилистое тело. Среди невысоких саркофагов и крестов тренькнула, словно жестяная, какая-то птица. Лялька обошла небольшое кладбище, трогая ладонью то гладкий мрамор, то шероховатый теплый ракушечник, и наконец присела на треснувшую плиту рядом с кудрявым пухлощеким ангелом. Ангел дул в забавную игрушечную трубу и косил на Ляльку хулиганским незрячим глазом.
Лялька потрепала его по голой горячей попе и засмеялась.
– Что, брат, – сказала она, – возьмешь меня в свою компанию, а?
Ангел согласно промолчал, и Лялька доверчиво, как в детстве к отчиму, привалилась к его мраморному боку. Было тихо и хорошо, и все еще пахло грибами, как ночью, только на пол-октавы тише.
– Эх, и заживем мы тут с тобой, – пробормотала Лялька, улыбаясь, – эх и заживем!
Вот только осталось купить дом.
Нечаянная встреча
Сати Спивакова
Добрейшая бабушка моя называла меня “пташечкой”. Возможно, поток детской болтовни был похож на птичье щебетание…
Летом 1941 года она бежала с контуженным во время Первой мировой войны и потому не призванным в Великую Отечественную мужем и моим восьмилетним отцом из горящего Ростова-на-Дону, из-под немецких бомб, в Ереван. Одна бомба попала в состав, и папа, маленький, тоже был контужен, к счастью, легко. В жизни бабушки этот переезд из Ростова в Ереван под бомбами так и остался единственным большим перемещением в пространстве. Армения показалась раем. Бедным, убогим, но раем. Все-таки тыл!!! К чему это я? Ах, да. Бабушка моя, особа чрезвычайно изысканная для своего времени (фильдеперсовые чулки, брошки на шляпках, духи “Красная Москва”, пудра “Коти” и наборы открыток с видами столиц мира), была еще и прекрасная рассказчица – про то свое единственное путешествие рассказывала так, что попутчики ее вставали передо мной как живые.
А вот у меня так сложилась жизнь, что все время в пути, с ранней юности. Попутчики, встречи… Сколько их было? Сразу и не вспомнить! При слове “путешествие” – один большой вокзал, перестук колес, сложные синкопы движущегося состава. Хотя больше я люблю летать, а не трястись в вагоне. И не только потому, что самолетом быстрее и с поездами связаны какие-то тревожные ассоциации (привет бабушке!), а дело в воспоминаниях, о которых и вспомнить-то неловко, даже если они давно завалены грудой дней, пожелтели, как полароидные снимки…
Кому из вас не знакомы исповеди соседу по купе, случайному попутчику. Ты понимаешь, что больше никогда его не увидишь, что лишь на одну ночь он оказался в твоей орбите, и – тебя начинает нести, как поезд под откос… Искушение – прикинуться Шахерезадой, проверить свою способность сочинять сказки. И вдруг покажется в прокуренном тамбуре, что лицо человека напротив, пускающего дым тебе в лицо, отныне будет самым дорогим. Мираж этот рассеивается обычно через 30 секунд после прибытия на конечную станцию… И телефон попутчика летит скомканным бумажным шариком на дно привокзальной урны, а с ним и ночные откровения под звон подстаканников, подрагивающих на пластиковых столиках. Дверка захлопывается, ключ выкинут за ненадобностью… Где вы, мои попутчики? Спутники бесчисленных перемещений по миру? Лихие фантазеры-болтуны, стеснительные очкарики, жуликоватые мачо, педанты, умеющие поухаживать за дамой, холеные дипломаты, пьющие артисты, друзья детства (как, ты не помнишь? мы же учились в параллельных классах, ты читала Лермонтова на перемене).
В общем, коллекция моих воспоминаний о путешествиях обширна, и она в исключительно дурном состоянии, как любая коллекция, которую лишь собирают, не имея времени классифицировать.
И все-таки есть одна история, которая стоит особняком и из памяти ее уже не вымарать. Бог знает, чем всё это могло кончиться.
…Мне до сих пор снится море, горящее в закатном пламени, пенная дорожка волн, стремящаяся догнать корабль, а иногда, если вдруг заболею, поднимется температура, и в полусне начинаю играть в игру “если бы”, мне снятся ЕГО глаза: огромные, удивленные, блестящие, как черный оникс, и всякий раз я вздрагиваю и просыпаюсь в жаркой испарине…
Июнь 2008 года. Мы с мужем гостим у милейшей пары интеллигентных пожилых людей. Они приглашают нас на пару дней в “круиз” на своей “яхте”. Яхта, на поверку, оказалась малюсеньким парусником: салон, открытая терраска со столом, диванчиком и парой кресел, две каюты… Но море!!!! Какое море!!! Бирюза, сапфиры, изумруды, серый жемчуг… Нет и намека на волны, на неведомый и опасный подводный мир… Утром просыпаемся в красивейшей бухте недалеко от Бодрума, и я ныряю в тишайшую, теплейшую воду… Я медленно уплываю, наслаждаясь лаской морской воды…
ОН вынырнул из воды стремительно, столкнувшись со мной в лобовом ударе, в сантиметре от меня, глаза в глаза… Огромная, круглая, гладкая, лысая голова, два гигантских черных глаза, белые, торчком усики… ТЮЛЕНЬ!!! Не знаю, кто из нас был сильнее удивлен?!
Только потом, спустя много часов, я пойму, что это и есть – страх смерти!
А в самую секунду встречи с этой “рыбкой”, кроме задохнувшегося в гортани крика, инстинкт скомандовал – плыви назад!! Но обаятельное, жизнерадостное чудище решило со мной задру-житься всерьез! Назад не получалось! Тюленище взмывал надо мной и плюхался сверху всей своей откормленной жирной тушей, как будто предупреждал: сейчас я тебя утоплю! Погружаясь под воду, я видела его песочно-серый, необъятный живот, выплывая на поверхность, наглотавшись воды, чувствовала липкий сильный хвост, которым он обволакивал всю меня до пояса. В руках не осталось сил отталкивать чудище, ноги постоянно находились в тисках его хвоста, дыхание не поспевало за тахикардией… Мгновенная мысль: утонуть вот так, средь бела дня, тихим солнечным утром в маленькой бухте Средиземного моря, жаль, что никто даже не узнает, не поймет, не увидит, не снимет на камеру… (Впрочем последние мысли пришли задним числом.)
Все так бы и закончилось, если бы наши друзья не любили иногда вооружаться биноклем в желании получше рассмотреть берега….
Когда на помощь подплыла спасательная лодка с двумя членами экипажа, я уже почти не оказывала сопротивления неожиданному поклоннику из царства морского. Поклонник же оказался весьма настойчивым – втащить меня, полубездыханную, на лодку удалось лишь вместе с ним: он плотно повис у меня на ногах, и расцепить нас удалось не сразу – двое здоровенных морячков потрудились изрядно. Так мы и доплыли до парусника, с тюленищем, занявшим все дно лодки. Меня внесли на палубу, а мой попутчик пытался вскарабкаться по трапу туда же – он решительно не хотел от меня отказываться, и лишь мощной струей воды из шланга и тыканьем в бока палкой морякам удалось заставить его убраться восвояси, туда, откуда приплыл. Тюлень с диким шумом плюхнулся в воду и сгинул на глубине…
Вы спросите, как оказался в Турции тюлень? Нам удалось разгадать эту загадку, лишь причалив через пару дней к берегу. В первой же местной газете, на первой странице, я обнаружила цветную фотографию своего неугомонного поклонника: мой кавалер возлежал на полосатом пляжном лежаке дорогого отеля, а вокруг стояли зеваки – кто с фотоаппаратом, кто с куском рыбки, кто еще с чем… Оказалось, мой несостоявшийся убийца был гвоздем летнего сезона, местной знаменитостью: некий турецкий миллионер, биолог по призванию, привез тюленя с Северного моря, впаял ему в хвост датчик и выпустил у берегов Бодрума, чтоб понаблюдать, как он будет чувствовать себя один (обычно тюлени плавают парами, так мне сказали) да еще в теплом Средиземном. Говорили, обычно он плавал у берега, выползал на пляж и с удовольствием предавался играм с отдыхающими и чревоугодию, а вспышки фотокамер и внимание окружающих его вроде забавляли… Но пару раз в день он исчезал, и даже суперчувствительный датчик (маленькая красная кнопка в центре хвоста) переставал реагировать на установленную на берегу аппаратуру по дислокации. Видимо, уходя ежедневно на часок-другой с радаров, тюленище искал меня… Искал и нашел! К счастью, встреча наша была недолгой!
Венецианские декабри
Андрей Бильжо
Их у меня скоро будет десять.
Я бегу в Венецию в декабре не только потому, что ее бесконечно люблю. Не только потому, что скучаю по ней и ревную ее. Но и потому, что декабрь в Москве для меня невыносим. В декабре в бешеной Москве я просто сходил с ума. В прямом смысле. Уж себе-то я диагноз могу поставить точно и громко, не оглядываясь на врачебную этику.
Эта подготовка к Новому году уже с начала ноября, эти елки за два месяца до, эти пробки, грязь, эти истеричные подведения итогов, этот новогодний юмор, это тревожное “нам надо встретиться до Нового года, старик”. Все это смешивалось в голове в одну кашу. (Один мой больной сказал: “Не надо размазывать кашу по волосам”. Это так, вспомнилось к “каше”.) И еще мелькание лампочек, автомобильные гудки и автомобильные сирены. Даже сейчас, когда я пишу этот текст своей чернильной ручкой, ярко все это представляя, мелкая дрожь, трудно отличимая от тошноты, рождается где-то в области эпигастрия. Вот еще и поэтому я стал убегать в Венецию. И сейчас с радостью перехожу к ней.
Господи, как же мне там хорошо и спокойно. Особенно в декабре. И какая она, Венеция, в декабре разная. Она всегда отдает мне себя, но не без остатка, оставляя что-то про запас. Венеция бесконечна и непостижима. Она всегда дарит мне что-то совсем неожиданное. И совсем непредсказуемое. Так было только в детстве. Вот точно и, может быть, это самое главное! Написал сейчас и понял. Я убегаю или улетаю туда (в прямом и переносном смысле), как в детство.
Набережная Дзаттере, на которой я живу, самая широкая и просторная. Она плавно перетекает (в Венеции надо по возможности избегать сухопутных глаголов) в “Набережную неисцелимых”, любимую Бродским. На Дзаттере много ресторанчиков, в которых я знаю многих официантов. А они знают меня. Некоторые ресторанчики имеют платформы на воде. И когда в декабре тепло, а бывает и плюс восемнадцать на солнце, я сижу на воде. То есть я сижу, конечно, на платформе, которая, в свою очередь, лежит на воде. Эту набережную солнце, когда оно не занято борьбой с облаками и свободно, всегда щедро заливает. Я пью, покачиваясь вместе с платформой, белое вино, покачивающееся в бокале, и смотрю на разные суда, которые вычерчивают свою, только им ведомую, выкройку на зеленом листе канала Джудекка, который отделяет набережную Дзаттере и остров Джудекка.
Вышивающие бесконечную вышивку суда очень разные. Они разной формы, размеров, цвета, функций. Они в десятки раз разнообразнее машин. Смешные, чудаковатые, грозные, агрессивные, тупые, задиристые, гламурные, работящие, строгие, крикливые, застенчивые, властные (дальше поставьте сами любые эпитеты, сколько хватит у вас фантазии и словарного запаса, какими бы вы могли и хотели наградить людей, и вы попадете в точку).
Иногда по каналу (только по этому) проплывают очень-очень-очень большие туристические лайнеры размером с пятнадцатиэтажный дом. На фоне этого лайнера Венеция становится маленькой, несчастной, беззащитной и трогательной. Она становится похожей на ребенка или старика, переходящего многополосную автостраду с мчащимися красивыми и самоуверенными машинами. Впереди и сзади лайнера – два венецианских буксира. Один, который впереди, тянет второй, который сзади сдерживает. Машине лайнера работать нельзя. Вибрация такого масштаба для Венеции опасна. Два эти буксира спокойны и уверены в себе. Они повидали много красавцев, прибывших из разных стран. Но буксиры – венецианцы, а это многое объясняет. И еще… Как важно, принимая серьезное решение, выключить внутри себя машину и отдаться двум буксирам. Буксиру “за” и буксиру “против”.
Именно в солнечном декабре, щурясь и зная точно, что происходит в это время в Москве, приятно чувствовать и видеть все это. И думать обо всем этом, не думая о Москве.
Но бывают декабри в Венеции очень мокрые. Это когда высокая вода. “Аква альта”. И тогда я надеваю высокие и даже очень высокие сапоги, которые заканчиваются там, где начинается нога. Ходить в сапогах по воде – это детское счастье. “Сапоги” по-итальянски “стивали”. И в этом слове есть что-то радостное и фестивальное. У венецианцев стивали зеленого цвета. Как венецианская вода. Все в сапогах. В сапогах в ресторане. В сапогах в музее. В сапогах в академии. Стоишь в зеленых сапогах и смотришь на “Грозу” Джорджоне, где небо такое же зеленое, как вода и твои сапоги. В сапогах венецианцы идут в театр “Фениче” и несут в мешочках сменную обувь. Сменку. Ох уж эти мешочки со сменкой. Матерчатые, со шнурком. Раскрутишь его над головой за шнурок, и он летит, как комета с хвостом, под потолок. И хорошо, если вернется на землю и не решит зацепиться “хвостом” за рожок школьной люстры с белыми матовыми шарами. А как драться этими мешками было приятно! Кому-нибудь по башке… В театре сапоги меняются на элегантную обувь. А сапоги сдаются в гардероб.
В сапогах приятно ходить по площади Сан-Марко. Когда все туристы, плотно прижавшись друг к другу, стоят на мостках, сделанных специально для них. Я бродил по Сан-Марко один не раз. То есть совсем один. А плотно сжавшиеся в один конгломерат туристы с завистью смотрели на меня и фотографировали этого странного венецианца. А вокруг меня плавали чайки. “Аква альта” – это время, когда ОПТ чаек вытесняет с Сан-Марко ОПТ голубей.
Бывают декабри в Венеции туманные. Разноцветный туман, где в каждой капельке влаги радуга, плотно стоит в Венеции. Без темных очков днем тяжело. Режет глаза. А в темных очках невозможно увидеть эти маленькие и удивительные радуги. И поэтому сквозь слезы (своя родная влага), щурясь, я смотрю на туман. В тумане через туман. Люди выплывают, уплывают, дробятся на атомы и восстанавливаются вновь.
Бывают в Венеции декабри снежные. Как-то выпало много снега, и лежал он долго. Почти неделю. Был снег, солнце и “высокая вода”. Островки снега плавали по затопленным улицам.
Венецианцы радовались и кувыркались в снегу в первый день. На второй помрачнели. А на третий испугались. “Неужели так будет всегда?..” Они прятали лица в шарфы. Я подбадривал их тем, что рассказывал им, что в Москве минус тридцать пять. Впрочем, от этих рассказов, по-моему, венецианцам становилось только страшнее.
Именно в декабре хорошо в Венеции путешествовать по воде. Хорошо и потому, что мало народу, и потому, что другое настроение. Светло-грустно-задумчивое. Ближе к воде – ближе к вечности. С воды Венеция показывает тебе себя совсем, совсем другой. Ты как бы подглядываешь за ней, и от этого примешивается к описанному настроению еще и волнение. А Венеция, по мере твоего движения, все время поворачивается к тебе своими новыми и новыми сторонами.
Путешествия по каналам и по лагуне – это нереализованные детские мечты мальчика, родившегося в империи, но, к сожалению, не в провинции и не у моря.
В редком снежном декабре хорошо сесть в гондолу. Только обязательно в ту, в которой гондольер не успел смести снег. Надо, чтобы на черной лакированной гондоле лежали белые сугробики снега. Сидишь в красном чреве черной лодки, укутавшись в синий плед, и прогуливаешь снег по зеленой воде каналов.
Вспомнилось… Однажды в ноябре в Суздале вдруг выпало очень много снега. Я оказался там. Вместе с венецианцем мы катались на расписных запряженных санях. Мы сидели, укутавшись в плед. А ямщик гнал вороного по белому снегу. Я подумал тогда, что Суздаль похож на Венецию. Сани – гондола, ямщик – гондольер.
Впрочем, срочно обратно в гондолу. В ней надо быть одному. И надо, чтобы гондольер молчал. Должен быть только плеск воды и плеск мыслей.