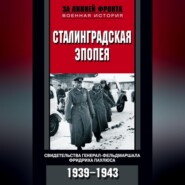По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Владимир Шаров: По ту сторону истории
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Для любви, которой движутся и море, и Гомер, на твоей карте не нашлось даже условных обозначений, но вся твоя география – о любви к Богу. Все законы человеческой природы упразднены: населению не до детей, не до семьи, не до дома. Личное счастье, супружеская жизнь приносятся в жертву великой идее всеобщего спасения. Общему делу подчинено все, вплоть до самого главного – рождения ребенка. Каждая женщина – Мария, живущая для рождения Спасителя, будь то Христос или Коля Гоголь.
Все дороги на твоей карте ведут кругами и кренделями в одну сторону. Иди хоть на Новгород с опричниками, на Берлин с танковым корпусом генерала Бойко, на Магадан с этапом – все равно все дороги ведут к Богу, ибо ведет их власть, а тому, кто наверху, – виднее.
Им сказали, что царь – от Бога, что он – отец правоверного народа, защитник Святого града, велика Россия, а отступать некуда, кругом – океан бесконечного зла. Не только восставать, но даже противиться царскому гневу – значит противиться воле Божьей, что есть смертный грех. Нужно объединить все народы мира под властью православного царя и тем самым превратить земной шар в Святую землю, а когда вся земля будет такая, тогда Христос и явится. Задача власти: расширение территории истинной веры, невзирая ни на какие жертвы. Раньше думай о родине, а потом о себе. Первым делом, первым делом самолеты, ну а девушки, а девушки потом. Там правят скопцы, мечтающие оскопить весь мир. Истинный государь женат на ландкарте.
Цари бывают настоящие и ненастоящие. Если карта прирастает, если другие народы склоняются перед московским самодержцем, как некогда посохи магов – перед посохом Моисея, то в этом благословение Божие замордованному населению, что преданно тянет веками лямку и геройски проливает кровь за святое отечество. И тогда не так важно, как царь пришел к власти и как правил своими подданными. Он может истреблять их миллионами, тысячами разрушать храмы, расстреливать священников. Важно лишь, что царь – настоящий, потому что враги трепещут, а святая Земля множится.
И наоборот, военные неудачи, утрата даже небольшой части Святой земли – ясный знак для подданных, что царь неблагословен, неистинен и незаконен. Проиграл Японскую, не смог одолеть Чечню – значит, в обличье царя на троне сидит «вор» и самозванец. Иначе почему Господь от него и от своей Святой земли отвернулся?
Поколение идет за поколением по твоей карте и каждый раз промахивается мимо домика с аистом на крыше и проваливается в спасение души: за царя и отечество, наше дело правое, все для фронта все для победы, крымнаш, вставание с колен и т. д. и т. п. У спасения души заготовлено много аватаров. Они повторяют, как мантру, что их отчизна – святая земля, что она «натуральный всамделишный рай… Пусть мы через одного голы и босы, зато счастливы, да и Адам был гол». «Да хоть камни с неба – мы на родине!» А железный занавес – чтобы не измараться, не смешать сакральное с тварным.
И если кто-то заикнется, что вот это бескрайнее безвременье на карте – никакая не святая Земля, а самый что ни на есть Египет и есть, его высочайшим повелением объявляют сумасшедшим, расстреливают в Бутовском овраге, отправляют грызть снег в Ивдель, сжигают его чучело у метро «Аэропорт», обливают, на худой конец, мочой из банки как нацпредателя.
Чуть ли не половину твоей карты занимает Николай Федоров. Там нет гор, все срыты. Низины засыпаны, всюду ровное поле. Вместо рек, текущих по собственной прихоти, – ровные каналы. Города, главные прибежища разврата, роскоши и неравенства, уничтожены. Весь земной шар подчинен русской православной короне. Второе пришествие рукотворно. Нечего ждать милостей у Христа, взять их у Него – наша задача. Святой русский народ может и без Его помощи спасти весь род человеческий. Смерти нет, ребята! Не обязательно ждать ни антихриста, ни Страшного суда, все устроим сами. Для общего дела построения рая на земле создаются трудовые армии. Вот распашем целину и возьмемся за воскрешение мертвых. В царство правды и вечной жизни – в ногу.
Федоров – квинтэссенция русской катастрофы. С Христом ли, с Марксом – все кончается ГУЛАГом.
Расстояние – подлая штука. Мы встречались все реже, но в каждый мой приезд в Москву обязательно виделись. Ты сдавал отцовскую квартиру в писательском доме и снимал где-то. Я приезжал к тебе то на «Аэропорт», то куда-то на Песчаные, то в Беляево. Приходила Оля, увешанная сумками с продуктами, готовила, кормила. Твой добрый ангел. У меня все было сложно, а твоя Оля казалась идеалом жены писателя. Может, так оно и было.
Оля – единственный человек, кто мог расшифровать твои каракули. Ты потом отдал свой почерк Жестовскому в «Царстве Агамемнона». Она переписывала твои тексты, вычитывала верстку. Она вела всю твою переписку – ты же вообще не знал, с какого бока подойти к компьютеру. Ты мог лишь выстукивать двумя пальцами на пишущей машинке. Ты вообще любил писать от руки, говорил: «Бумага теплая». Помню твои тексты – ты никогда не останавливался, правил машинопись, исчеркивал все страницы между строк и на полях, потом Оля снова все перепечатывала – и так по многу раз.
Представляю себе, как ей было с тобой трудно. Оля была всю жизнь в твоей тени, но она примерила на себя эту тень, как судьбу. Она сама и была твоей счастливой судьбой. Без этого удивительного человека не было бы твоих романов, вообще ничего бы в твоей жизни не было. Ты сам про это говорил.
Однажды я приехал летом, в разгар чемпионата Европы по футболу. Оля, как всегда, накрыла роскошный стол с малосольными огурцами, маринованными грибками, помидорами с кинзой, картошкой в укропе, ледяной водкой из морозилки. Датчане проиграли, но ты помнишь, какой роскошный гол забил Лаудруп! Потом мы пошли гулять, и ты, веселый от водки, рассказывал байки, которые слышал от отца, про то, как на Ямале в пургу он замерзает в тундре под снегом и его спасает друг, случайно спотыкнувшись о снежный холмик; или как в войну твой отец врывается первым в немецкий город и освобождает публичный дом; или как пьяный забредает на минное поле и спит на мине, как на подушке. Эти рассказы не были небылицами Мюнхгаузена. Это просто другая правда.
Одна история была про чуму. В 1938 году твой отец-орденоносец, спецкор «Известий» приходит брать интервью на квартиру к Абраму Берлину, знаменитому ученому, который хочет создать вакцину от чумы и испытывает ее на себе. Корреспонденту показывают пробирку с чумными блохами. Пробирку отец случайно открывает, одна блоха пропадает. Многомиллионному городу грозит смертельная эпидемия. Отец звонит в газету, получает указание закрыть наглухо все окна и двери. В течение недели – инкубационный период – отца и Берлина караулят чекисты. Еду им просовывают в щель для почты. Неделю они ждут смерти. Конец истории оптимистический – все живы, а Берлин создает вакцину, которая спасает жизнь многим миллионам людей.
Один клик в интернете – и из небытия восстают совсем другой Берлин и совсем другая история. Вакцину от чумы открыли давно, до Берлина, а в Саратове в засекреченном институте он трудился над разработкой бактериологического оружия. Опыты проводились над заключенными. В 1939 году он приехал на совещание в Москву, и у него открылись все симптомы чумы. Для предотвращения эпидемии было задействовано НКВД. Все контактировавшие с Берлиным были срочно изолированы в больнице на Соколиной Горе. Чтобы избежать паники, произносить слово «чума» было запрещено. Меры пресечения маскировались под аресты, которые ни у кого не вызывали никаких вопросов. Погибли от чумы три человека, в том числе Абрам Берлин. Вот такая история. Taste the difference.
Мне кажется, без понимания твоего отношения к отцу, к твоим предкам невозможно по-настоящему понять твои романы.
Как всякий ребенок, ты хотел самой обыкновенной семьи – с бабушками и дедушками, но самое обыкновенное было убито эпохой. Ты был единственным ребенком, а твоих дедушку и бабушку расстреляли задолго до твоего рождения. Еще один дед умер в тюрьме, а единственная бабушка, которую ты знал, пять лет отсидела в лагере для жен изменников родины.
Даже имя – свидетель страха. Шера Нюренберг, чтобы выжить, должен был стать Александром Шаровым. Твой отец сменил имя после ареста родителей.
Мне кажется, твоя зацикленность на идее «воскрешения отцов» во многом идет из детского желания воскресить своих деда и бабушку, из нерационального чувства вины перед ними, не дожившими до старости и внука, ведь так хотелось, чтобы все умирали, как положено природой или Богом, в своих постелях, а не от пули в затылок.
Невозможно представить себе, что творилось в душе твоего отца, у которого родителей только что казнили, а он должен был летать от газеты в полярные командировки и восторженно описывать арктические достижения палачей. Его отец – Израиль Нюренберг – погиб в ГУЛАГе, мать – Фани Липец – расстреляли в 1938?м. Они были профессиональные революционеры, бундовцы, примкнувшие потом к большевикам. Молодые образованные евреи хотели вырваться из бесконечной цепи местечковых толкователей Торы. Им казалось, что Интернационал упразднил религию их предков, что они сами, своими руками могут построить рай на земле. Твои бабушка и дедушка были убиты той властью, за которую они сражались. Все твои романы – попытка ответить на вопрос, почему твои деды и бабки строили рай, а построили ад, почему так получилось, что Россия не стала новой Землей Обетованной, а вернулась в рабство – в Египет.
И на фронт твой отец пошел в июне сорок первого добровольцем. Сколько поколений подцепили все за тот же крючок: Родина-мать зовет! Отечество в опасности! Им казалось, что они защищают отечество, а получалось, что они защищали свое рабство и несли его остальному миру.
Когда после войны начались гонения на «космополитов» и разоблачения псевдонимов, когда стали исчезать ближайшие друзья, твой отец писал агитки под видом научпопа о борьбе американской и советской науки, вроде книги «Жизнь побеждает!» про микробиологов: «Фашистская „наука“ бесконечно слабее передовой, прогрессивной науки. Вся история человечества подтверждает сталинские слова о том, что „великая энергия рождается лишь для великой цели“. Умирающий класс может только уродовать, искажать то, что на благо человечества создали настоящие ученые» и т. д. и т. п. Твой отец должен был славословить убийц родителей и друзей. Он вынужден был это делать, чтобы выжить, чтобы появился ты. Выдумки Шекспира кажутся по сравнению с этой трагедией детским лепетом. Без понимания этого невозможно понимание твоих романов. В этой трагедии твоей семьи отразились миллионы семейных трагедий всего народа, всей страны.
Александр Шаров ушел потом в детскую литературу, там еще можно было дышать. Твой отец – тоже бегун, а фантастика и сказки – его корабль.
В 1958?м он получил квартиру в писательском кооперативе у «Аэропорта». В то время возвращались люди из лагерей, и многие друзья отца приходили в гости, некоторые просто жили у вас. Они рассказывали то, что видели, через что прошли, а ты все это слушал, ребенком, отроком. Эти люди и стали твоими университетами, живой частью истории страны и времени.
Ты говорил, что самое больное для тебя было то, что люди исчезали и их сразу окружало молчание, будто их никогда и не было. Это молчание было самым страшным. Твои родные, как и миллионы других уничтоженных, уходили в небытие, окруженные молчанием, ничего после себя не оставив. И тебе было важно вернуть им место в истории, понять и восстановить их представления о жизни, о мире, в котором они жили, их понимание добра и зла. Ты всю жизнь писал не о том, как понимаешь Россию и все, что происходило с ней, а о том, как, по твоим представлениям, страна и люди понимали себя.
Ты примеряешь на себя чью-то память. Так легко все на свете теряется, особенно люди. От последнего века уцелели лишь ошметки. Ты возвращаешь всем потерявшимся в складках истории их память, их голос, их надежду, их веру.
Твоим героям чрезвычайно важно знать как можно больше о своих предках, давших им жизнь. Эта потребность у них от тебя – это тебе было важно знать все о своих родителях, об их отцах и матерях, дедах и бабках, родных свидетелях ушедшего времени. Ты это называл «теплой» историей. Не той, что из учебников, а живой, согретой дыханием близких людей, их радостями и печалями. В истории страны, мира тебе важна была именно история семьи, рода. В «Воскрешении Лазаря» ты написал: «Целая жизнь – это жизнь рода, иначе трудно понять, что и для чего, есть ли во всем смысл. Жизнь одного человека чересчур коротка. Маленькие таблички с именами, что мы подвешиваем к ветвям родословного дерева, – те же листья, каждой осенью они опадают, а следующей весной проклевываются другие листья, другое их поколение, дерево же живет и живет».
Ты говорил, что одна человеческая жизнь очень коротка и стремительна, чтобы понять много важных вещей, а когда все разворачивается на протяжении жизни многих поколений, тогда многое становится понятным. Смысл нашей жизни раскрывается в судьбе наших потомков, подобно тому, как мы своей жизнью придаем смысл существованию родителей и дедов наших.
В одном твоем интервью я нашел, как ты сказал очень важные для тебя вещи:
Мне не близки никакие организации и не слишком близки отношения учителя и ученика, хотя я понимаю, что в последних глубокая любовь, нежность, искренность тоже не редкость. И все-таки семья – другое дело. Семья – это территория, где тебя не торопят и не ждут, чтобы ты шел в одну сторону и не менял направление. Это нормально, что ты всегда меняешься, и семье интересно и важно, как ты меняешься. «Учения», «мироспасительные системы» – штука куда более жесткая. Думаю, именно по этой причине многие из них почитают семью за врага. У нас в стране семья была мелкобуржуазным пережитком, и власть ждала, что скоро она отомрет. Если тогда что-то и противостояло злу, то только семья[2 - Владимир Шаров: «Если что-то и противостояло злу, то это была семья…» Беседовала Елена Иваницкая // Первое сентября. 2013. № 16; https://ps.1sept.ru/article.php?ID=201301624.].
Ты сам был счастливым отцом. Помню, как ты всегда рассказывал о детях, радовался их успехам, с какой гордостью говорил о первых публикациях дочки. На тебе лица не было, когда рассказывал, как напали на улице на твоего сына.
Ты был вместе с отцом до самого его ухода. Когда он осмелился на поступок – подписал письмо в защиту Солженицына, – наказание последовало незамедлительно: его книги, уже готовые к печати, запретили, набор рассыпали. Последние годы он писал в стол без какой-либо надежды. Ты рассказывал, как ему было тяжело, какие это были для него мрачные годы, как он пил. И как он был счастлив писать наконец честную, свободную книгу – без страха, без оглядки на цензуру.
Ты много рассказывал мне об отце, говорил, что всем ему обязан, что именно он оказал на тебя как на писателя огромное влияние, что он целиком тебя сформировал, что ты вырабатывал себя, споря с ним. Он учил тебя, что добра с кулаками не бывает, если с кулаками, то это уже не добро. Ты видел, как он отчаянно переживал из?за того, что его корежила цензура, что он не мог писать так, как хотел. И для тебя литература была совершенно немыслима как профессия, он всей своей жизнью научил тебя писать исключительно для себя, свободно. И ты начал писать, понимая, что читателем твоим мог быть только КГБ. Отсюда все эти странные чекисты твоих романов, которым важно каждое написанное твоими героями, то есть тобою, слово, каждая запятая. Ты писал для чекистов, которые рано или поздно придут за твоими текстами и за тобой. И не их вина, что страна сделала очередное сальто-мортале и им стало на какое-то время не до тебя.
Даже после смерти отца ты вел с ним непрекращающийся разговор, и это было больше, чем диалог, это было сотворчество. Идею для твоего, наверно, лучшего романа «Возвращение в Египет» тебе отец подсказал оттуда. Ты говорил об этом в одном интервью: «Я перечитывал собрание сочинений Гоголя и обнаружил на полях комментарии моего отца. Что написано, разобрать не сумел, но пометы были сделаны в тех же местах, на которых останавливался я сам. Пройти мимо таких вещей трудно».
Твой отец был сказочником, публиковал грустные мудрые сказки, но, мне кажется, ты вырос не на них, а именно на его неподцензурных разухабистых байках, полных другой правды о жизни и времени. Все они – о человеческом тепле и вере в чудо. Смысл был не в соответствии с внешней реальностью, а с сутью мироздания. Именно так живет твоя проза. Врач – для спасения людей, а не для убийства. Власть, полиция, тайные службы – для того, чтобы беречь нас. Мы идем в Землю Обетованную, а не возвращаемся в Египет. Суть мироздания – в любви и в вере в чудо.
Наверно, ты любил рассказывать отцовские байки, потому что так ты удерживал отца, не давал ему уйти.
Наверно, и я для этого говорю сейчас с тобой – чтобы удержать хоть ненадолго, не дать тебе сразу уйти.
Мы могли подолгу не видеться, но разговор наш никогда не прерывался. Outlook – хранитель времени и слов.
Тебе о перечитанных «Репетициях»:
Я был совершенно оглушен, смят, завернут в твой текст – и продолжалось так несколько дней, пока не перечитал все. Невозможно было оторваться, хотя отрываться приходилось постоянно – заели всякие дела, к тому же мы переезжаем и т. д. и т. п.
Не знаю, обрадуешься ли ты тому, что я сейчас скажу, или огорчишься, но «Репетиции» – это, на мой, разумеется, взгляд, самый «шаровский» текст из всего, что я у тебя читал. Реальность абсурда завораживает. Я подчиняюсь твоей мощи абсолютно, просто перестаю существовать и из читателя в позе «ну что такого нового может мне тут какой-то еще автор навесить на уши» становлюсь совершенно буквально частью бесконечного круга, по которому ходят твои евреи, христиане и римляне. Замыкаю разорванный тобой круг. Они идут дальше по мне.
В этом романе совершенно нет «нешаровских» кусков. Все идет с постоянным напряжением и, честно говоря, – возвращаясь к нашему разговору у тебя на кухне – ты обрываешь действие, чтобы перескочить, например, через пару веков и снова его продолжить с потрясающими деталями – в общем-то произвольно. Эти перерывы совершенно не вытекают из потребностей текста. Иногда создается впечатление, что ты мог бы (и должен был бы) рассказывать дальше, но вдруг ты думаешь о том, что уже написал 300 страниц и где-то нужно сокращать, закругляться – в расчете на «общепринятый» объем романа. Такой текст должен, по мне, длиться столько, сколько длится, пусть 800 страниц, пусть 1000.
Из-за того, что ты обрезаешь (извини за невольный каламбур, не хотел) своих героев в одном романе, они – их энергия, их жизненное поле – прорываются, прорастают в других романах, хотя по сути это те же сгустки жизни, которым ты не дал выжить всех себя в предыдущих текстах. Отсюда ощущение, что герои последующих романов идут по тем же кругам, по которым шли предыдущие.
У меня, к сожалению, не получается внятно выразить то, что пришло в голову, но, может, оно и к лучшему. Сам пишущий всегда – читатель-урод. Начинает сразу думать, как можно что-то улучшить, а как бы сделал он (я). Не обращай внимания. Удовольствие от твоего текста – фантастическое.
Ты мне после окончания «Воскрешения Лазаря»:
Таких сложных вещей, и по тому, как мне работалось, и по другим обстоятельствам, у меня в жизни еще не было. Получилось или нет, я и сам толком не знаю, а ты из тех единичных людей, которых я и имею в виду, когда пишу. Мама моя любила цитировать Маяковского: «Я хочу быть понят родной страной, а не буду понят, так что ж. Над родной страной я пройду стороной, как проходит косой дождь». Со страной у меня все в порядке – понят ею я точно не буду, а ты, может, что-то и найдешь в «Лазаре» интересного. Ты, кстати, замечательно меня выучил: я запомнил твои переговоры со «Знаменем» по поводу «Взятия Измаила» и, когда они заикнулись про сокращения, твердо заявил, что вещь снимаю – и все уладилось.
Тебе о «Возвращении в Египет»:
Очень интересно ты говорил про то, как ты раскладывал и тасовал письма. Что-то такое чувствуется в тексте – необязательность именно такого расклада. Но идеи из разных обрывков сами схватываются с соседями и начинают «спариваться». Были бы другие соседи – началось бы спаривание с ними. Но именно в этом, я считаю, сила твоего текста. Ты наконец-то освободился от того, что нужно писать «прозу», то есть соответствовать каким-то представлениям и ожиданиям. В этом тексте ты отказался от «литературы», то есть от всех этих игр по кем-то когда-то придуманным правилам в фабулу и т. д., и оставил только себя в чистом виде – свою прямую речь, излагая свои идеи – и получился гениальный роман.
Корреспондентов Коли могло бы быть в два раза меньше или в два раза больше – не имеет значения, потому что они все равно все говорят твоим языком с твоей интонацией. Герой «Возвращения» все равно межстрочье – все, что у всех русских писателей, философов и историков между строк. Ты этому ощущаемому, но невысказанному дал голос.
Твой Гоголь, твой Чичиков-старовер, все твои бегуны, корабли, козлы отпущения, сети, все истории и образы – все мощно и неодолимо.