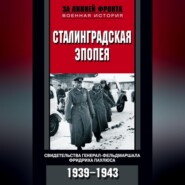По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Рождественские рассказы русских писателей
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Перед ним стояло отвратительное чудовище – грязное, худое. Оно дрожало от холоду и едва ворочало коснеющим языком. Его костлявое тело выглядывало из множества дыр обдерганного, обтрепанного рубища.
А сзади его, смеясь, самодовольно шло другое чудовище, еще более отвратительное, – чудовище, страшное своей бесчеловечностью и силой. Оно хохотало пронзительно – и при этом тряслись его длинные пейсы и остроконечная борода…
Оно шло на смену и было непобедимо…
Нестерпимый ужас охватывал сердце…
– «Путеводная звезда», – шептал он, – «путеводная звезда», куда ты меня привела?!!
И он смотрел с укором на эту «путеводную звезду», на это воспоминание из его далекого детства. Она висела перед ним на стене, обделанная в золотую рамочку.
Но в это время в соседней комнате раздались детские голоса, и в кабинет к нему ворвалась веселая компания.
Впереди всех бежали две его внучки с бокалами в руках, с букетами белых роз.
– С Новым годом, деда, с Новым годом!.. С новым счастьем, – и они обе обхватили его шею…
Подошли дочери, подошла и жена – и обняли его голову.
– С Новым годом, старик! – сказала она, целуя его.
Но старик ничего не ответил… Только горькие слезы тихо катились по его доброму старческому лицу…
Д.В. Григорович
Рождественская ночь
I
Сановник Араратов вышел из клуба в недовольном расположении духа. Он обыкновенно обедал у себя дома и всегда почти с гостями. Каждому из них, за два дня, посылалась с курьером коротенькая полуофициальная записочка, извещавшая о дне и часе обеда с присовокуплением, в чем следует быть одетым: во фраке или запросто в сюртуке. Одни приглашались таким образом для поддержки связей, другие из чувства покровительства или скорее снисхождения, так как слишком уже явно и долго добивались такой чести; – третьи, наконец, удостаивались приглашения потому лишь, что одному скучно было обедать и самый аппетит в таком случае слабее как-то возбуждался. После обеда немедленно садились за карты.
Против этого последнего развлечения, давно и повсеместно заменившего у нас беседу, могут восставать конечно только праздные и легкомысленные люди. В настоящее время деловые лица, – к числу которых принадлежал Араратов, – насилуют свой ум слишком уж напряженно, слишком отверженно; они положительно слишком подавлены, чересчур удручены заботами о пользе дорогого отечества, чтобы утомлять себя еще словопрением и бесцельной болтовней; не естественно ли предпочесть партию в винт, одаренную, как доказано новейшими научными исследованиями, дивным свойством сообщать мозгу полезное отдохновение.
Во всех случаях, впрочем, сановник Араратов, упитывая гастрономически своих гостей и охотно уплачивая повару по двадцати рублей с персоны, чувствовал к ним безразлично полнейшее равнодушие; он пожалел бы дать два рубля доктору за излечение хотя бы одной из этих персон от расстройства в желудке. Известие о внезапной кончине кого-нибудь из них встречало в нем, правда, тягостное чувство; но это происходило больше от того, что оно, во-первых, приводило ему на память мысль о смерти, которую старался он всегда отгонять от себя; во-вторых: заставляло его изменять на время привычному ходу жизни; – заставляло ездить на панихиды, присутствовать на похоронах, иногда в холодное или сырое время, и т. д.
Мы не ошибемся, кажется, если скажем, что лица, приглашаемые сановником, вполне разделяли в свою очередь такие же точно чувства к гостеприимному хозяину.
Араратов решился обедать в клубе потому собственно, что в этот день, именно 24 декабря, из круга его знакомых, все без исключения, придерживались старинного, быть может, весьма, почтенного, но тем не менее, по мнению Араратова, крайне ограниченного, узкого, рутинного обычая – непременно обедать в своих семействах, в семьях родственников и вообще самых близких друзей и знакомых.
Он остался, как мы говорили, весьма недоволен клубом. Начать с того, там, как нарочно, собралась все какая-то мелюзга; обед был также из рук вон плох; к закуске подавался какой-то форшмак из печенок налимов с поджаренным луком, который до сих пор производил изжогу под ложечкой. Относясь всегда крайне заботливо к процессу собственного пищеварения, он просидел там один час, сыграл от нечего делать партию в винт, выиграл что-то и рад был наконец, когда мог выйти на свежий воздух.
Отправив домой кучера, ждавшего с каретой у подъезда, Араратов пошел пешком.
Но суета, происходившая на улицах, ярко освещенных не только фонарями, но плошками и окнами магазинов, которые в этот вечер остаются открытыми дольше обыкновенного, мало, по-видимому, способствовала приятному развлечению сановника. Это не было то оживление, какое замечается на петербургских улицах в полдень, в дни дворцового торжества, выхода или парада, или вечером, после того как кончаются театральные представления и все спешат, желая поспеть к сроку на бал или раут; или в дни бенефиса какой-нибудь сценической знаменитости, когда то и дело попадаются суетливые личности, озабоченные мыслию занять где-нибудь денег с тем, чтобы в тот же вечер поднести бенефициантке бриллиантовую брошку, фермуар, серебряный сервиз и т. д.; нет, суеты и движения было, может быть, еще больше, только она отличалась более сдержанным, мирным характером; самый повод к оживленности был другого рода: суетились более или менее из-за того, чтобы успеть сделать необходимые покупки к елке или приобрести подарки к следующему дню.
На тротуаре, перед игрушечными магазинами и кондитерскими, было особенно тесно. Араратов останавливался, выпрямлялся во весь рост, выжидал, чтобы путь очистился, при чем брюзгливо выдвигал нижнюю губу и прищуривался, или же обходил место, поглядывая сверху вниз на толпу своими серыми стальными зрачками. В обоих случаях осанка его не утрачивала ни на секунду своей торжественной величавости, лицо, с правильно ниспадавшими седыми бакенами, сохраняло обычную, сосредоточенную строгость.
При встрече с ним некоторые сторонились, давая ему дорогу, другие оглядывались и невольно замечали по соседству: «Смотри-ка, старик, – а какой еще молодчина, какой важный!» Он же не обращал ни на кого внимания, ни на людей, ни на блестящие окна магазинов, предмет праздного любопытства. Наконец все это ему наскучило; время от времени, к тому же, подымался острый ветерок, мороз усиливался и начинал пощипывать нос и щеки.
Араратов повернул в соседнюю улицу и прямо направился к своему дому. Невдалеке от подъезда услышал он за собой плач ребенка и чей-то надорванный голос. Он машинально замедлил шаг и так же машинально оглянулся через плечо.
При свете фонарей и ближайших окон, освещенных изнутри зажженными елками, увидел он оборванную женщину, державшую на груди ребенка, закутанного в тряпье; свободной: рукой тащила она мальчика лет пяти, шершавые лохмотья и неуклюжая взъерошенная шапка, падавшая на глаза мальчика, придавали ему близкое сходство с медвежонком; ребенок упирался и плакал навзрыд, засовывая пальцы рук в рот, отчего и получались те странные звуки, которые заставили сановника оглянуться.
– Барин-батюшка, – заговорила женщина, обнадеженная движением господина, – подайте на хлеб… Хоть малость какую… Подайте для праздника…
Араратов отвернулся, ускоряя шаг.
– Барин-батюшка, не оставьте меня, бедную… – приставала женщина, – сирот хоть пожалейте… Сутки не евши… Будем за вас Бога молить…
Араратов был известен своей благотворительностью. В течение каждой зимы, чуть ли не ежедневно, посылали ему билеты на всевозможные человеколюбивые предприятия, – концерты, спектакли, базары, чтения, балы, маскарады и проч.; он редко отвечал на них отказом; когда светские благотворительницы являлись к нему на дом, он вручал им денежный конверт с такой любезностью, что они уходили всегда в восторге. Араратов не любил только видеть нищету и бедность; оборванные люди, грязные лица и руки, грубые черты, хриплые голоса, – производили всегда отталкивающее действие на его чувствительные нервы. Признавая нищету неизбежным злом человеческого общества, он в то же время относил появление нищих на улицах столицы к беспорядку, недосмотру, нерадению полицейского управления. Нельзя же в самом деле, чтобы в благоустроенном городе нищие приставали к прохожим, дерзко их останавливали, надоедали им своим попрошайничеством!
Женщина с детьми служила как бы подтверждением, насколько справедлив был такой взгляд.
– Батюшка-барин, – продолжала она приставать с удвоенной настойчивостью, заходя то с одного бока, то с другого, – пожалейте хоть ребят малых… У меня дома таких трое еще осталось… голодные сидят… Взмилуйся хоть для Христова праздника…
Араратов потерял наконец терпенье.
– Если ты не отстанешь, – произнес он на ходу и в полуоборота, – я сей час позову городового!
Но потому ли, что по близости не оказалось в эту минуту хранителя общественного порядка, потому ли, что женщина была в самом деле доведена до крайности, угроза сердитого барина не остановила ее. Она продолжала умолять его, просила дать хоть пятачок на хлеб.
Прохожие начинали останавливаться; – этого только недоставало!
Араратов досадливым движением отпахнул край собольей шубки и опустил руку в боковой карман панталон; он вспомнил, что после партии в клубе сунул туда второпях несколько ассигнаций: нащупав одну из них, он не оборачиваясь подал ее женщине, заботясь о том только, чтобы не коснуться как-нибудь ее грязных, быть может, даже больных пальцев.
Минуту спустя очутился он на подъезде своего дома.
В прихожей встретил его старый швейцар, выбежавший из боковой двери, которую второпях забыл закрыть.
– Что у тебя там за свет?.. – спросил Араратов, указывая в ту сторону глазами.
Швейцар испуганно метнулся было к незапертой своей двери, но одумался на ходу и, мгновенно вернувшись к барину, приступил к сниманию с него шубки.
– Что там за свет, я спрашиваю, – нетерпеливо повторил Араратов.
– Ел… елка… для детей… – проговорил швейцар, очевидно стараясь выражением лица и голосом оправдать невинность своей затеи.
Не давая ответу швейцара большего вниманья, как если б муха прожужжала о своих мушиных интересах, – Араратов стал подыматься по широкой лестнице, установленной тропическими растениями.
Достигнув верхней площадки, он прошел, не останавливаясь и не поворачивая головы, мимо лакея во фраке и белом галстухе и двух остолбеневших курьеров. В доме его заведено было, чтобы прислуга ему не кланялась. – «Что я тебе сват или приятель, что ты мне кланяешься!» – строго заметил он еще на днях вновь поступившему лакею, отвесившему низкий поклон.
С верхнего поворота лестницы открывался ряд парадных комнат; они освещались теперь только с улицы. Иногда отражение от фонарей на проезжавших мимо каретах, пробегая красноватым пятном по стенам, выдвигало часть зеркала или бронзового канделябра и, быстро мелькнув с противоположного конца по потолку, внезапно освещало золоченые украшения люстры; но это продолжалось секунду; ровный полусвет водворялся снова, и в нем явственно обрисовывалась только высокая фигура самого хозяина, медленно переходившая из одной комнаты в другую.
Он вошел в уборную, где ожидал его камердинер.
На стульях, перед горевшим камином, разложены были в последовательном порядке обычные предметы домашнего туалета.
Камердинер знал до тонкости привычки своего господина, не терпевшего лакейских мудрствований и требовавшего во всем механического, но быстрого исполнения: ни одна складка не должна была беспокоить тела: каждой части одежды следовало предварительно быть тщательно осмотренной, пригнанной, приготовленной таким образом, чтобы нигде не задерживаться, не мешать ей входить как по маслу, не стеснять движений. Если что-нибудь было не так, – Араратов поворачивал только голову, слегка подымал брови, – и этого уже было совершенно достаточно для того, чтобы камердинер сто раз проклял себя внутренно за свою оплошность.
А сзади его, смеясь, самодовольно шло другое чудовище, еще более отвратительное, – чудовище, страшное своей бесчеловечностью и силой. Оно хохотало пронзительно – и при этом тряслись его длинные пейсы и остроконечная борода…
Оно шло на смену и было непобедимо…
Нестерпимый ужас охватывал сердце…
– «Путеводная звезда», – шептал он, – «путеводная звезда», куда ты меня привела?!!
И он смотрел с укором на эту «путеводную звезду», на это воспоминание из его далекого детства. Она висела перед ним на стене, обделанная в золотую рамочку.
Но в это время в соседней комнате раздались детские голоса, и в кабинет к нему ворвалась веселая компания.
Впереди всех бежали две его внучки с бокалами в руках, с букетами белых роз.
– С Новым годом, деда, с Новым годом!.. С новым счастьем, – и они обе обхватили его шею…
Подошли дочери, подошла и жена – и обняли его голову.
– С Новым годом, старик! – сказала она, целуя его.
Но старик ничего не ответил… Только горькие слезы тихо катились по его доброму старческому лицу…
Д.В. Григорович
Рождественская ночь
I
Сановник Араратов вышел из клуба в недовольном расположении духа. Он обыкновенно обедал у себя дома и всегда почти с гостями. Каждому из них, за два дня, посылалась с курьером коротенькая полуофициальная записочка, извещавшая о дне и часе обеда с присовокуплением, в чем следует быть одетым: во фраке или запросто в сюртуке. Одни приглашались таким образом для поддержки связей, другие из чувства покровительства или скорее снисхождения, так как слишком уже явно и долго добивались такой чести; – третьи, наконец, удостаивались приглашения потому лишь, что одному скучно было обедать и самый аппетит в таком случае слабее как-то возбуждался. После обеда немедленно садились за карты.
Против этого последнего развлечения, давно и повсеместно заменившего у нас беседу, могут восставать конечно только праздные и легкомысленные люди. В настоящее время деловые лица, – к числу которых принадлежал Араратов, – насилуют свой ум слишком уж напряженно, слишком отверженно; они положительно слишком подавлены, чересчур удручены заботами о пользе дорогого отечества, чтобы утомлять себя еще словопрением и бесцельной болтовней; не естественно ли предпочесть партию в винт, одаренную, как доказано новейшими научными исследованиями, дивным свойством сообщать мозгу полезное отдохновение.
Во всех случаях, впрочем, сановник Араратов, упитывая гастрономически своих гостей и охотно уплачивая повару по двадцати рублей с персоны, чувствовал к ним безразлично полнейшее равнодушие; он пожалел бы дать два рубля доктору за излечение хотя бы одной из этих персон от расстройства в желудке. Известие о внезапной кончине кого-нибудь из них встречало в нем, правда, тягостное чувство; но это происходило больше от того, что оно, во-первых, приводило ему на память мысль о смерти, которую старался он всегда отгонять от себя; во-вторых: заставляло его изменять на время привычному ходу жизни; – заставляло ездить на панихиды, присутствовать на похоронах, иногда в холодное или сырое время, и т. д.
Мы не ошибемся, кажется, если скажем, что лица, приглашаемые сановником, вполне разделяли в свою очередь такие же точно чувства к гостеприимному хозяину.
Араратов решился обедать в клубе потому собственно, что в этот день, именно 24 декабря, из круга его знакомых, все без исключения, придерживались старинного, быть может, весьма, почтенного, но тем не менее, по мнению Араратова, крайне ограниченного, узкого, рутинного обычая – непременно обедать в своих семействах, в семьях родственников и вообще самых близких друзей и знакомых.
Он остался, как мы говорили, весьма недоволен клубом. Начать с того, там, как нарочно, собралась все какая-то мелюзга; обед был также из рук вон плох; к закуске подавался какой-то форшмак из печенок налимов с поджаренным луком, который до сих пор производил изжогу под ложечкой. Относясь всегда крайне заботливо к процессу собственного пищеварения, он просидел там один час, сыграл от нечего делать партию в винт, выиграл что-то и рад был наконец, когда мог выйти на свежий воздух.
Отправив домой кучера, ждавшего с каретой у подъезда, Араратов пошел пешком.
Но суета, происходившая на улицах, ярко освещенных не только фонарями, но плошками и окнами магазинов, которые в этот вечер остаются открытыми дольше обыкновенного, мало, по-видимому, способствовала приятному развлечению сановника. Это не было то оживление, какое замечается на петербургских улицах в полдень, в дни дворцового торжества, выхода или парада, или вечером, после того как кончаются театральные представления и все спешат, желая поспеть к сроку на бал или раут; или в дни бенефиса какой-нибудь сценической знаменитости, когда то и дело попадаются суетливые личности, озабоченные мыслию занять где-нибудь денег с тем, чтобы в тот же вечер поднести бенефициантке бриллиантовую брошку, фермуар, серебряный сервиз и т. д.; нет, суеты и движения было, может быть, еще больше, только она отличалась более сдержанным, мирным характером; самый повод к оживленности был другого рода: суетились более или менее из-за того, чтобы успеть сделать необходимые покупки к елке или приобрести подарки к следующему дню.
На тротуаре, перед игрушечными магазинами и кондитерскими, было особенно тесно. Араратов останавливался, выпрямлялся во весь рост, выжидал, чтобы путь очистился, при чем брюзгливо выдвигал нижнюю губу и прищуривался, или же обходил место, поглядывая сверху вниз на толпу своими серыми стальными зрачками. В обоих случаях осанка его не утрачивала ни на секунду своей торжественной величавости, лицо, с правильно ниспадавшими седыми бакенами, сохраняло обычную, сосредоточенную строгость.
При встрече с ним некоторые сторонились, давая ему дорогу, другие оглядывались и невольно замечали по соседству: «Смотри-ка, старик, – а какой еще молодчина, какой важный!» Он же не обращал ни на кого внимания, ни на людей, ни на блестящие окна магазинов, предмет праздного любопытства. Наконец все это ему наскучило; время от времени, к тому же, подымался острый ветерок, мороз усиливался и начинал пощипывать нос и щеки.
Араратов повернул в соседнюю улицу и прямо направился к своему дому. Невдалеке от подъезда услышал он за собой плач ребенка и чей-то надорванный голос. Он машинально замедлил шаг и так же машинально оглянулся через плечо.
При свете фонарей и ближайших окон, освещенных изнутри зажженными елками, увидел он оборванную женщину, державшую на груди ребенка, закутанного в тряпье; свободной: рукой тащила она мальчика лет пяти, шершавые лохмотья и неуклюжая взъерошенная шапка, падавшая на глаза мальчика, придавали ему близкое сходство с медвежонком; ребенок упирался и плакал навзрыд, засовывая пальцы рук в рот, отчего и получались те странные звуки, которые заставили сановника оглянуться.
– Барин-батюшка, – заговорила женщина, обнадеженная движением господина, – подайте на хлеб… Хоть малость какую… Подайте для праздника…
Араратов отвернулся, ускоряя шаг.
– Барин-батюшка, не оставьте меня, бедную… – приставала женщина, – сирот хоть пожалейте… Сутки не евши… Будем за вас Бога молить…
Араратов был известен своей благотворительностью. В течение каждой зимы, чуть ли не ежедневно, посылали ему билеты на всевозможные человеколюбивые предприятия, – концерты, спектакли, базары, чтения, балы, маскарады и проч.; он редко отвечал на них отказом; когда светские благотворительницы являлись к нему на дом, он вручал им денежный конверт с такой любезностью, что они уходили всегда в восторге. Араратов не любил только видеть нищету и бедность; оборванные люди, грязные лица и руки, грубые черты, хриплые голоса, – производили всегда отталкивающее действие на его чувствительные нервы. Признавая нищету неизбежным злом человеческого общества, он в то же время относил появление нищих на улицах столицы к беспорядку, недосмотру, нерадению полицейского управления. Нельзя же в самом деле, чтобы в благоустроенном городе нищие приставали к прохожим, дерзко их останавливали, надоедали им своим попрошайничеством!
Женщина с детьми служила как бы подтверждением, насколько справедлив был такой взгляд.
– Батюшка-барин, – продолжала она приставать с удвоенной настойчивостью, заходя то с одного бока, то с другого, – пожалейте хоть ребят малых… У меня дома таких трое еще осталось… голодные сидят… Взмилуйся хоть для Христова праздника…
Араратов потерял наконец терпенье.
– Если ты не отстанешь, – произнес он на ходу и в полуоборота, – я сей час позову городового!
Но потому ли, что по близости не оказалось в эту минуту хранителя общественного порядка, потому ли, что женщина была в самом деле доведена до крайности, угроза сердитого барина не остановила ее. Она продолжала умолять его, просила дать хоть пятачок на хлеб.
Прохожие начинали останавливаться; – этого только недоставало!
Араратов досадливым движением отпахнул край собольей шубки и опустил руку в боковой карман панталон; он вспомнил, что после партии в клубе сунул туда второпях несколько ассигнаций: нащупав одну из них, он не оборачиваясь подал ее женщине, заботясь о том только, чтобы не коснуться как-нибудь ее грязных, быть может, даже больных пальцев.
Минуту спустя очутился он на подъезде своего дома.
В прихожей встретил его старый швейцар, выбежавший из боковой двери, которую второпях забыл закрыть.
– Что у тебя там за свет?.. – спросил Араратов, указывая в ту сторону глазами.
Швейцар испуганно метнулся было к незапертой своей двери, но одумался на ходу и, мгновенно вернувшись к барину, приступил к сниманию с него шубки.
– Что там за свет, я спрашиваю, – нетерпеливо повторил Араратов.
– Ел… елка… для детей… – проговорил швейцар, очевидно стараясь выражением лица и голосом оправдать невинность своей затеи.
Не давая ответу швейцара большего вниманья, как если б муха прожужжала о своих мушиных интересах, – Араратов стал подыматься по широкой лестнице, установленной тропическими растениями.
Достигнув верхней площадки, он прошел, не останавливаясь и не поворачивая головы, мимо лакея во фраке и белом галстухе и двух остолбеневших курьеров. В доме его заведено было, чтобы прислуга ему не кланялась. – «Что я тебе сват или приятель, что ты мне кланяешься!» – строго заметил он еще на днях вновь поступившему лакею, отвесившему низкий поклон.
С верхнего поворота лестницы открывался ряд парадных комнат; они освещались теперь только с улицы. Иногда отражение от фонарей на проезжавших мимо каретах, пробегая красноватым пятном по стенам, выдвигало часть зеркала или бронзового канделябра и, быстро мелькнув с противоположного конца по потолку, внезапно освещало золоченые украшения люстры; но это продолжалось секунду; ровный полусвет водворялся снова, и в нем явственно обрисовывалась только высокая фигура самого хозяина, медленно переходившая из одной комнаты в другую.
Он вошел в уборную, где ожидал его камердинер.
На стульях, перед горевшим камином, разложены были в последовательном порядке обычные предметы домашнего туалета.
Камердинер знал до тонкости привычки своего господина, не терпевшего лакейских мудрствований и требовавшего во всем механического, но быстрого исполнения: ни одна складка не должна была беспокоить тела: каждой части одежды следовало предварительно быть тщательно осмотренной, пригнанной, приготовленной таким образом, чтобы нигде не задерживаться, не мешать ей входить как по маслу, не стеснять движений. Если что-нибудь было не так, – Араратов поворачивал только голову, слегка подымал брови, – и этого уже было совершенно достаточно для того, чтобы камердинер сто раз проклял себя внутренно за свою оплошность.