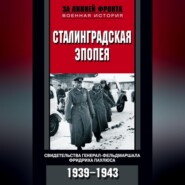По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Хватит игр, – злишься. – Чего конкретно ты хочешь?
За спиной что-то мягко падает. Ты оборачиваешься, видишь над кроватью пустую полку. Игрушки с нее расшвыряны по комнате. Все, кроме одной, смотрящей на тебя с подушки. У нее синее вязаное тело и белые крылышки на проволоке. Добрый, пуговичный взгляд.
Ты берешь ее – его – в руки. Помедлив, гладишь по загривку. Если… тихо допускаешь. Если я заберу тебя, ты оставишь моего сына в покое?
Температура в комнате выравнивается, становясь, как подобает, комнатной. Ты качаешь в руках вместилище тьмы, аватар подземного холода, но прямо сейчас он теплый, чуть шершавый, как мамин вязаный шарф. И ты думаешь:
Может, еще обойдется?
И ты говоришь:
– Хорошо. Поехали со мной.
* * *
Твой сын растет быстро, спит крепко. И хоть несколько лет кошмаров сказались на его здоровье, деньги справились со многим. Годы сгладили остальное.
Он больше не зовет тебя. Вместо этого живет на твоей прикроватной тумбочке. Постоянно падает, когда ему что-то не нравится. А ты его постоянно поднимаешь. Так проходит жизнь, целое десятилетие, на исходе которого ему особенно не нравится твой муж. У того, всем очевидно, роман с ведущей актрисой его новой трилогии, но не потому, что она моложе, (или) красивее, (или) спокойнее тебя (хотя не без этого). Просто она редко выходит из роли, и ему не нужно напрягаться, чередуя имена.
Режиссер уходит ровненько перед выпускными экзаменами сына. Ему как-то не приходит в голову, что он оставляет не только тебя. К счастью, помимо вас он оставляет трехэтажный особняк, обставленный Гауди, обвешанный жаккардом и репродукциями Дали. Пару дней ты блуждаешь по нему, держась за разбитое сердце, но, если честно, только ради приличия. Под конец дежурной скорби видишь сон. В нем вы с режиссером снова молодые, неприученные, лежите на твоей кровати в общежитии.
За окном синяя морозная гроза. Орхидеями пахнут свечки. Он делает совсем не те вещи, которые делал тогда, а что-то намного приятнее. Как будто знает тебя всю жизнь, как будто очень скучает. Он нежен, но жаден, ласков, но напорист. Вам не хватает одного раза. Нужно еще. Под утро он гладит твой живот, водит по шрамам на ногах, читая их, как дорожную карту. Как подсказки, где найти очень важное сокровище. Твою любовь, говорит он, наклоняясь так близко, что даже в предрассветной серости ты различаешь его мерцающий взгляд, его мягкое лицо.
И это – вдруг понимаешь ты – совсем не режиссер.
Ты просыпаешься от судороги. Но это не судорога боли. Ты срываешься с постели, прихватив одеяло, включаешь свет и, завернувшись в плотный кокон из ткани, орешь, натурально орешь на него:
– Ты совсем охренел?! Ты!.. Господи! Какого!..
Он лежит на подушке режиссера, хотя должен сидеть на тумбочке. Тебя всю еще сводит, как редко сводило с бывшим мужем. Пуговичные глаза внимательно за этим следят. Ты воешь и, отвернувшись, собираешься выбежать из комнаты, но осаждаешь себя в последнюю секунду.
Какого черта, думаешь. Запускаешь пальцы в волосы, убираешь их с лица. Он уже выселил тебя из родительского дома. Черта с два ему достанется этот.
Ты относишь его в подвал, пахнущий машинным маслом. Ты знаешь, следующим вечером он снова окажется на тумбочке, но тебе ничто не помешает снова отнести его вниз. По правде, ты планируешь запирать его в подвале столько, сколько он будет возвращаться к тебе в спальню, минуя этажи и замки в дверных ручках. Из ночи в ночь. По кругу, по кругу. Пока машинным маслом не пропахнут все сны.
За завтраком твой сын с прагматичностью будущего хирурга – он все решил еще в десять – спрашивает:
– На кого ты кричала ночью, мам?
Ты изображаешь удивление. Довольно правдоподобно, но он смотрел все ваши фильмы – с друзьями, разумеется, потому что до большинства дорастет лишь через год, – так что он знает (и, к счастью, любит) настоящую тебя. Потому продолжает:
– Тебе надо сделать МРТ.
Ты спрашиваешь, нервно смеясь:
– Зачем?
Он отвечает, серьезный донельзя:
– Потому что чаще всего невидимые собеседники живут в лобной доле. Вместе с опухолью. Мам.
Ты смотришь на него и, конечно, хочешь сказать, что они не невидимые. Что его папа тоже видел их. Но его папа видел только раскромсанное постельное белье, порезы на матрасе, да, длинные, да, от острого, но ничто не мешало их оставить человеку.
В конце концов, папе нужны были сюжеты. Папе нужны были герои. Девушка, страдающая не то от призрака под столом, не то от душевных болезней, – отличный герой для мистического кино, хоть фильм, спустя годы признаешь ты, и вышел слишком плоским.
– Пожалуйста, – повторяет сын.
– Хорошо, – соглашаешься ты.
Ты даже немного рада, что, просуммировав все твои странности, он посчитал тебя органически, а не психически больной. Жертвой канцерогенов, неправильно питания и стресса. Не сумасшедшей. До первых результатов МРТ, само собой.
* * *
После медицинского университета сын переезжает в другое полушарие. Туда, где его золотые руки принесут ему золотые горы. Вы созваниваетесь два раза в неделю в одиннадцать часов; у него – утра, у тебя – вечера. Он все еще любит тебя, несмотря на то что не смог починить. Еще он любит хирургию, а вместе с ней юную, почти гениальную японку-эндокринолога, которую встретил на международном симпозиуме. В общем, тебе достается немного, но ты не обременяешь его побирательством. Вместо этого начинаешь делать странные вещи, водить домой разных мужчин. Ты актриса, пусть и увядающая, пусть и сбрасывающая позолоту к подступающим экзистенциальным заморозкам. Ты можешь себе это позволить. Другое дело, что эти неинтеллектуальные, грубоватые, не понимающие ни в психиатрии, ни в оккультизме мужчины все как один в восторге от твоего дома. И все как один не возвращаются в него. Не читают твои сообщения. Редко перезванивают. Ты подозреваешь: он что-то делает с ними. С их снами или чего похуже. И вот, провожая по утру до такси одного из – особенно немногословного, – ты прикуриваешь, встречаешься взглядом с соседским ребенком. Это девочка из дома напротив. Вся в бантиках и рюшках, с кружевным зонтиком. Она смотрит на тебя, потом – за тебя.
Тетенька, говорит.
За вами кто-то стоит.
Ах так, с издевкой обращаешься ты к пустым сводам столовой. Такой вот план, да? Думаешь, у меня поедет крыша от одиночества и я как миленькая прибегу к тебе?
Черт с два, шипишь ты, теперь встречаясь с мужчинами в отелях.
Черт с два, цедишь, когда это не помогает.
Вы снова воюете, за тебя и твое право быть с теми, с кем ты хочешь, даже если ты не хочешь их на самом деле. Это уже неважно. Это вопрос принципа. Вы воюете, он выигрывает, ты напиваешься по вечерам. Однажды хватаешь игрушку с тумбочки, едешь на край города и швыряешь с пирса в глубокое черное озеро. Вперед, кричишь ты, давай, на всю округу, попробуй теперь влезть в мою постель! Через три дня, в долгожданные одиннадцать, тебе звонит не сын, а его японка-невеста, потому что у сына от кошмаров мигрень третий день, и такая сильная, что до слепоты. Ты все понимаешь. Возвращаешься на озеро, копаешься в песке, грязи, иле, мусоре, заходишь по колено в воду, раздеваешься, чтобы искать вплавь. Ты часами ходишь по берегу, со стороны все полоумнее. Ищешь, зовешь, умоляешь и только под утро находишь синюю игрушку с белыми крылышками, полузарытую в песке.
Сын звонит вечером, сам. Усталый, но живой. Он уверяет, что это переутомление. Ты не споришь.
Годы сменяют друг друга. У тебя появляется внук, но только на экране ноутбука. Сын говорит, что однажды это изменится. Говорит: сейчас много работы, но как-нибудь мы обязательно приедем. Ты ему, конечно, веришь. Настолько, чтобы освободить от мук совести. Внук крепнет, растет. Звонки все чаще приурочиваются к праздникам.
Ты живешь как кошатница, только без кошек. Чувствуешь, что за годы одиночества разучилась подстраиваться под людей. Не работаешь, распродаешь Гауди и Дали. Иногда, впрочем, ходишь на чужие премьеры. На одной из них, в фойе, узнав по шубе, тебя окликает давний знакомый, какой-то продюсер. Беспредметный разговор перетекает сначала в деловой ужин, затем в большой семейный обед (ты пропускаешь) и, наконец, предложение вернуться на съемочную площадку. Да, на один эпизод. Да, в роли сомнительной, про женскую старость. Но даже так, в дешевом гриме, с раздражением от полиэстера на груди, ты чувствуешь себя превосходно. Как дельфин, которого вернули в океан.
Что-то перещелкивает. Роли второго-третьего плана текут к тебе тонкой, но стабильной струей. В одном из сериалов, достаточно художественном для детективного процедурала, ты играешь жену полковника, у которой в конце сезона манифестируется шизофрения, и ее галлюцинации едва не срывают поимку убийцы. Критики не скупятся на параллели с ранними ролями, выкапывают в них вторые-третьи смыслы, нынче модные. В конце концов, подытоживает твоя любимая рецензия, что есть безумие, как не демон, которого видят все?
Ты снова пьешь, уже не в одиночестве. Маленькие глотки пропорциональны маленьким шагам. Но ты делаешь их сама, навстречу людям. В твоем доме снова говорят о кино. И снова – снова – в один из таких вечеров, на излете дружеского спора о жизни-смерти (индустрии), звонит мама.
Ну как, мама.
Ее сиделка из хосписа.
* * *
Самое страшное, думаешь ты, это месяцы ее одиноких размышлений. Ты не заметила, что звонки стали реже. Ты не думала, что уже лет десять надо быть настороже. «Котенок, – шепчет мама, зябкая, в платке. – Ты ни в чем не виновата, котенок. Никто ни в чем не виноват».
Рак. Это же вспышка в суховее. Когда мама узнала, в чем дело, уже пылал горизонт. Проверься, пожалуйста, держит она тебя за руку. Ранняя диагностика, котенок, это так важно, так важно. В ее состоянии сложно понять, откуда все началось, но она думает, это грудь. Сиделки с ней согласны.
Ты проносишь в хоспис красную икру и дорогое вино, сыры, манго, метровые розы и кучу всего еще. Вспыхиваешь, когда медсестры заикаются, что маме нельзя такое есть, тем более пить.
За спиной что-то мягко падает. Ты оборачиваешься, видишь над кроватью пустую полку. Игрушки с нее расшвыряны по комнате. Все, кроме одной, смотрящей на тебя с подушки. У нее синее вязаное тело и белые крылышки на проволоке. Добрый, пуговичный взгляд.
Ты берешь ее – его – в руки. Помедлив, гладишь по загривку. Если… тихо допускаешь. Если я заберу тебя, ты оставишь моего сына в покое?
Температура в комнате выравнивается, становясь, как подобает, комнатной. Ты качаешь в руках вместилище тьмы, аватар подземного холода, но прямо сейчас он теплый, чуть шершавый, как мамин вязаный шарф. И ты думаешь:
Может, еще обойдется?
И ты говоришь:
– Хорошо. Поехали со мной.
* * *
Твой сын растет быстро, спит крепко. И хоть несколько лет кошмаров сказались на его здоровье, деньги справились со многим. Годы сгладили остальное.
Он больше не зовет тебя. Вместо этого живет на твоей прикроватной тумбочке. Постоянно падает, когда ему что-то не нравится. А ты его постоянно поднимаешь. Так проходит жизнь, целое десятилетие, на исходе которого ему особенно не нравится твой муж. У того, всем очевидно, роман с ведущей актрисой его новой трилогии, но не потому, что она моложе, (или) красивее, (или) спокойнее тебя (хотя не без этого). Просто она редко выходит из роли, и ему не нужно напрягаться, чередуя имена.
Режиссер уходит ровненько перед выпускными экзаменами сына. Ему как-то не приходит в голову, что он оставляет не только тебя. К счастью, помимо вас он оставляет трехэтажный особняк, обставленный Гауди, обвешанный жаккардом и репродукциями Дали. Пару дней ты блуждаешь по нему, держась за разбитое сердце, но, если честно, только ради приличия. Под конец дежурной скорби видишь сон. В нем вы с режиссером снова молодые, неприученные, лежите на твоей кровати в общежитии.
За окном синяя морозная гроза. Орхидеями пахнут свечки. Он делает совсем не те вещи, которые делал тогда, а что-то намного приятнее. Как будто знает тебя всю жизнь, как будто очень скучает. Он нежен, но жаден, ласков, но напорист. Вам не хватает одного раза. Нужно еще. Под утро он гладит твой живот, водит по шрамам на ногах, читая их, как дорожную карту. Как подсказки, где найти очень важное сокровище. Твою любовь, говорит он, наклоняясь так близко, что даже в предрассветной серости ты различаешь его мерцающий взгляд, его мягкое лицо.
И это – вдруг понимаешь ты – совсем не режиссер.
Ты просыпаешься от судороги. Но это не судорога боли. Ты срываешься с постели, прихватив одеяло, включаешь свет и, завернувшись в плотный кокон из ткани, орешь, натурально орешь на него:
– Ты совсем охренел?! Ты!.. Господи! Какого!..
Он лежит на подушке режиссера, хотя должен сидеть на тумбочке. Тебя всю еще сводит, как редко сводило с бывшим мужем. Пуговичные глаза внимательно за этим следят. Ты воешь и, отвернувшись, собираешься выбежать из комнаты, но осаждаешь себя в последнюю секунду.
Какого черта, думаешь. Запускаешь пальцы в волосы, убираешь их с лица. Он уже выселил тебя из родительского дома. Черта с два ему достанется этот.
Ты относишь его в подвал, пахнущий машинным маслом. Ты знаешь, следующим вечером он снова окажется на тумбочке, но тебе ничто не помешает снова отнести его вниз. По правде, ты планируешь запирать его в подвале столько, сколько он будет возвращаться к тебе в спальню, минуя этажи и замки в дверных ручках. Из ночи в ночь. По кругу, по кругу. Пока машинным маслом не пропахнут все сны.
За завтраком твой сын с прагматичностью будущего хирурга – он все решил еще в десять – спрашивает:
– На кого ты кричала ночью, мам?
Ты изображаешь удивление. Довольно правдоподобно, но он смотрел все ваши фильмы – с друзьями, разумеется, потому что до большинства дорастет лишь через год, – так что он знает (и, к счастью, любит) настоящую тебя. Потому продолжает:
– Тебе надо сделать МРТ.
Ты спрашиваешь, нервно смеясь:
– Зачем?
Он отвечает, серьезный донельзя:
– Потому что чаще всего невидимые собеседники живут в лобной доле. Вместе с опухолью. Мам.
Ты смотришь на него и, конечно, хочешь сказать, что они не невидимые. Что его папа тоже видел их. Но его папа видел только раскромсанное постельное белье, порезы на матрасе, да, длинные, да, от острого, но ничто не мешало их оставить человеку.
В конце концов, папе нужны были сюжеты. Папе нужны были герои. Девушка, страдающая не то от призрака под столом, не то от душевных болезней, – отличный герой для мистического кино, хоть фильм, спустя годы признаешь ты, и вышел слишком плоским.
– Пожалуйста, – повторяет сын.
– Хорошо, – соглашаешься ты.
Ты даже немного рада, что, просуммировав все твои странности, он посчитал тебя органически, а не психически больной. Жертвой канцерогенов, неправильно питания и стресса. Не сумасшедшей. До первых результатов МРТ, само собой.
* * *
После медицинского университета сын переезжает в другое полушарие. Туда, где его золотые руки принесут ему золотые горы. Вы созваниваетесь два раза в неделю в одиннадцать часов; у него – утра, у тебя – вечера. Он все еще любит тебя, несмотря на то что не смог починить. Еще он любит хирургию, а вместе с ней юную, почти гениальную японку-эндокринолога, которую встретил на международном симпозиуме. В общем, тебе достается немного, но ты не обременяешь его побирательством. Вместо этого начинаешь делать странные вещи, водить домой разных мужчин. Ты актриса, пусть и увядающая, пусть и сбрасывающая позолоту к подступающим экзистенциальным заморозкам. Ты можешь себе это позволить. Другое дело, что эти неинтеллектуальные, грубоватые, не понимающие ни в психиатрии, ни в оккультизме мужчины все как один в восторге от твоего дома. И все как один не возвращаются в него. Не читают твои сообщения. Редко перезванивают. Ты подозреваешь: он что-то делает с ними. С их снами или чего похуже. И вот, провожая по утру до такси одного из – особенно немногословного, – ты прикуриваешь, встречаешься взглядом с соседским ребенком. Это девочка из дома напротив. Вся в бантиках и рюшках, с кружевным зонтиком. Она смотрит на тебя, потом – за тебя.
Тетенька, говорит.
За вами кто-то стоит.
Ах так, с издевкой обращаешься ты к пустым сводам столовой. Такой вот план, да? Думаешь, у меня поедет крыша от одиночества и я как миленькая прибегу к тебе?
Черт с два, шипишь ты, теперь встречаясь с мужчинами в отелях.
Черт с два, цедишь, когда это не помогает.
Вы снова воюете, за тебя и твое право быть с теми, с кем ты хочешь, даже если ты не хочешь их на самом деле. Это уже неважно. Это вопрос принципа. Вы воюете, он выигрывает, ты напиваешься по вечерам. Однажды хватаешь игрушку с тумбочки, едешь на край города и швыряешь с пирса в глубокое черное озеро. Вперед, кричишь ты, давай, на всю округу, попробуй теперь влезть в мою постель! Через три дня, в долгожданные одиннадцать, тебе звонит не сын, а его японка-невеста, потому что у сына от кошмаров мигрень третий день, и такая сильная, что до слепоты. Ты все понимаешь. Возвращаешься на озеро, копаешься в песке, грязи, иле, мусоре, заходишь по колено в воду, раздеваешься, чтобы искать вплавь. Ты часами ходишь по берегу, со стороны все полоумнее. Ищешь, зовешь, умоляешь и только под утро находишь синюю игрушку с белыми крылышками, полузарытую в песке.
Сын звонит вечером, сам. Усталый, но живой. Он уверяет, что это переутомление. Ты не споришь.
Годы сменяют друг друга. У тебя появляется внук, но только на экране ноутбука. Сын говорит, что однажды это изменится. Говорит: сейчас много работы, но как-нибудь мы обязательно приедем. Ты ему, конечно, веришь. Настолько, чтобы освободить от мук совести. Внук крепнет, растет. Звонки все чаще приурочиваются к праздникам.
Ты живешь как кошатница, только без кошек. Чувствуешь, что за годы одиночества разучилась подстраиваться под людей. Не работаешь, распродаешь Гауди и Дали. Иногда, впрочем, ходишь на чужие премьеры. На одной из них, в фойе, узнав по шубе, тебя окликает давний знакомый, какой-то продюсер. Беспредметный разговор перетекает сначала в деловой ужин, затем в большой семейный обед (ты пропускаешь) и, наконец, предложение вернуться на съемочную площадку. Да, на один эпизод. Да, в роли сомнительной, про женскую старость. Но даже так, в дешевом гриме, с раздражением от полиэстера на груди, ты чувствуешь себя превосходно. Как дельфин, которого вернули в океан.
Что-то перещелкивает. Роли второго-третьего плана текут к тебе тонкой, но стабильной струей. В одном из сериалов, достаточно художественном для детективного процедурала, ты играешь жену полковника, у которой в конце сезона манифестируется шизофрения, и ее галлюцинации едва не срывают поимку убийцы. Критики не скупятся на параллели с ранними ролями, выкапывают в них вторые-третьи смыслы, нынче модные. В конце концов, подытоживает твоя любимая рецензия, что есть безумие, как не демон, которого видят все?
Ты снова пьешь, уже не в одиночестве. Маленькие глотки пропорциональны маленьким шагам. Но ты делаешь их сама, навстречу людям. В твоем доме снова говорят о кино. И снова – снова – в один из таких вечеров, на излете дружеского спора о жизни-смерти (индустрии), звонит мама.
Ну как, мама.
Ее сиделка из хосписа.
* * *
Самое страшное, думаешь ты, это месяцы ее одиноких размышлений. Ты не заметила, что звонки стали реже. Ты не думала, что уже лет десять надо быть настороже. «Котенок, – шепчет мама, зябкая, в платке. – Ты ни в чем не виновата, котенок. Никто ни в чем не виноват».
Рак. Это же вспышка в суховее. Когда мама узнала, в чем дело, уже пылал горизонт. Проверься, пожалуйста, держит она тебя за руку. Ранняя диагностика, котенок, это так важно, так важно. В ее состоянии сложно понять, откуда все началось, но она думает, это грудь. Сиделки с ней согласны.
Ты проносишь в хоспис красную икру и дорогое вино, сыры, манго, метровые розы и кучу всего еще. Вспыхиваешь, когда медсестры заикаются, что маме нельзя такое есть, тем более пить.