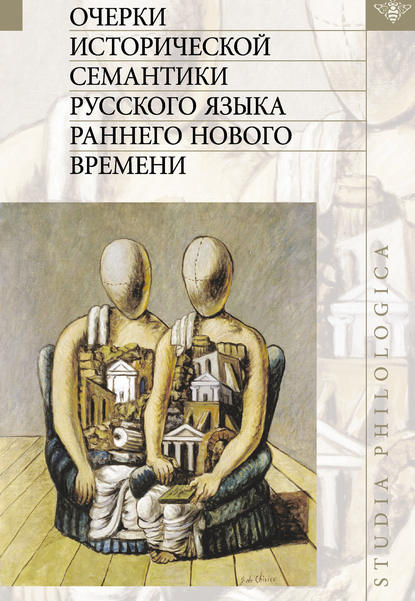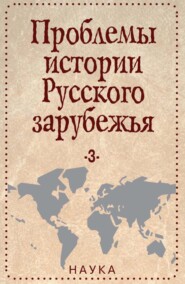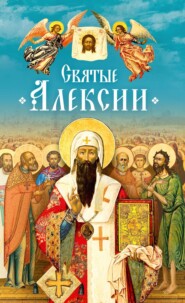По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Очерки исторической семантики русского языка раннего Нового времени
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Как можно видеть, эта статья делит время государственного служащего на две части: одна часть предназначена для религии, другая – для государственных дел. Идея регламентации времени, утвердившись в церковной деятельности, проникает и в деятельность государственную. В данной статье две сферы – сакральное время праздников и будни чиновника – трактуются как соотнесенные. При этом сакральное время рассматривается как нечто выкроенное из обычного времени, выделенное государством для Бога из своих собственных запасов. Время оказывается, таким образом, апроприированным государством, которое платит за него и им распоряжается, не оставляя служивому человеку простора не только для личной жизни, но и для длительных церковных стояний [21 - О длительности рабочего дня см. именной указ, «объявленный приказным людям», от 20 октября 1658 г.: «Приказным людем, дьяком и подьячим в приказах сидеть во дни и в нощи 12 часов» [ПСЗ I: № 237, с. 467].]. В принципе, понятно, в подобной регламентации ничего специфически русского не было, это был необходимый элемент модернизации управления, известный всем государственным структурам Нового времени. Специфична была социальная композиция того общества, в котором осуществлялась эта регламентация. Как уже говорилось, автономной городской культуры в Московской Руси не было; город как локус культуры составлялся из служилого класса и духовенства. Поэтому время службы становилось временем секулярной культуры. Секулярная регламентация этого времени не могла не вступить в конфликт с религиозным реформаторством, претендовавшим на распоряжение часами и днями не одного духовенства, но и всех православных.
До времени этот конфликт не был заметен. Когда, однако, произошел разрыв царя с патриархом, Никон не замедлил указать, что церковным временем царь распоряжаться не в праве. Он писал, обращаясь, естественно, не к самому царю, а к боярину Никите Одоевскому, составлявшему Уложение:
О пребеззакониче и злоб?сный челов?че, како не устыд?ся, не устрашися. Б?си того испов?даху Сына Божия и Бога, глаголаху: почто еси, Сыне Божий, пришел еси прежде времени мучить нас. А ты, злострастный челов?че, не испов?да Того Бога быти и Господа нашего Iисуса Христа, аки проста челов?ка пишеш: в’ воскресной день, в’ день Рожства Христова {…} Не усохлъ бы скверный твой язык изглаголати или написати: Рождество Господа Бога и Спаса нашего Iисуса Христа, или святое Богоявление Господа Бога и Спаса нашего Iисуса Христа. И ниже праздник нарече, но день. А яже о царi, да в который день присп?ет праздникъ, день рождения государя царя и прочее, такожде и о царицЬ и о ихъ чад?хъ. Которыя праздники, которое таинство? Разв? что любо страстно и челов?ческо. И во всемъ приподобилъ еси челов?ковъ Богу, но и предпочтенн? Бога (РГАДА, ф. 27, № 140, ч. III, л. 569–570 об.).
Здесь следует обратить внимание на два момента. Во-первых, Никон обвиняет Одоевского в том, что он приравнял государственные праздники (дни рождения царя и его семейства) к религиозным праздникам. Вряд ли Никон ставит под сомнение право царя объявлять выходные дни на свое рождение. Он протестует против неразличения сакрального и секулярного времени. В том, что рождение царя оказывается в одном перечне с Рождеством Христовым, Никон видит богопротивные притязания светской власти, которая наделяет себя правом распоряжаться всем временем – как сакральным, так и секулярным. С точки зрения же Никона, Божии праздники установлены Богом, соблюдение их – первый долг христиан, и царь не должен вмешиваться со своими распоряжениями в предписания Божественного закона. Таким образом, секуляризация времени незамеченной не остается.
Второй момент относится к способу обозначения религиозных праздников. Никон осуждает Одоевского за то, что тот позволил себе обозначить эти праздники сокращенно, как в повседневной речи. Риторическая стратегия Уложения понятна: предмет изложения (выходные дни) относится к секулярной сфере, к подсчету и распределению времени, оплаченного правительством. Сокращенный способ обозначения имеет, видимо, иконический характер, поскольку речь идет о сбережении времени, и длинные выражения в таком контексте неуместны. Он противостоит риторике религиозного дискурса, в котором полнота наименования соответствует полноте ритуала, литургическому времени, растянутому единогласием. В эту область и вторгается Уложение со своими секулярными предписаниями, и в соединении с борьбой за единогласие это и создает ту коллизию регламентаций, когда время оказывается предметом апроприации двух противостоящих сторон.
Таким образом, уже в XVII в. складывается та специфика регламентации времени, которая присуща русской модернизации. Время становится предметом счета, соотносится с деньгами и оказывается объектом апроприации. Однако на права собственника времени претендуют государство и церковь, тогда как общество (в том числе и городское) никаких подобных претензий не высказывает и лишь старается уклониться от слишком пристального надзора обеих спорящих институций. В этом споре новый этап наступает при Петре Великом, и Петр знаменует его вполне выразительным символическим жестом – сменой календаря.
19 декабря 7208 г. Петр распоряжается с 1 января начинать новый год, 1700-й, украв, как говорят его недоброжелатели, восемь месяцев у Господа Бога. В указе предписывалось
во всяких приказных и мирских делах лета писать и числить годы Генваря с 1 числа 7208 года и считать сего от Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа 1700 году, а год спустя Генваря с 1 числа с предбудущаго 7209 году писать от Рождества Христова с 1 числа 1701 году и в предбудущих чинить по тому ж, а с того новаго года Генваря месяца и иные месяцы и числа писать сряду от Генваря непременно и в прочия лета, счисляя лета от Рождества Христова потому ж [ПСЗ III: № 1735, с. 680–681].
Хотя по видимости это преобразование затрагивало только секулярную сферу (приказные и мирские дела), обоснование отсылало к религиозной традиции. В указе говорилось: «А то указали Мы Великий Государь учинить, для того что во многих христианских окрестных народех, которые православную Христианскую Восточную веру держат с нами согласно, лета пишут числом от Рождества Христова» [Там же: 681]. В условиях конфликта между царем и церковью выбор религиозной традиции, осуществленный царем, мог восприниматься как вторжение в компетенцию духовных властей, указание им на то, какому православию они должны следовать, и апроприация времени церкви. Такому восприятию мог способствовать выпущенный на следующий день дополнительный указ «О праздновании Нового года», в котором устанавливалось секулярное празднование новолетия, однако как бы мимоходом на первое января переносилось и церковное празднование этого события:
А в знак того добраго начинания и новаго столетнаго века в царствующем граде Москве, после должнаго благодарения к Богу и молебнаго пения в церкви и кому случится и в дому своем, по большим и проезжим знатным улицам знатным людям и у домов нарочитых духовнаго и мирскаго чина перед вороты учинить некоторыя украшения от древ и ветвей сосновых, еловых и можжевелевых против образцов, каковы сделаны на Гостином дворе и у нижней аптеки [ПСЗ III: № 1736, с. 681–682].
Манипуляции Петра со временем этим не ограничиваются. С 9 декабря 1706 г. Петр, следуя европейскому образцу, вводит суточный счет часов, т. е. отменяет традиционный раздельный счет дневных и ночных часов [Пипуныров, Чернягин 1977: 38]. Таким образом, Петр во всеуслышание объявляет себя владельцем времени, и тут же показывает, что это значит. Апроприация времени осуществляется государством в той сфере, которая прямо подлежит его регламентации. Апроприация осуществляется в форме службы, когда государство определяет, сколько человек ему должен служить и сколько оно готово предоставить ему на его собственные нужды. Этим Петр и занимается, и это определяет содержание второй – служебной – коллизии традиционного порядка и регламентации времени эпохи модернизации. Коллизия обусловлена тем, что, взяв время в свои руки, государство не знает, где остановиться, и в принципе не оставляет человеку ни минуты, чтобы вздохнуть и осмотреться.
Ярче всего этот безудержный аппетит сказывается в указах о монашестве. Именно потому, что монашество по своему статусу отдает свое время не государству, а Богу, Петр с 1700-х годов стремится ограничить его численность и самодеятельность. В регламенте 1722 г. запрещается «принимать в монахи человека ниже тридесятаго года возраста» [Духовный Регламент 1904: 117], и при этом ищущий монашества должен быть свободен от любых обязательств в отношении государства, помещика или любого другого начальника. Принимая в монахини, нужно «смотреть на лета жены, прошло ли оной пятьдесят лет, или шестьдесят» [Там же: 118]. Эта гендерная дискриминация женщин определяется тем, что для мужчин достаточно других оснований, чтобы не пустить их в монахи, а для женщин барьером может быть только возраст. Стоящая за этими предписаниями идея очевидна: пока человек может делать что-то полезное для государства, он не имеет права тратить время на другие занятия, включая спасение души. О спасении души заботится государство, верная служба спасает человека и спасает общество, а внешнее благочестие только отвлекает сына отечества от его подлинных задач (эта мысль проводится и в Духовном Регламенте, и в ряде других указов Петра). Монастыри не исключение, их основное дело – давать приют бедным, подкидышам и отставным солдатам, на что они и получают жалованье от государства. Число монахов регулируется этой суммой [Cracraft 1971: 260; ПСЗ VI: № 4107], т. е. с нею соотносится время, которое общество отдает Богу.
Петровская концепция государства – это русская метаморфоза европейских теорий полицейского государства (Polizeystaat). При пересадке этих теорий на русскую почву пропадает, однако, одна из принципиальных составляющих этого построения – общество как контрагент государства. Поскольку нет общества, нет и отдельной системы ценностей этого общества, отличной от ценностей государства; в силу этого ценным оказывается лишь время, отданное государственным интересам, оно оказывается универсальным и измеряется человеческой жизнью. Один из наиболее наглядных результатов утверждения этой парадигмы – податная реформа Петра. После ревизии 1721 г. Петр вводит подушную подать, налог, который взымается с каждого не несущего службы лица мужского пола вне зависимости от возраста, статуса и трудоспособности. Душа становится счетной единицей в угоду универсальности счетной парадигмы и в ущерб экономической целесообразности [Анисимов 1982: 259–287]. Современники воспринимают это как бессмысленное угнетение, и Посошков замечает: «А и во счислении душевном нечаюж я проку быть; понеже душа вещь неосязаемая и умом непостижимая и цены неимущая: надлежит ценить вещи грунтованныя» [Посошков 1911: 79].
Можно сказать, как это делает А. С. Лавров, что петровское государство занято социальным дисциплинированием общества [Лавров 2000: 345–347]. Этот процесс затрагивал не только государственные повинности подданных воображаемого «регулярного государства», но и религиозную сферу, представляя собой, таким образом, регламентацию всего жизненного уклада населения на всем протяжении жизни субъекта. В этом плане значимо, как отмечает Лавров, что «не менее важно было, чтобы подданные регулярно исповедовались, чем то, чтобы они регулярно платили свою подушную подать (показательно, что последняя была введена после обязательной ежегодной исповеди)» [Там же: 346]. Само по себе введение регулярной (раз в год) исповеди и причастия было связано с преследованием старообрядчества. Исполнение этой обязанности прихожанином должно было фиксироваться священником в специальных книгах, и священник обязан был сообщать начальству о тех, кто этой нормой пренебрег. Эта мера позволяла выявить тайных старообрядцев, не желавших платить двойной налог (в соответствии с указом 1716 г.). Эта мера, однако, вписывается и в другую парадигму – потому что историческое действие никогда не ограничено своим исходным замыслом. Этой другой парадигмой является петровская реформа благочестия (см. о ней [Лавров 2000: 408–423]).
Как уже говорилось, в средневековой Руси миряне исповедались и причащались крайне нерегулярно, покаянная дисциплина обладала лишь призрачным существованием. Каково бы ни было собственное неблагочестие Петра и сколь бы существенным компонентом его церковной политики ни была дискредитация церковных установлений, государство, взявшись дисциплинировать общество, должно было распространить свой контроль и на его религиозную жизнь (ср. [Живов 2004: 48–53]). Петр устраивает публичные кощунственные дебоши, но вместе с тем издает указы, предписываюшие благопристойное поведение во время церковной службы [ПСЗ VII: № 4277, с. 96 от 20.07.1723]. Дисциплинирование последнего рода как бы продолжает аналогичные усилия боголюбцев, но, как и сходные распоряжения Алексея Михайловича, трансформирует эту деятельность в предмет государственного контроля [Michels 1999: 227; Живов 2004: 66–68]. Как следствие возникающие на этой основе религиозные практики остаются никак не интериоризованными обществом. Это в полной мере относится и к покаянной дисциплине, и к временной регламентации. Ни в одном, ни в другом случае навязанные государством предписания не становятся интериоризированной дисциплиной. Та духовная бухгалтерия, которая лежит в основе культурных практик буржуазного общества, для петровского подданного (равно как и для его потомков) остается внешним принуждением, вызывающим лишь защитную реакцию.
Итак, в петровской парадигме людей спасает государство, поэтому оно их считает, считает их время и берет на себя его оплату. Первая кривизна русской модернизации состоит как раз в том, что не буржуазное общество заставляет государство считать собранные налоги и забранное время и отчитываться за них, а государство заставляет общество заниматься подсчетом своих финансовых обязательств, растраченных вне службы часов и отвечать за растрату. Не общество наставляет государство, а государство обустраивает общество, так что модернизация оказывается атрибутом власти. Новая риторика временной регламентации вырабатывается не городской (буржуазной) культурой, но бюрократическим аппаратом, а обществом (в том числе и городской элитой) в существенной степени отвергается. Именно этим, между прочим, обусловлен мотив вечной занятости в мифологии Петра. «И мореплаватель и плотник», как известно, «на троне вечный был работник». Не обсуждая сейчас несоответствия этого мифа реальным фактам, отмечу, что он создается самим Петром и имеет явные дидактические задачи – индоктринацию обязанного службой шляхетства.
Государственная регламентация и общественный саботаж. Государство навязывает обществу модернизацию, однако его бюрократические возможности ограничены, распоряжения издаются, но не действуют. В изданном Петром Генеральном Регламенте оговариваются часы государственной службы (гл. 3, 10, 12 – [Законодательство Петра I: 101–102, 105, 106]), но едва ли не в течение всего XVIII в. чиновники успешно этот закон саботируют;
поведение чиновников показательно, поскольку они на виду у государства, остальное население саботирует, видимо, государственную бухгалтерию еще более рьяно. В 1738 г., например, Анна Иоанновна объявляет указ о сенаторах и сенатских служащих, долженствующий исправить ставшие ей известными непорядки, а именно что «гг. сенаторы в присутствии своем в Пр. Сенате неблагочинно сидят {…} також в Сенат приезжают поздно и не дела слушают, но едят сухие снятки, крендели и рябчики и указных часов не высиживают, а обер-прокурор Соймонов в том им, по должности своей, не воспрещает» ([СРИО CXXIV: 477]; ср.: [СРИО CIV: 484; Анисимов 1994: 299]). В 1760 г. новоназначенный генерал – прокурор Яков Шаховской принялся наводить порядок и утверждать предписания закона. Однако Канцелярия конфискации успешно противостояла этому натиску, построив несколько рядов защиты: «1) По генеральному Регламенту, велено съезжаться – в самые короткие дни в шестом, а в долгие – в восьмом часу; только по которое, именно, время короткие и долгие дни числить, на то точного изъяснения нет. 2) Из разных городов пишут, что воеводы в канцеляриях находились, а в котором часу приходили и выходили, – о том, за неимением в тех городах часов, писать не с чего. 3) В гремячевской воеводской канцелярии во многих числах присутствия не было за неимением судных и разыскных дел, – и за такие неприсутствия штраф взыскивать ли?» [Соловьев XXIV: стб. 1177]. Сенат по этому доношению приказал: где часов нет, – там держать песочные часы, – однако проблему в целом явно решить не смог.
Неверно было бы думать, что общество вообще не воспринимает новый государственный дискурс и тем самым модернизация его не затрагивает. Как и со всем комплексом петровских преобразований, элита поступает со счетной парадигмой по-своему. Период от Петра до Екатерины обычно рассматривают как темное время, когда ничего принципиального не происходит. Это односторонняя точка зрения (ср. ее критику: [Анисимов 1994: 424–450; Каменский 1999: 165–254]). Именно в эти годы элита адаптируется к новому порядку или, говоря точнее, адаптирует новый порядок к своим интересам и потребностям. Скажем, элита готова потребить идею того, что вся жизнь отдана государству, что служба начинается с первым криком и кончается с последним вздохом, однако детей начинают записывать в службу от рождения, и это облегчает ситуацию: ребенок растет, служба идет, и выслуженный к совершенолетию чин обеспечивает сносное существование. Указ о вольности дворянства лишь легализует – в отношении элиты – то положение, которое сложилось в результате этого процесса адаптации.
Точно так же элита усваивает счетную парадигму, но начинает считать в свою пользу, т. е. заявляет свои права на временную собственность. В результате появляется важнейшая для модернизационного дискурса категория праздного (свободного) времени (loisir, leisure, otium). С буржуазной культурой категория праздного времени так тесно, как идея сотериологической бухгалтерии, видимо, не связана. В Германии, скажем, понятие Nebenstunde возникает в XVII в. в рамках концепции политического человека, регламентирующей жизнь дворянского общества. Однако регламентация эта создается деятелями бюргерской культуры (такими, как Христиан Вайзе – см. [Fr?hsorge 1974]) и может рассматриваться как внедрение буржуазной системы ценностей в дворянский обиход (о различиях в культурной ситуации между Германией и Францией в XVII–XVIII вв. см. [Элиас I: 92–108]). Таким образом, в своих истоках дихотомия деловых занятий и отдыха, а отсюда и категория праздного времени – это все же категория буржуазной культуры, это то время, которое не деньги. Это и обусловливает связь данной категории с модернизацией.
Нужно обратить внимание и на еще один существенный момент. В западноевропейской урбанистической культуре праздное время, досуг – это (в Новое время) дискурсивная категория, общая для разных социальных групп, в том числе для дворянства и бюргерства. При пересадке на русскую почву праздное время становится частью дворянской культуры и понимается как время, свободное от дворянской службы. Дворянство утверждает свое право на праздное время, и рассматривает его как свое исключительное право, что в конце концов и находит выражение в указе о вольности дворянства. А. П. Сумароков заявляет, что крестьянам не нужна свобода и свободное время, потому что они не знают, что с ним делать, так как «наш низкий народ никаких благородных чувствий еще не имеет» [Гуковский 1941: 358–359]. Только дворяне могут употребить благо праздности на пользу всего общества. С 1759 по 1760-й, как раз в преддверии указа, студенты Кадетского корпуса издают известный журнал «Праздное время в пользу употребленное». Праздное время, став категорией элитарного сознания, создает новые проблемы, проблемы того, что с ним следует делать, и именно этой проблемой занято дворянство в середине XVIII в.
В этой связи можно вспомнить фонвизинского «Недоросля», в котором прочерчивается дилемма, вставшая перед дворянским обществом. Праздное время наследует от секулярного времени государства счетность и соотнесенность с деньгами. Оно может быть растрачено впустую или употреблено с пользой. Стародум, с одной стороны, Простаковы и Скотинины – с другой олицетворяют противоположные способы обращения с праздным временем. Стародум, уйдя со службы, просвещает свой ум и создает себе состояние; Простаковы употребляют данную им свободу во вред и коснеют в варварстве. Эта дискурсивная дихотомия, представленная, конечно, не у одного Фонвизина и образующая длительную традицию, отнюдь не представляет собой тривиальную оппозицию просвещения и невежества. Два момента в ней вполне специфичны и образуют вторую кривизну русской модернизации.
Во-первых, праздное время концептуализируется как категория исключительно дворянской культуры, как привилегия дворянства, данная ему собственником времени – государством. Буколические поселяне тоже, несомненно, собрав урожай, резвятся у ручья и наслаждаются праздностью, однако они остаются чисто литературными персонажами и с крепостными, которыми владеют авторы пасторалей, как правило, не ассоциируются. У мужика изящных чувств быть не может, а потому и категория otium’а к нему неприложима. Когда в 1803 г. появляется пьеса Н. И. Ильина «Великодушие, или Рекрутский набор» с сюжетом из крестьянской жизни и явными признаками сентиментализма, она вызывает у критиков (ествественно, дворянских) негативную реакцию. Сам выбор крестьян в качестве героев слезной драмы отсылает к руссоистской парадигме: крестьяне, не испорченные цивилизацией, обладают естественным благородством. В. В. Измайлов, карамзинист и почитатель Руссо, упрекал Ильина за то, «что он выводил на сцену тех людей, которых состояние есть последнее в обществе, которых мысли, чувства и самый язык весьма ограничены и которых дела не могут служить нам ни наставлением, ни примером» [Кочеткова 1994: 73]. В этом контексте благородная дворянская праздность ни малейшим сходством с крестьянским безделием обладать не могла. Тем более не имела она ничего общего со свободными часами недворянского городского населения – купцов, торговцев, ремесленников. Картины бюргерского гулянья для русской дворянской литературы (и культуры в целом) были возможны только как часть чужеземной жизни. Можно напомнить, как в «Евгении Онегине» рассеянный образ жизни героя романа противополагается трудовой занятости недворянского Петербурга [Пушкин VI: 20]:
Что ж мой Онегин? Полусонный
В постелю с бала едет он:
А Петербург неугомонный
Уж барабаном пробужден.
Встает купец, идет разносчик,
На биржу тянется извозчик,
С кувшином охтенка спешит,
Под ней снег утренний хрустит.
Проснулся утра шум приятный.
Открыты ставни; трубный дым
Столбом восходит голубым,
И хлебник, немец акуратный,
В бумажном колпаке, нераз
Уж отворял свой васисдас.
В силу этого для любой неэлитарной культуры категория праздного времени оказывается чужой и враждебной. С точки зрения неэлитарных культур, праздным временем обладают дармоеды (хотя понятно, что у дармоеда не может быть свободного времени, поскольку у него нет времени занятого). Дармоедство становится синонимом любого элитарного времяпрепровождения, не связанного со службой и не приносящего деньги, и сюда включается любая элитарная культурная деятельность. Собственно, доминирующий культурный дискурс меняется уже в середине XIX в., и всякое подобие благородного otium’а из него исчезает. Интеллигенция, в формировании которой отталкивание от элитарной культуры оказывается конститутивным моментом (ср. [Живов 2002: 692–700]), дворянскую праздность решительно осуждает. Можно полагать, что мы имеем здесь дело не только с ressentiment’ом неэлитарной части общества, но и с новой апроприацией времени. Интеллигенция конкурирует с государством и претендует на то самое момнопольное владение временем, которым раньше располагало государство. Отказ от интеллигентского «служения» в пользу благородной праздности для нее так же нелегитимен, как отказ от службы для Петра Великого. На этой дискурсивной ниве вырастают впоследствии многообразные плоды – от нигилизма шестидесятников до бунтующих крестьян, совершающих ритуальное надругательство над культурным интерьером барской усадьбы.
Во-вторых, в русском понимании праздное время – это преимущественно время свободное от службы. В таком восприятии собственник времени и субъект временной регламентации экстериоризован, поэтому регламентация времени ощущается как насилие. Можно вспомнить, что отец Тристрама Шенди заводил часы раз в две недели и приурочивал к этому действию все прочие обстоятельства своей жизни, включая зачатие глубокомысленного Тристрама. Это и есть интериоризация временной регламентации. В России таких чудаков не было. Как отмечает одна английская путешественница по России в середине XIX в., «[n]o people value external appearance as much as they do. Mirrors hold the same position in Russia as clocks do in England; with us time is valuable, with them, appearance» [Onassis 1976: 16]. Отказ от временной регламентации как от внешнего насилия становится важнейшей составляющей свободы а la russe. И эта особенность русской модернизации порождает долговременные социально деструктивные последствия, сказываясь и на характере «труда на службе», и на восприятии работы на собственные нужды, и на отношении к культивируемому отдыху как своего рода разврату (напомню, например, рассуждения Л. Н. Толстого о спорте и мужике, которому спорт не нужен) [22 - Любопытные аналогии этим рассуждениям можно найти у Торстена Веблена, описывающего спорт как принадлежность образа жизни тех секторов общества, которые он определяет как «leisure class» [Veblen 1975: 254–275]; речь, понятно, идет о периоде до профессионализации спорта.].
Досуг (слово и понятие). Для придворной (аристократической) культуры (культуры ancien rеgime) понятие досуга было чужим, поскольку бал или охота ничем принципиально не отличались от приема послов или участия в религиозной церемонии: все эти занятия были подчинены этикету и в силу этого оказывались не свободным времяпрепровождением, а длящимся ритуалом распределения власти (см. [Elias 1981: 120–176]). Как уже говорилось, досугу как автономному разделу времени аристократию учит буржуазия, знающая цену времени. С теми или иными различиями в характере социальной медиации и в порядке взаимодействия дворянских и буржуазных элит процессы подобного обучения происходят в разных странах модернизирующейся Европы. Именно в результате этих процессов постепенно формируется единое общество, состоящее из лиц, располагающих «свободным временем», тот социум, который подходит под сформулированное Торстеном Вебленом понятие the leisure class [Veblen 1975]. Повсеместно эти процессы приводят к развитию лексических средств, обеспечивающих дискурсивные практики этого «праздного» общества [23 - Особая и отдельная тема – это соотношение досуга, otium’а и развлечений. И здесь русская культура обладает определенной спецификой. Как отметил недавно Е. В. Дуков, профессиональные развлекатели (актеры) не были частью несуществовавшего городского общества, но обретались при дворе [Дуков 2006: 10–11], т. е. вскармливались и потреблялись верховной властью. Переворот в профессии развлечений Е. В. Дуков относит к преобразованиям Петра I [Там же], оплошно забывая о театре при дворе Алексея Михайловича. Театральные забавы справившегося с церковными проблемами благочестивого царя непосредственно связаны с процессом государственной апроприации времени. Проблематика досуга и развлечений в разных аспектах рассматривается в сборнике «Бремя развлечений. Otium в Европе. XVIII–XX вв.», вышедшем под редакцией Е. В. Дукова. Это пестрое собрание эссе не позволяет сделать сколько-нибудь значимых выводов, поскольку авторы не ставят перед собой задачу сколько-нибудь точно определить основные понятия и избавиться от легкомысленной расплывчатости и в понимании досуга, и в понимании развлечений.].
Подобное развитие имеет место и в послепетровской России – с той, однако же, существенной особенностью, что функцию обучающей модернизационному дискурсу буржуазии берут на себя агенты государства: буржуазии нет, поэтому нет и буржуазной системы ценностей, и модернизация времени навязывается обществу не в силу взаимодействия разных элит, а как «европейское» заведение, необходимое для граждан Российских Европий, т. е. все того же служивого дворянского сословия. В 1725 г. во исполнение планов почившего императора основывается Российская Академия наук, и на первых порах именно она приписывает себе роль наставника. Публикуя время от времени ученые труды, которые никто в России не читает, она в то же время начинает с 1728 г. издавать своего рода научно-популярный журнал «Примечания к ведомостям». В этом журнале европеизирующейся публике (не слишком многочисленной культурной элите) сообщаются разнообразные сведения о европейских происшествиях и достижениях: о морском праве и асбестовой нити, о генеалогии европейских княжеских домов, географических открытиях, свадьбах и мезальянсах, военных действиях и ученых изобретениях.
Первые выпуски этого издания за 1731 г. (с начала года до середины февраля – ч. I–XI) посвящены проблемам времени и его измерения, и это намерение ввести читателя в курс «европейского» времени явно не случайно. В журнале рассказывается о различных инструментах для измерения времени, изобретенных человечеством от древности до последних новинок, о знаменитых часовых мастерах, о том, как проверять карманные и так называемые «Королевск?е перпендикулные» часы по звездам (говорится о том, что «такихъ часовъ у насъ зд?сь s?ло много им?ется» и что они отличаются большой неточностью – несмотря на изобретенный Гюйгенсом [Гугением] маятниковый механизм) [Примечания 1731: 27–28]. Объясняются различные системы счета времени: с восхода солнца, с захода, с полдня, – и указывается, что «Еvроп?иск?е часы называются т?, которые на нашихъ часахъ показываются, и съ полуночи считаются» [Там же: 20], т. е. принятая в России система (совсем недавно введенная Петром и получившая лишь ограниченное распространение) определяется как «европейская»; счет времени оказывается, таким образом, символическим европейским атрибутом, отличающим модернизирующихся россиян от таких, сохраняющих варварские манеры народов, как «Iтал?анцы и Хин?ицы».
В конце этого раздела, в XI выпуске помещена статья «О полезномъ употреблен?и времени, переведено изъ Аглинскои книги спектаторъ именуемои, изъ второи части четвертыи разговоръ». Статья представляет собой перевод эссе Р. Стиля из 2-го тома (London, 1711, № 93, Saturday, June 16), сделанный, впрочем, не с английского оригинала, а с французского перевода. О том, что французский текст был посредствующим звеном для русского перевода свидетельствуют следующие сопоставления [24 - Ю. Д. Левин (Левин 1990, 19) полагал, что оригиналом «служил французский или немецкий перевод». Действительно, к 1731 г. «The Spectator» был переведен и на французский, и на немецкий язык (немецкий перевод см.: Spectateur 1719). В немецком переводе, однако, интересующий нас 93-й выпуск отсутствует, так что можно с уверенностью сказать, что русский переводчик пользовался именно французским текстом. Не исключено, что перевод мог быть сделан В. К. Тредиаковским. Во всяком случае 1 февраля 1731 г. Шумахер писал Тредиаковскому: «Ou aimeriez vous plut?t а traduire un petit recueil de bons mots ou d’historiettes, quelque voyage? ou des discours de notre cher Spectateur?» [Пекарский II: 27, примеч.). Один опыт такого перевода из The Spectator’а Тредиаковский предпринял. В его бумагах имеется «Из книги, называемая Спектатор (смотритель). Сравнение между Людовиком XIV и Петром Алексеевичем Россiйским Iмператором въ разсужденiи славы» [Там же: 26, примеч. 1] (о переводах из «The Spectator» в «Примечаниях» ср. [Солнцев 1892: 130–131]).]:
Речь в этом эссе идет именно о достойных занятиях во время досуга: дружеской беседе, чтении книг, любительских занятиях музыкой, живописью, архитектурой, садоводством и т. д.; они противопоставлены занятиям недостойным, хотя и невинным (безнравственных развлечений Стиль даже не упоминает), таким как игра в карты. Развлечения должны быть рациональны. «I must confess, – пишет Стиль, – I think it is below reasonable creatures to be altogether conversant in such diversions as are merely innocent, and have nothing else to recommend them, but that there is no hurt in them» [Spectator 1711: 54]. Предписания Стиля, таким образом, содержат буржуазную рационализацию структуры досуга, основанную на чуждых аристократической культуре моральных категориях. Вместе с тем адресатом Стиля является образованное общество в целом, т. е. формирующийся leisure class, и именно его Стиль обучает правильному (рациональному и нравственному) обращению со свободным временем.
Русский перевод вполне послушно следует за оригиналом, однако при всей его относительной точности в нем происходят определенные дискурсивные сдвиги. Характерно, например, что при переводе только что цитировавшегося пассажа утерянным оказывается моральный элемент. Последние слова этого пассажа во французском переводе читаются как «dont tout le bien consiste en ce qu’il n’y a point de mal» [Spectateur 1746: 25], и mal несет в себе ту отсылку к нравственным категориям, которая важна для Стиля. По-русски здесь находим: «которые небол?е добраго въ себ? содержатъ, какъ то, что оные однакожъ не непристоины» [Примечания 1731: 43]. На месте этики оказывается этикет, и это трудно не связать с изменившимся адресатом текста – служилой элитой, мыслящей и чувствующей в системе ценностей придворного общества.
Не менее показателен следующий пассаж:
Идея accomplishments как личных и неслужебных достижений человека оказывается вполне чуждой русской дискурсивной практике (в первой половине XVIII в. точно так же, как и в настоящее время), и переводчику приходится воспользоваться неологизмом междуд?л?е, отсылающего к отсутствию дела, к пустому разрыву в деятельности, а не к занятиям, заполняющим эту пустоту. Дело концептуализируется здесь как регулярный труд (служба), предписываемый государством, а не как трудовая часть country life. Вне службы вообще делать нечего, и поэтому вместо country life, русский эквивалент для которой также отсутствует, появляется въ деревняхъ как обозначение внеслужебной праздности: служащий человек живет в городе и английские accomplishments ему не нужны.
Это позволяет понять и то, как в русских условиях концептуализируется досуг. В английском оригинале для этого понятия употребляются разные выражения (retired hours, vacant hours, empty spaces [of life], dead unactive hours [25 - В издании 1711 г. стоит for the employment of our dead unactive bodies (1711, 56); это описка, и в последующих перепечатках она исправлена на dead unactive hours (см., например: 1757, 71; см. также [Spectator 1945: 290]).] – [Spectator 1711: 53, 55, 56]); характерно, что устоявшегося слова еще нет, хотя в принципе в английском выражения leisure time или leisure hours появляются в конце XVII в. [OED VIII: 816]. Во французском дискурсе концепт досуга кажется более сформировавшимся, и в соответствии с приведенными английскими выражениями мы находим loisir (дважды), vide, heures perdu?s [Spectateur 1746: 24, 26, 27]. В русском переводе дважды обнаруживается праздное время [Примечания 1731: 43, 44], один раз скучное время [Там же: 43] и один раз время, которое наипаче скучно бываетъ [Там же: 44]. Дискурс кажется неустоявшимся и апеллирующим к разным исходным концептам: праздное время к отсутствию дел, а скучное время к чувствам, которые может (или должен) испытывать незанятой человек, но которые прямо с досугом не связаны (поскольку скучает, по словам Пушкина, иной от лени, тот от дел).
Слово досуг в значении ‘свободное, не занятое трудом время’ появляется в русском языке несколько позднее, в самой середине XVIII в. и является, видимо, семантической калькой с фр. loisir, англ. leisure или нем. Mu?e. Основанием для сближения слова досуг с данными лексемами было общее для них значение ‘возможность, способность’. Именно это значение досуга оставалось основным в русском языке вплоть до середины XVIII в. и присутствовало в семантической структуре соответствующих европейских языков по крайней мере в качестве исходного (фр. loisir от лат. licere, с сохраняющимся вплоть до XVIII в. значением ‘possibilitе’; англ. leisure из фр. с первоначальным значением ‘opportunity’, нем. Mu?e от прагерм. *motan со значением ‘M?glichkeit, angemessene Gelegenheit zu etwas’ – [Robert VI: 442; OED VIII: 815; Kluge 1975: 496]). Данное значение представлено у существительных досугъ, просугъ и досужьство в восточнославянских средневековых памятниках, ср. в Житии Стефана Пермского Епифания Премудрого: «Стефан же б?жиею бл?гдтию и своимъ досужствомъ вс?хъ сихъ препираше» [СРЯ XI–XVII вв., IV 341]; в «Ином сказании» (повести о Смутном времени): «Вид? {…} пришествие двинскихъ стр?лцовъ въ градъ и слыша {…} см?льство и досугъ ихъ, – и з?ло устрашися» [Там же].
Замечу, что некоторые лексикографы фиксируют значение свободного времени у слова досуг и производных от него уже в средневековых текстах, однако их примеры неубедительны. Они вчитывают в средневековый текст ту привычную им семантику, для которой там нет никакого места. Так, составители Словаря русского языка XI–XVII вв. приводят пример на слово досуг в значении ‘свободное или удобное время’ из Докончания великого князя тверского Бориса Александровича с королем польским Казимиром 1449 г.: «А будетъ ему досугъ, и ему самому поити» [СРЯ XI–XVII вв., IV 341]. Конечно, сразу же кажется странным, что в межгосударственном соглашении речь идет об использовании свободного времени. Обратившись к тексту памятника, обнаруживаем, что речь идет о взаимных обязательствах в случае военного конфликта. Стороны обязуются взаимной помощью, и оговариваются те условия, при которых неоказание помощи не нарушает договорных обязательств. Для русской стороны: «А только жъ некоторыми делы б?деть[26 - Для отображения старославянского символа
в электронной версии используется символ ?. (Примечание редактора электронной версии – Tibioka).] намъ недосугъ помочы послати к тобе на немъцы, занужъ земла далече, то намъ не в-ызмену». Для польской стороны оговариваются сходные условия: «А будеть мне его самого надобе, а б?деть ему дос?гъ, и ему самому поити. А только ему нешто заидеть, самъ не възможеть поити, и ему ко мне послати помочь по силе, без хитрости. А с нами ти сто?ати за?дно противу всих сторонъ, никого не выимуючы, хто бы коли немиренъ был» [ДДГ: № 54, с. 163]. Совершенно очевидно, что в докончании говорится никак не о свободном или удобном времени, а о возможности (досугъ) или невозможности (недосугъ) оказать помощь [27 - Только это значение фигурирует и в начале XVIII в., например, во фразе из распоряжения Петра I: «Естли Галанским плотникам досуг, вел?ть зд?лать два или три галиота, которые во флот? з?ло нужны» [СРЯ XVIII в., VI: 239]; естественный перевод «если у них есть возможность», а не «если у них есть свободное время» (как анахронистически предполагают составители словаря): Петра loisir плотников, понятным образом, не интересовал. Конечно, возможность что-то сделать предполагает, что для этого действия есть время; в силу этого у рассматриваемых лексем временной компонент может выделяться, однако до середины XVIII в. он имеет подчиненный, производный характер и в основное толкование не входит. Так, скажем, темпоральное значение может выделяется в слове досужный в письме Д. Львова вологодскому архиепископу Маркелу 1650-х годов, в котором он просит владыку позволить ему пользоваться церковью московского подворья вологодской епархии и распорядиться, чтобы тамошний поп ждал его с началом службы, когда он задерживается, «потом? что мы вселды живем при гсдрьскои милости извесно то т?б? гсдрю моем? что мы не дос?жны» [Котков 1969: 284]. Конечно, речь идет о том, что Львов – занятой человек, однако, видимо, не специфически о том, что у него нет свободного времени, а о том, что у него, случается, нет возможности поспеть к службе вовремя.].
Ясные примеры значения свободного времени появляются у слова досуг лишь во второй половине XVIII в. В Словаре русского языка XVIII века в качестве наиболее раннего текста с интересующей нас семантикой у слова досуг цитируется «Тилемахида» Тредиаковского:
На воспр?ят?е д?льныхъ Нам?рен?й, разуму долгъ быть
И свободну весьма, притомъ емужъ и-спокойну.
Надобно мыслить о-томъ въ удобное время досуга,
И увольнену вс?хъ отъ д?лъ узловатыхъ и-тр?дныхъ.
[Тредиаковский 1766, II: 176].
Вполне очевидно, что для Тредиаковского досуг означает в данном случае время свободное от дел, т. е. то же самое, что loisir во французском или otium в античной традиции, которую воссоздает Тредиаковский в «Тилемахиде» [28 - Временное значение выражено здесь плеонастически: время досуга – это и есть досуг. Во французском оригинале у Фенелона временная семантика вообще эксплицитно не выражена, досугу соответствует aise, ср.: «Pour former de grands desseins il faut avoir l’esprit libre & reposе, il faut penser а son aise dans un entier dеgagement de toutes les expеditions d’affaires еpineuses» [Fеnеlon 1699, V: 125]. Впрочем, в более ши роком контексте временная семантика присутствует, в предшествующей фразе говорится о «les dеtails mеdiocres qui consume le temps & la libertе d’esprit nеcessaire pour les grandes choses» [Ibid.]; у Тредиаковского этому соответствует: «Для Подробностей, тратящихъ время и-разума Вольность, Нужную толь на велйк?е Вещи и-важные самы» [Тредиаковский 1766, II: 176].]. Более ранний, но менее яркий пример обнаруживается в письме М. В. Ломоносова В. Н. Татищеву от 27 января 1749 г. Ломоносов пишет в нем о своем желании сделать стихотворное переложение Псалтыри и указывает на две причины, которые этому препятствуют: «Первое – недосуги; ибо главное мое дело есть горная наука, для которой я был нарочно в Саксонию посылан, также химия и физика много времени требуют» [Ломоносов, VIII: 96] [29 - Я благодарен Г. Кайперту указавшему мне на этот пример.]. Речь здесь определенно идет о времени, а не о способности, однако не ясно, до какой степени потребное Ломоносову для переложения время рассматривается как loisir. Поскольку общество явно нуждалось в подходящем обозначении для нового концепта, эта инновация получает в Екатерининскую эпоху заметное распространение. Ср., например, в Слове Ивана Третьякова 1768 г.: «[Люди] любопытствовать о вещах начинают, когда он?, снискав все нужное к прохладн?йшему житию, надосуг? пребывают» [СРЯ XVIII в., VI: 239] или в журнале Смесь 1769 г.: «Напишу волшебную сказку, сии сказочки часто и знатные и ученые люди изволят читать надосуг?» [Там же].