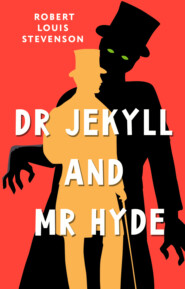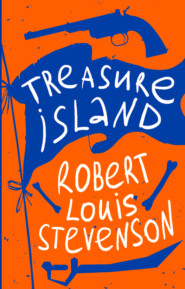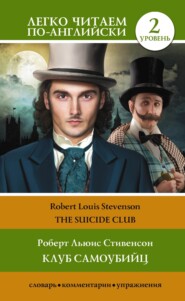По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Берег Фалеза
Автор
Жанр
Год написания книги
1892
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Комната была полна мух и удушающе жаркая, так как дом был грязный, низкий, маленький, стоял на скверном месте, за деревней, у опушки кустарника и был закрыт со стороны дороги. Постели троих мужчин были устроены на полу, тут же свалены были в беспорядке кастрюли, сковородки и посуда. Мебели вовсе не было. Рендоль в буйные минуты уничтожил ее. Тут же я сидел и ел обед, поданный нам женою Кэза; тут же занимали меня разговором эти остатки человека; коснеющим языком рассказывал он старые пошлые анекдоты, старые истории, сопровождаемые сиплым смехом; моего угнетенного положения он не сознавал. Он все время прихлебывал джин. Временами засыпал, затем снова просыпался, вздрагивал, охал и время от времени спрашивал меня, почему я хочу жениться на Умэ.
– Не следует тебе, дружок, допустить себя стать подобным этому старому джентльмену, – твердил я себе целый день.
Было, должно быть, часов около четырех пополудни, когда задняя дверь медленно открылась, и в комнату вползла чуть не на животе странная старуха-туземка, вся запеленутая в черную материю, с седыми спутанными волосами, с татуированным лицом, что не было в обычае на этом острове, и с большими, блестящими, помешанными глазами. Она уставила их на меня с восторженным, на мой взгляд, несколько деланным выражением. Отчетливых слов она не говорила, а просто щелкала и чавкала зубами, лепеча как ребенок, просящий рождественского пудинга. Она прошла по всему дому, направляясь прямо ко мне, доползши до меня, схватила мою руку и начала мурлыкать над ней как кошка. От мурлыканья она перешла к пению.
– Кто это, черт возьми? – крикнул я, пораженный всем этим.
– Это Февао, – сказал Рендоль.
Я увидел, что он заковылял в дальний угол.
– Вы ее боитесь? – спросил я.
– Мне бояться! – откликнулся капитан. – Я ей не доверяю, мой друг! Я ее на порог не пустил бы, но сегодня дело другое, сегодня свадьба. Это мать Умэ.
– Положим, это верно, но чему она так рада? – спросил я, более раздраженный, пожалуй, более испуганный, чем хотел показать. Капитан пояснил, что она восхваляет меня в стихах за то, что я женюсь на Умэ.
– Прекрасно, старушка, – сказал я с неудачной попыткой к смеху. – Весьма признателен. Скажите мне, когда покончите с моей рукой.
Она как будто поняла. Пение перешло в крик и смолкло. Женщина выползла из дома точно так же, как вползла в него, и, должно быть, прямо пробралась в кусты, потому что, когда я последовал за нею к дверям, она уже исчезла.
– Странные обычаи, – заметил я.
– Странный народ, – сказал капитан и, к великому моему удивлению, осенил крестным знамением свою обнаженную грудь.
– Как, разве вы папист? – воскликнул я.
Он с презрением отрекся.
– Самый рьяный баптист, – возразил он, – но и у папистов, милый друг, есть кое-что хорошее и в том числе вот это самое. Послушайтесь моего совета, и если встретите где-нибудь и когда бы то ни было Умэ, Февао или Вигура, или вообще кого-либо из этой толпы, обратитесь в паписта и сделайте то, что сделал я. Понимаете? – спросил он, снова перекрестясь и подмигивая тусклым глазом. – Нет, сэр, папистов здесь нет!.. – и долго еще после этого сообщал он мне свои религиозные взгляды.
Должно быть, Умэ с первого взгляда пленила меня, иначе я бежал бы из этого дома на чистый воздух, к чистому морю или какой-нибудь реке, хотя, по правде сказать, и был обязан Кэзу; кроме того, я не смел бы держать высоко голову на этом острове, если бы убежал от девушки в брачную ночь.
Солнце зашло, небо было все в огне, и лампа уже горела несколько времени, когда Кэз вернулся с Умэ и негром. Умэ была одета и надушена. Короткая юбка из тонкой тапы выглядела богаче шелковой. Обнаженный до талии бюст цвета темного меда был украшен полдюжиной ожерелий из семян и цветов, за ушами и в волосах тоже были пурпуровые цветы кетмии[2 - Растение семейства мальвовых, которое у нас зовут обычно китайской розой (прим. перевод.).]. Она держала себя как подобает невесте, серьезно и спокойно, и мне стало стыдно стоять с ней в этом простом доме, перед этим осклабившимся негром. Повторяю, мне было стыдно, потому что шарлатан нарядился в огромный бумажный воротник, а книга, по которой (он делал вид, что читает) он читал, была просто томом романа; слова его службы не могут быть приведены. Я почувствовал укор совести при соединении наших рук, а когда ей вручили брачное свидетельство, я покушался отречься от сделки и сознаться. Вот этот документ, написанный и подписанный Кэзом на листке, вырванном из конторской книги:
«Сим удостоверяется, что Умэ, дочь Февао Фалезской, незаконно повенчана с мистером Джоном Уильтшайром на одну неделю, и мистер Джон Уильтшайр может отправить ее ко всем чертям, когда ему заблагорассудится.
Джон Блекмор,
капеллан матросов.
Извлечено из регистра Вильямом Т. Рендолем, командиром матросов».
Славная бумага для вручения девушке, которая хранит ее как золото! Человек может, по меньшей мере, почувствовать себя униженным. Но в этих местах подобное практикуется по вине не белолицых, а миссионеров.
Если бы они не обращали туземцев, мне не пришлось бы прибегать к обману, а брал бы я себе каких угодно жен и со спокойной совестью оставлял бы их, когда вздумается.
Чем более я был пристыжен, тем более спешил уйти. Желания наши, видимо, согласовались, насколько я заметил по перемене в торговцах. Насколько сильно было в Кэзе желание удержать меня, настолько сильно ему хотелось теперь спровадить меня, точно он достиг какой-то цели. «Умэ покажет вам ваш дом», – сказал он, и все трое простились с нами в комнате.
Приближалась ночь. В селении пахло деревьями, цветами, морем, печеными плодами хлебного дерева. Слышен был шум прибоя, а издали доносились из домов и из-за деревьев звуки мужских и детских голосов. Приятно мне было дышать свежим воздухом, приятно было покончить с капитаном и видеть рядом с собой, вместо него, это создание. Я чувствовал себя так же, как будто это была девушка Старого Света, и, забывшись на минуту, я взял ее за руку. Пальцы ее приютились в моей руке, я слышал ее прерывистое дыхание, и вот она вдруг схватила мою руку и прижалась к ней лицом. «Вы добрый!» – крикнула она, побежала вперед, остановилась, оглянулась, улыбнулась, опять побежала и таким образом довела меня по опушки кустарника кратчайшей дорогой до дома.
Дело в том, что Кэз, исполняя обязанность свата, сказал ей, что я безумно хочу обладать ею и не беспокоюсь о последствиях. Бедняжка, зная то, о чем я понятия не имел, поверила каждому слову, и у нее закружилась голова от тщеславия и благодарности. Я ничего этого не подозревал. Принадлежа к числу людей, враждебно относящихся к нелепым поступкам с туземными женщинами, видевший стольких белых, съеденных родственниками жен и одураченных договором, я говорил себе, что следует остановиться и образумить ее. Но она была так оригинальна и мила, отбегая вперед и поджидая меня, делалось это так по-детски или так по-собачьи, что я не мог сделать ничего лучшего, как именно следовать за нею, прислушиваясь к шагам ее босых ног и следя в сумерках за ее светящимся телом. Мне пришла в голову другая мысль. Она играла со мной как котенок, когда мы были наедине, а дома держала себя гордо и скромно как графиня. В этом костюме, как ни мал и ни туземен он был, в этом тонком тапа в цветах и семенах, блестевших как драгоценности, только более крупные, мне показалось, что она действительно графиня, нарядившаяся, чтобы слушать в концерте великих певцов, а не для того, чтобы стать женою бедного торговца, вроде меня.
Она вошла в дом первой, и я еще на улице увидел, как вспыхнула спичка, и окна осветились светом лампы. Коралловая постройка с большой верандой, высокой и большой главной комнатой, была удивительно красива. Сундуки и ящики, наваленные в ней кое-как, придавали ей несколько беспорядочный вид. У стола поджидала меня смущенная Умэ. Тень ее поднималась позади до углубления железного потолка. Сама она была ярко освещена лампой. Я остановился в дверях. Она молча смотрела на меня пылкими, но пугливыми глазами, затем дотронулась до своей груди.
– Я ваша жена, – сказала она.
Никогда еще не бывал я так взволнован. Желание обладать ею вызвало во мне дрожь, подобную дрожанию паруса под влиянием ветра.
Я не мог говорить, если бы хотел, а если бы и мог, то все равно не стал бы. Я стыдился своего чувства к туземной женщине, стыдился этого брака, стыдно мне было и за свидетельство, тщательно спрятанное ею в ее короткой юбке. Я отвернулся и сделал вид, что хочу разобрать ящики. Я как раз попал на ящик джина, единственный привезенный мною. Отчасти присутствие девушки, отчасти отвратительное воспоминание о капитане Рендоле побудили меня принять внезапное решение: я поднял крышку, вынул бутылки, откупорил их одну за другой карманным штопором и поручил Умэ вылить содержимое с веранды.
Вернувшись за последними бутылками, она смущенно посмотрела на меня.
– Не хорошо, – сказал я, несколько лучше владея языком. – Человек он пьет, он нехороший.
Она с этим согласилась, но продолжала соображать.
– Зачем вы его привезли? – спросила она. – Если бы вы не хотели пить, вы бы не привезли его, я думаю.
– Совершенно верно, – сказал я. – Одно время мне очень хотелось пить, а теперь не хочется. Я, видишь ли, не знал, что у меня будет женка. Положим, я пью джин, моей женке было бы страшно.
Говорить с нею ласково – это наибольшее, на что я был способен; я дал обет никогда не допускать себя до слабости к туземке, и мне оставалось только остановиться.
Она серьезно смотрела на меня, сидевшего у открытого ящика.
– Я думаю, вы хороший человек, – сказала она и вдруг упала передо мною на пол. – Я принадлежу вам, как ваша вещь! – крикнула она.
Глава II
Опала
Утром я вышел на веранду до восхода солнца. Дом мой был последним на востоке. Лес и утесы скрывали солнечный восход. На западе протекала быстрая, холодная река, за которой виднелась зеленая поляна, усеянная кокосовыми пальмами, хлебными деревьями и домами. Ставни были в некоторых домах закрыты, в других открыты. Я видел рои москитов и сидевшие в домах тени проснувшихся людей. За зеленым лугом молча прокрадывались люди, закутанные в разноцветные плащи, похожие на библейские изображения бедуинов. Было мертвенно тихо, торжественно, холодно, освещение лагун зарею походило на зарево пожара.
Меня смутило то, что я увидел вблизи. Несколько дюжин взрослых людей и детей образовали полукруг, фланкируя мой дом. Одни расположились на ближайшем берегу разделявшей их реки, другие на дальнем, а часть на скале посередине. Они сидели молча, окутанные покрывалами, и пристально, не спуская глаз, смотрели на меня и на мой дом, смотрели как пойнтеры. Я нашел это странным и вышел. Вернувшись с купанья, я нашел их на прежнем месте с прибавкой еще двух-трех человек, что показалось мне еще более странным. «Чего ради они смотрят на мой дом?», – подумал я, входя в него.
Но мысль об этих наблюдателях упорно засела у меня в голове, и я снова вышел. Солнце уже взошло, но все еще находилось за лесом. Прошло с четверть часа. Толпа значительно возросла, дальний берег был почти полон: человек тридцать взрослых и вдвое большее количество детей частью стояли, частью сидели на корточках и глазели на мой дом. Я видел однажды окруженный таким образом дом, но тогда торговец дубасил палкой свою жену, и она кричала; тут же не было ничего подобного – топилась печка, дым шел по-христиански, – все было благопристойно, на бристольский лад. Положим, явился чужестранец, но они имели возможность видеть его вчера и отнеслись к его приезду довольно спокойно. Что же встревожило их теперь? Я положил руки на перила и тоже уставился на них. Перемигиваться стали, черт возьми! Временами дети болтали, но так тихо, что до меня не долетало даже гула их голосов. Остальные напоминали изваяние; безмолвно и печально смотрели они на меня своими большими глазами, и мне пришло в голову, что мало разницы было бы в их взгляде, если бы я стоял на помосте виселицы, а эти добрые люди пришли бы глядеть, как меня будут вешать.
Я почувствовал, что начинаю робеть, и боялся дать это заметить, этого никогда не следует показывать. Я выпрямился, подбодрился, спустился с веранды и направился к реке. Там начали перешептываться, послышалось жужжание, какое иногда слышишь в театре при подъеме занавеса, и ближайшие отступили на расстояние шага. Я видел, как одна девушка положила одну руку на молодого человека, а другой рукой показала наверх, сказав в это время что-то задыхающимся голосом. Три мальчугана сидели на дороге, где я должен был пройти на расстоянии трех футов от них. Закутанные в покрывало, с бритыми головками и торчащим хохолком, с этими оригинальными личиками они походили на каменные статуэтки. Они сидели торжественно, как судьи. Я поднял сжатый кулак, как человек, намеревающийся дать тумака, и мне показалось что-то вроде подмигивания на этих трех лицах, затем один (самый дальний) вскочил и побежал к своей маме, двое остальных хотели последовать за ним, запутались, упали, заорали, вылезли из своих покрывал, и минуту спустя все трое нагишом удирали во все лопатки, визжа, как поросята. Туземцы, никогда не пропускающие случая пошутить, даже на похоронах, смеялись коротким смехом, похожим на собачий лай.
Говорят, человек боится оставаться один. Ничего подобного. Что пугает его в темноте или в кустах, так это невозможность убедиться в безопасности и то, что у него может очутиться за плечами целая армия, а еще страшнее попасть в толпу, не имея ни малейшего представления о ее намерениях. Мальчуганы не успели добежать до места и все еще полным ходом летели прямо по дороге, как я уже успел обойти одно судно и скрыться за вторым. Я, как дурак, шел вперед, делая по пяти узлов, и, как дурак, вернулся обратно. Это, должно быть, было презабавно, но на этот раз никто не смеялся, только одна старуха забормотала какую-то молитву, вроде того, как бормочат диссентеры свои проповеди.
– Никогда еще не видел я таких дураков канаков, как здешние, – сказал я Умэ, смотря из окна на зевак.
– Ничего не знаю, – ответила Умэ с видом отвращения, что у нее вышло очень ловко.
Вот и весь наш разговор по этому поводу, потому что я был сильно сконфужен тем, что Умэ отнеслась к этому равнодушно, как к делу совершенно естественному.
Целый день сидели дураки, то в большем, то в меньшем числе, с западной стороны моего дома и по реке, поджидая какое-нибудь знамение: я полагаю, они ждали небесного огня, который пожрет меня со всем моим добром. К вечеру им, как истым островитянам, надоело ждать, они ушли и устроили танцы в большом деревенском доме, откуда доносились до меня их пение и хлопанье в ладоши часов до десяти вечера, а на следующий день они, казалось, забыли даже о моем существовании. Спустись огонь с неба, разверзнись земля и поглоти меня – никто не видел бы этой помехи или урока – назовите, как хотите. Однако мне пришлось узнать, что они и не думали забывать меня и зорко следили, не будет ли какого-нибудь феномена в моей жизни.
Два дня я был очень занят приведением в порядок магазина и проверкой имущества, оставленного Вигуром. Эта работа мне порядком-таки надоела и мешала думать о чем-нибудь другом. Бен принял товар до переезда, и я знал, что на него можно вполне положиться, но, очевидно, здесь кто-то очень бесцеремонно хозяйничал, и я открыл, что меня обокрали на полугодовое содержание и прибыль. Я готов был дать выгнать себя пинками из деревни за то, что был таким ослом и пьянствовал с Кэзом, вместо того чтобы заняться делом и принять товар самому.
– Не следует тебе, дружок, допустить себя стать подобным этому старому джентльмену, – твердил я себе целый день.
Было, должно быть, часов около четырех пополудни, когда задняя дверь медленно открылась, и в комнату вползла чуть не на животе странная старуха-туземка, вся запеленутая в черную материю, с седыми спутанными волосами, с татуированным лицом, что не было в обычае на этом острове, и с большими, блестящими, помешанными глазами. Она уставила их на меня с восторженным, на мой взгляд, несколько деланным выражением. Отчетливых слов она не говорила, а просто щелкала и чавкала зубами, лепеча как ребенок, просящий рождественского пудинга. Она прошла по всему дому, направляясь прямо ко мне, доползши до меня, схватила мою руку и начала мурлыкать над ней как кошка. От мурлыканья она перешла к пению.
– Кто это, черт возьми? – крикнул я, пораженный всем этим.
– Это Февао, – сказал Рендоль.
Я увидел, что он заковылял в дальний угол.
– Вы ее боитесь? – спросил я.
– Мне бояться! – откликнулся капитан. – Я ей не доверяю, мой друг! Я ее на порог не пустил бы, но сегодня дело другое, сегодня свадьба. Это мать Умэ.
– Положим, это верно, но чему она так рада? – спросил я, более раздраженный, пожалуй, более испуганный, чем хотел показать. Капитан пояснил, что она восхваляет меня в стихах за то, что я женюсь на Умэ.
– Прекрасно, старушка, – сказал я с неудачной попыткой к смеху. – Весьма признателен. Скажите мне, когда покончите с моей рукой.
Она как будто поняла. Пение перешло в крик и смолкло. Женщина выползла из дома точно так же, как вползла в него, и, должно быть, прямо пробралась в кусты, потому что, когда я последовал за нею к дверям, она уже исчезла.
– Странные обычаи, – заметил я.
– Странный народ, – сказал капитан и, к великому моему удивлению, осенил крестным знамением свою обнаженную грудь.
– Как, разве вы папист? – воскликнул я.
Он с презрением отрекся.
– Самый рьяный баптист, – возразил он, – но и у папистов, милый друг, есть кое-что хорошее и в том числе вот это самое. Послушайтесь моего совета, и если встретите где-нибудь и когда бы то ни было Умэ, Февао или Вигура, или вообще кого-либо из этой толпы, обратитесь в паписта и сделайте то, что сделал я. Понимаете? – спросил он, снова перекрестясь и подмигивая тусклым глазом. – Нет, сэр, папистов здесь нет!.. – и долго еще после этого сообщал он мне свои религиозные взгляды.
Должно быть, Умэ с первого взгляда пленила меня, иначе я бежал бы из этого дома на чистый воздух, к чистому морю или какой-нибудь реке, хотя, по правде сказать, и был обязан Кэзу; кроме того, я не смел бы держать высоко голову на этом острове, если бы убежал от девушки в брачную ночь.
Солнце зашло, небо было все в огне, и лампа уже горела несколько времени, когда Кэз вернулся с Умэ и негром. Умэ была одета и надушена. Короткая юбка из тонкой тапы выглядела богаче шелковой. Обнаженный до талии бюст цвета темного меда был украшен полдюжиной ожерелий из семян и цветов, за ушами и в волосах тоже были пурпуровые цветы кетмии[2 - Растение семейства мальвовых, которое у нас зовут обычно китайской розой (прим. перевод.).]. Она держала себя как подобает невесте, серьезно и спокойно, и мне стало стыдно стоять с ней в этом простом доме, перед этим осклабившимся негром. Повторяю, мне было стыдно, потому что шарлатан нарядился в огромный бумажный воротник, а книга, по которой (он делал вид, что читает) он читал, была просто томом романа; слова его службы не могут быть приведены. Я почувствовал укор совести при соединении наших рук, а когда ей вручили брачное свидетельство, я покушался отречься от сделки и сознаться. Вот этот документ, написанный и подписанный Кэзом на листке, вырванном из конторской книги:
«Сим удостоверяется, что Умэ, дочь Февао Фалезской, незаконно повенчана с мистером Джоном Уильтшайром на одну неделю, и мистер Джон Уильтшайр может отправить ее ко всем чертям, когда ему заблагорассудится.
Джон Блекмор,
капеллан матросов.
Извлечено из регистра Вильямом Т. Рендолем, командиром матросов».
Славная бумага для вручения девушке, которая хранит ее как золото! Человек может, по меньшей мере, почувствовать себя униженным. Но в этих местах подобное практикуется по вине не белолицых, а миссионеров.
Если бы они не обращали туземцев, мне не пришлось бы прибегать к обману, а брал бы я себе каких угодно жен и со спокойной совестью оставлял бы их, когда вздумается.
Чем более я был пристыжен, тем более спешил уйти. Желания наши, видимо, согласовались, насколько я заметил по перемене в торговцах. Насколько сильно было в Кэзе желание удержать меня, настолько сильно ему хотелось теперь спровадить меня, точно он достиг какой-то цели. «Умэ покажет вам ваш дом», – сказал он, и все трое простились с нами в комнате.
Приближалась ночь. В селении пахло деревьями, цветами, морем, печеными плодами хлебного дерева. Слышен был шум прибоя, а издали доносились из домов и из-за деревьев звуки мужских и детских голосов. Приятно мне было дышать свежим воздухом, приятно было покончить с капитаном и видеть рядом с собой, вместо него, это создание. Я чувствовал себя так же, как будто это была девушка Старого Света, и, забывшись на минуту, я взял ее за руку. Пальцы ее приютились в моей руке, я слышал ее прерывистое дыхание, и вот она вдруг схватила мою руку и прижалась к ней лицом. «Вы добрый!» – крикнула она, побежала вперед, остановилась, оглянулась, улыбнулась, опять побежала и таким образом довела меня по опушки кустарника кратчайшей дорогой до дома.
Дело в том, что Кэз, исполняя обязанность свата, сказал ей, что я безумно хочу обладать ею и не беспокоюсь о последствиях. Бедняжка, зная то, о чем я понятия не имел, поверила каждому слову, и у нее закружилась голова от тщеславия и благодарности. Я ничего этого не подозревал. Принадлежа к числу людей, враждебно относящихся к нелепым поступкам с туземными женщинами, видевший стольких белых, съеденных родственниками жен и одураченных договором, я говорил себе, что следует остановиться и образумить ее. Но она была так оригинальна и мила, отбегая вперед и поджидая меня, делалось это так по-детски или так по-собачьи, что я не мог сделать ничего лучшего, как именно следовать за нею, прислушиваясь к шагам ее босых ног и следя в сумерках за ее светящимся телом. Мне пришла в голову другая мысль. Она играла со мной как котенок, когда мы были наедине, а дома держала себя гордо и скромно как графиня. В этом костюме, как ни мал и ни туземен он был, в этом тонком тапа в цветах и семенах, блестевших как драгоценности, только более крупные, мне показалось, что она действительно графиня, нарядившаяся, чтобы слушать в концерте великих певцов, а не для того, чтобы стать женою бедного торговца, вроде меня.
Она вошла в дом первой, и я еще на улице увидел, как вспыхнула спичка, и окна осветились светом лампы. Коралловая постройка с большой верандой, высокой и большой главной комнатой, была удивительно красива. Сундуки и ящики, наваленные в ней кое-как, придавали ей несколько беспорядочный вид. У стола поджидала меня смущенная Умэ. Тень ее поднималась позади до углубления железного потолка. Сама она была ярко освещена лампой. Я остановился в дверях. Она молча смотрела на меня пылкими, но пугливыми глазами, затем дотронулась до своей груди.
– Я ваша жена, – сказала она.
Никогда еще не бывал я так взволнован. Желание обладать ею вызвало во мне дрожь, подобную дрожанию паруса под влиянием ветра.
Я не мог говорить, если бы хотел, а если бы и мог, то все равно не стал бы. Я стыдился своего чувства к туземной женщине, стыдился этого брака, стыдно мне было и за свидетельство, тщательно спрятанное ею в ее короткой юбке. Я отвернулся и сделал вид, что хочу разобрать ящики. Я как раз попал на ящик джина, единственный привезенный мною. Отчасти присутствие девушки, отчасти отвратительное воспоминание о капитане Рендоле побудили меня принять внезапное решение: я поднял крышку, вынул бутылки, откупорил их одну за другой карманным штопором и поручил Умэ вылить содержимое с веранды.
Вернувшись за последними бутылками, она смущенно посмотрела на меня.
– Не хорошо, – сказал я, несколько лучше владея языком. – Человек он пьет, он нехороший.
Она с этим согласилась, но продолжала соображать.
– Зачем вы его привезли? – спросила она. – Если бы вы не хотели пить, вы бы не привезли его, я думаю.
– Совершенно верно, – сказал я. – Одно время мне очень хотелось пить, а теперь не хочется. Я, видишь ли, не знал, что у меня будет женка. Положим, я пью джин, моей женке было бы страшно.
Говорить с нею ласково – это наибольшее, на что я был способен; я дал обет никогда не допускать себя до слабости к туземке, и мне оставалось только остановиться.
Она серьезно смотрела на меня, сидевшего у открытого ящика.
– Я думаю, вы хороший человек, – сказала она и вдруг упала передо мною на пол. – Я принадлежу вам, как ваша вещь! – крикнула она.
Глава II
Опала
Утром я вышел на веранду до восхода солнца. Дом мой был последним на востоке. Лес и утесы скрывали солнечный восход. На западе протекала быстрая, холодная река, за которой виднелась зеленая поляна, усеянная кокосовыми пальмами, хлебными деревьями и домами. Ставни были в некоторых домах закрыты, в других открыты. Я видел рои москитов и сидевшие в домах тени проснувшихся людей. За зеленым лугом молча прокрадывались люди, закутанные в разноцветные плащи, похожие на библейские изображения бедуинов. Было мертвенно тихо, торжественно, холодно, освещение лагун зарею походило на зарево пожара.
Меня смутило то, что я увидел вблизи. Несколько дюжин взрослых людей и детей образовали полукруг, фланкируя мой дом. Одни расположились на ближайшем берегу разделявшей их реки, другие на дальнем, а часть на скале посередине. Они сидели молча, окутанные покрывалами, и пристально, не спуская глаз, смотрели на меня и на мой дом, смотрели как пойнтеры. Я нашел это странным и вышел. Вернувшись с купанья, я нашел их на прежнем месте с прибавкой еще двух-трех человек, что показалось мне еще более странным. «Чего ради они смотрят на мой дом?», – подумал я, входя в него.
Но мысль об этих наблюдателях упорно засела у меня в голове, и я снова вышел. Солнце уже взошло, но все еще находилось за лесом. Прошло с четверть часа. Толпа значительно возросла, дальний берег был почти полон: человек тридцать взрослых и вдвое большее количество детей частью стояли, частью сидели на корточках и глазели на мой дом. Я видел однажды окруженный таким образом дом, но тогда торговец дубасил палкой свою жену, и она кричала; тут же не было ничего подобного – топилась печка, дым шел по-христиански, – все было благопристойно, на бристольский лад. Положим, явился чужестранец, но они имели возможность видеть его вчера и отнеслись к его приезду довольно спокойно. Что же встревожило их теперь? Я положил руки на перила и тоже уставился на них. Перемигиваться стали, черт возьми! Временами дети болтали, но так тихо, что до меня не долетало даже гула их голосов. Остальные напоминали изваяние; безмолвно и печально смотрели они на меня своими большими глазами, и мне пришло в голову, что мало разницы было бы в их взгляде, если бы я стоял на помосте виселицы, а эти добрые люди пришли бы глядеть, как меня будут вешать.
Я почувствовал, что начинаю робеть, и боялся дать это заметить, этого никогда не следует показывать. Я выпрямился, подбодрился, спустился с веранды и направился к реке. Там начали перешептываться, послышалось жужжание, какое иногда слышишь в театре при подъеме занавеса, и ближайшие отступили на расстояние шага. Я видел, как одна девушка положила одну руку на молодого человека, а другой рукой показала наверх, сказав в это время что-то задыхающимся голосом. Три мальчугана сидели на дороге, где я должен был пройти на расстоянии трех футов от них. Закутанные в покрывало, с бритыми головками и торчащим хохолком, с этими оригинальными личиками они походили на каменные статуэтки. Они сидели торжественно, как судьи. Я поднял сжатый кулак, как человек, намеревающийся дать тумака, и мне показалось что-то вроде подмигивания на этих трех лицах, затем один (самый дальний) вскочил и побежал к своей маме, двое остальных хотели последовать за ним, запутались, упали, заорали, вылезли из своих покрывал, и минуту спустя все трое нагишом удирали во все лопатки, визжа, как поросята. Туземцы, никогда не пропускающие случая пошутить, даже на похоронах, смеялись коротким смехом, похожим на собачий лай.
Говорят, человек боится оставаться один. Ничего подобного. Что пугает его в темноте или в кустах, так это невозможность убедиться в безопасности и то, что у него может очутиться за плечами целая армия, а еще страшнее попасть в толпу, не имея ни малейшего представления о ее намерениях. Мальчуганы не успели добежать до места и все еще полным ходом летели прямо по дороге, как я уже успел обойти одно судно и скрыться за вторым. Я, как дурак, шел вперед, делая по пяти узлов, и, как дурак, вернулся обратно. Это, должно быть, было презабавно, но на этот раз никто не смеялся, только одна старуха забормотала какую-то молитву, вроде того, как бормочат диссентеры свои проповеди.
– Никогда еще не видел я таких дураков канаков, как здешние, – сказал я Умэ, смотря из окна на зевак.
– Ничего не знаю, – ответила Умэ с видом отвращения, что у нее вышло очень ловко.
Вот и весь наш разговор по этому поводу, потому что я был сильно сконфужен тем, что Умэ отнеслась к этому равнодушно, как к делу совершенно естественному.
Целый день сидели дураки, то в большем, то в меньшем числе, с западной стороны моего дома и по реке, поджидая какое-нибудь знамение: я полагаю, они ждали небесного огня, который пожрет меня со всем моим добром. К вечеру им, как истым островитянам, надоело ждать, они ушли и устроили танцы в большом деревенском доме, откуда доносились до меня их пение и хлопанье в ладоши часов до десяти вечера, а на следующий день они, казалось, забыли даже о моем существовании. Спустись огонь с неба, разверзнись земля и поглоти меня – никто не видел бы этой помехи или урока – назовите, как хотите. Однако мне пришлось узнать, что они и не думали забывать меня и зорко следили, не будет ли какого-нибудь феномена в моей жизни.
Два дня я был очень занят приведением в порядок магазина и проверкой имущества, оставленного Вигуром. Эта работа мне порядком-таки надоела и мешала думать о чем-нибудь другом. Бен принял товар до переезда, и я знал, что на него можно вполне положиться, но, очевидно, здесь кто-то очень бесцеремонно хозяйничал, и я открыл, что меня обокрали на полугодовое содержание и прибыль. Я готов был дать выгнать себя пинками из деревни за то, что был таким ослом и пьянствовал с Кэзом, вместо того чтобы заняться делом и принять товар самому.