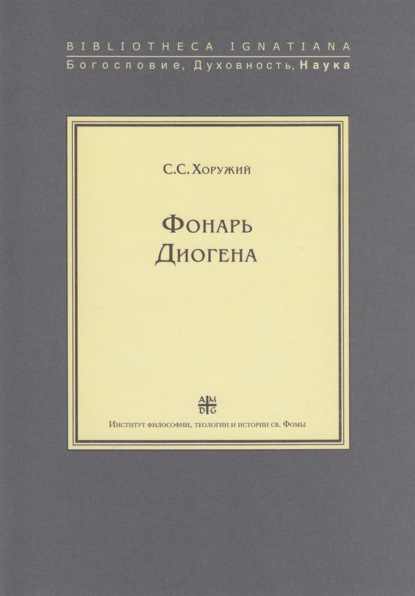По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Фонарь Диогена
Автор
Год написания книги
2010
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
3. Трансцендентальная дедукция. Рассмотрение единства чистого познания на предшествующей стадии еще не было полным осуществлением кантова методологического принципа вопрошания об основаниях. Это единство анализировалось как предположительно существующее, и еще не ставился вопрос о собственных его основаниях, его внутренней возможности. Данный вопрос составляет содержание очередной стадии онтологического синтеза, задачу которой Хайдеггер формулирует так: «В чистом синтезе должны мочь встретиться чистое созерцание и чистое мышление априори. Чем и как должен быть сам чистый синтез, чтобы быть достаточным для заданий подобного единения?.. Прослеживание изначального само-формирования (Sich-bilden) сущностного единства онтологического познания есть смысл и задача того, что Кант называет “трансцендентальной дедукцией категорий”»[117 - М. Heidegger. Op. cit. S. 68.]. (При этом, понятие дедукции Кант употребляет в значении, принятом в сфере права, вместо обычного логико-философского значения). Данная стадия отличается тонкостью и запутанностью; ее трактовка заметно менялась самим Кантом во втором издании «Критики чистого разума» сравнительно с первым. К тому есть весомые причины: именно на этой стадии выявляется, что чистое познание есть в существенном трансцендирование: обращенность, исхождение, исступление познающего вовне, от себя, из себя – к сущему; и лишь с появлением концепции трансцендирования в центре, в фокусе онтологического синтеза, получает освещение и оправдание само кантовское определение своего метода, специфического характера его понятий – как «трансцендентального», соотносящего с трансцендированием. Трансцендентальная дедукция должна раскрыть всю в целом структуру чистого синтеза таким образом, чтобы эта структура выступила как основоустройство трансцендирования. Одним из важных результатов ее является уточнение: совершающей силой чистого синтеза служит трансцендентальная, или же «чистая продуктивная» способность воображения, поле которой не ограничивается содержаниями, почерпнутыми из опыта. Именно эта способность оказывается тем необходимым посредством, срединной инстанцией в икономии чистого познания, которая может свести вместе, сопрячь чистую апперцепцию и чистое созерцание.
4. Трансцендентальный схематизм. После стратегически ключевой второй стадии и концептуально решающей и центральной третьей, конституция входит в завершающие фазы. Как выяснено на третьей стадии, критическую важность для всей конституции в целом имеет активность трансцендентальной способности воображения, обеспечивающая единство чистого познания и выступающая как конститутивный элемент трансцендирования. Кант находит, однако, что при рассмотрении трансцендентальной дедукции специфический механизм, каким эта способность осуществляет свою единящую и трансцендирующую функцию, еще остается темным; и для изведения этого темного механизма в прозрачность выстраивается очередной круг новых идей и понятий. В трансцендировании как исхождении к сущему, к чувственной реальности, созерцание выступает как восприятие, оно должно облечься в чувственное; то же должно произойти и с другой компонентой чистого познания, апперцепцией: ее содержания, чистые понятия, также должны совершить это исхождение и облечение («очувствливание», Versinnlichung). «Горизонт трансцендирования может формироваться (sich bilden) лишь в очувствливании… трансцендирование формируется в очувствливании чистых понятий… [причем] это очувствливание также должно быть чистым»[118 - Ib. S. 87–88.]. Именно это чистое очувствливание чистых понятий, входящее в сущность трансцендирования, Кант выражает понятием «трансцендентальный схематизм», или же схемообразование, совершаемое чистой способностью воображения.
Введение новых терминов не слишком содействует прозрачности; основное продвижение к ней достигается в скрупулезном анализе понятий «схема», «образ», «чистый образ» (связанный с чистым созерцанием, каковое, по Канту, есть время), «схемообразование». Эта аналитика раскрывает двойственную, сопрягающую природу всех специфических понятий стадии схематизма. Само же понятие схемы обнаруживает такую природу сразу в нескольких отношениях. Прежде всего, схема осуществляет связь чистого созерцания с чистым понятием и апперцепцией: она сопоставляется чистому понятию таким путем, что в схемообразовании она одновременно связуется с чистым образом, лежащим в поле чистого созерцания; и, как явствует отсюда, схемообразование именно и есть тот механизм, посредством которого трансцендентальная способность воображения осуществляет свою единящую и трансцендирующую миссию. Далее, схема делает возможным «приложение категорий к явлениям», причем для передачи способа и характера этого приложения Кант вводит еще новое понятие «подчиненности» (Subsumtion), заимствуемое на сей раз из логики, и говорит о «подчиненности эмпирических (вообще, чувственных) созерцаний понятиям чистого разума». И наконец, в качестве почти тавтологической, но отнюдь не лишней, вариации последнего свойства, можно заметить, что, осуществляя посредствующую функцию между явлениями и понятиями чистого разума, кантова схема есть бинарный объект, соединяющий в себе чувственную и интеллигибельную стороны: «Это посредствующее представление должно быть чистым (без всякого эмпирического элемента) и, однако, с одной стороны, интеллектуальным, с другой же чувственным. Таковым представлением и является трансцендентальная схема»[119 - I. Kant. Op. cit. S.214.]. Идея подобного бинарного «умно-чувственного» предмета очень вскоре будет развита Шеллингом в его концепцию символа, а затем станет ядром целой особой ветви «символической» философии и эстетики; и в свете теснейшей включенности кантовой «схемы» в его концепцию трансцендирования, нам открывается здесь нить, связующая трансцендирование у Канта с идеей символа.
Хотя целью всех построений данной стадии было достижение наглядности и прозрачности, однако не только ход рассуждений, но и конечные результаты их оказываются достаточно сложны, не прозрачны; недаром уже в поздние годы жизни сам Кант признавал схематизм «труднейшим пунктом» своего учения. Мы не склонны видеть в этом лишь чисто техническое обстоятельство: не отражается ли тут также и невозможность вполне наглядно и убедительно продемонстрировать природу исследуемых актов как «трансцендирование»? Или иными словами, не отражается ли тут то, что вводимая концепция трансцендирования остается – по крайней мере, в некоторых чертах – принципиально дискуссионной?
5. Полное сущностное определение чистого познания. Трансцендентальный схематизм с его комплексом понятий довершает конституцию чистого познания. Предметом заключительной стадии является уже не новое продвижение, но обозрение-осмысление общего результата, т. е. всех стадий вкупе; или, что то же, полное сущностное определение чистого познания в его основных аспектах. В главнейшем аспекте, чистое познание есть формирование трансцендирования; и Кант на данной стадии формулирует итоговое положение, которое не говоря прямо о трансцендировании, тем не менее, имплицитно доставляет подобное полное определение. Данное положение, которое именуется у Канта «высшим основоположением всех синтетических суждений», гласит: «Условия возможности опыта вообще суть одновременно условия возможности предмета опыта»[120 - Ib. S. 232. (Курсив Канта).]. В этой формулировке в центр внимания ставится не затрагивавшийся в ходе конституции аспект проблемы оснований познания: внутренняя возможность познания (опыта) предполагает и возможность для познаваемого выступить предметом познания (опыта). Утверждение может показаться тривиальным или чисто формальным – и однако рассмотрение когнитивного акта под этим углом позволяет более полно выявить сущностную структуру заключенного в акте трансцендирования. В самом деле, если исходные определения трансцендирования характеризовали его со стороны познающего, как «обращенность-к» и «исхождение вовне», как активность экстатического характера, то взгляд со стороны познаваемого, предмета опыта, добавляет сюда, что те же условия, которые обеспечивают это «исхождение-к», одновременно обеспечивают предметное поле, доставляют горизонт исхождения; так что к характеристике трансцендирования как являющегося экстатической активностью, добавляется обладание горизонтом. Следующая формулировка Хайдеггера выражает сказанное несколько полнее и детальней: «Обращающееся к себе предоставление предстояния (Gegenstehenlassen) как таковое образует горизонт предметности вообще. Предваряющее и всегда необходимое в конечном познании исхождение к… (Hinausgehen zu) по этой причине есть постоянное стояние в исшедшести (Hinausstehen) к… (Экстаз). Но эта существенная исшедшесть (Hinausstand) к… именно в своем стоянии образует и доставляет себе – горизонт. Трансцендирование является экстатически-горизонтальным в себе. В этом членении единого в себе трансцендирования и выражается высшее основоположение»[121 - М. Heidegger. Op. cit. S. 111.].
Это выявление «горизонтального», или «горизонтного» аспекта в понятии трансцендирования имеет принципиальное значение для раскрытия онтологического содержания данного понятия и всей эпистемологии Канта. Бытийное устройство (познаваемого) сущего, онтологическое измерение его существования раскрываются, выступают в открытость лишь в некотором горизонте; и Хайдеггер пишет: «Онтологическое познание “образует” трансцендирование, и это образование есть не что иное как держание открытости (Offenhalten) горизонта, в котором первоначально становится узреваемо бытие сущего»[122 - Ib. S. 115.]. Вслед за дискуссией трансцендирования, онтологическое содержание чистого познания – другой важнейший аспект, которого нельзя обойти в итоговом обозрении конституции. Сам Кант почти не пользуется терминами «онтология» и «онтологический», однако он с полной определенностью проводит отождествление: его учение, или «трансцендентальная философия» есть то же что «онтология» и то же что Metaphysica generalis (воздержание же от «гордого имени онтологии» связано более с деталями отношений трансцендентальной философии с прежней онтологией, которую Кант, впрочем, называет «трансцендентальная философия древних»). Как обозначение способа и горизонта мысли, «трансцендентальное» в дискурсе Канта равнозначно «онтологическому»; и вслед за рецепцией Хайдеггера, мы также будем именовать кантовы «априорный синтез», «трансцендентальное познание» и под. – «онтологическими».
Абсолютно ясно, что вышеописанная конституция нагружена самым существенным, весомым онтологическим содержанием. Sub specie ontologiae, все предприятие «Критики чистого разума» может характеризоваться, по Хайдеггеру, как «обоснование внутренней возможности онтологии». Здесь совершается открытие и реконструкция внутренней онтологии когнитивного акта: последовательно развертываемая демонстрация горизонта онтологического познания, необходимо сопутствующего всякому онтическому (эмпирическому, опытному) познанию. Кант демонстрирует, что «не всякое познание является онтическим, и где таковое осуществляется, оно становится возможно лишь через посредство онтологического»[123 - Ib. S. 22.]. При этом, не просто демонстрируется существование некой «внутренней онтологии», заключенной в познании, но эта онтология, через свою связь с трансцендированием, получает сущностную дескрипцию в своем характере и типе: именно, «онтология есть не что иное как выразительное раскрытие систематической целокупности (des Ganzen) чистого познания, постольку, поскольку данная целокупность образует трансцендирование»[124 - Ib. S. 116.]. Ясно также и то, что в контексте европейской метафизики подобный опыт онтологии отличался кардинальной новизной и спецификой. Отличия лежали не в связи с трансцендированием, которая для онтологии всегда была привычна и традиционна, но в принципиально новой трактовке трансцендирования; а также одновременно в том, что и трансцендирование, и сама онтология представали у Канта интегрированными в основоустройство познания сущего (отнюдь не Богопознания) и вне связей с той проблематикой отношения здешнего бытия и инобытия, что от века считалась сферой и делом онтологии. (Если угодно, они могли трактоваться не как часть, а как некоторое необходимое расширение этого основоустройства, но это не меняло сути и не снимало новизны). Трансцендирование оказывалось «экстатически-горизонтальным» исхождением познающего разума вовне, к познаваемому сущему, онтология выступала «раскрытием целокупности чистого познания» – и будучи таким образом включены в икономию когнитивного акта, это уже были новое «когнитивное трансцендирование» и новая «когнитивная онтология».
Какие перемены это несло? Декарт, как мы говорили, придал европейской метафизике новое течение: гносеологизированное, минимизирующее онтологический дискурс и по возможности избегающее его, равно вытесняющее и онтологию, и теологию – «подальше, чтоб не мешали заниматься делом». Немецкая мысль не могла не уступить властному картезианскому импульсу; однако вытеснение онтологии не отвечало ее стойким тенденциям, особенностям ее типа и стиля. В этой логике, «Критика чистого разума» могла бы видеться как реванш онтологизма: полностью воспринимая декартов сдвиг метафизики в когнитивную перспективу, даже углубляя его, она в то же время возвращала центральное положение онтологии, осуществляя ре-онтологизацию метафизики. Однако возвращалась в метафизику онтология уже иного, нового типа; и если учесть ее особенности, реванш окажется весьма сомнителен. Связь «когнитивной онтологии», или же онтологического познания, с опытным, эмпирическим познанием у Канта, мягко говоря, не очень проста, что видно даже из нашего беглого описания. Она носит обоюдный характер, включает в себя различные нити взаимозависимости и соподчинения, и рецепция трансцендентальной философии в дальнейшей истории мысли не раз менялась, относя эту философию, в зависимости от разных обстоятельств, то более к гносеологии, то более к онтологии. Неокантианство было сильным, длительным и хорошо аргументированным уклоном к гносеологической интерпретации; но сразу следом за ним Хайдеггер выдвинул свою радикально онтологизированную трактовку, где взгляд на «Критику чистого разума» как на теорию познания объявлялся «коренным искажением» и утверждалось, что «в “Критике чистого разума” впервые обосновывается онтология как базовый раздел метафизики в целом, и впервые онтология выводится к себе самой»[125 - Ib. S. 25.]. Нас же сейчас не занимает историко-философский аспект как таковой: мы привлекаем историю рецепции лишь с тем, чтобы извлечь из нее – в дополнение к непосредственному прочтению – некий надежный «общий знаменатель» в оценке существа и значения кантовской онтологии. И на этом пути мы заключаем, что в любом случае нельзя не признать: в рамках кантовского дискурса онтологическое познание, онтология не образуют самодовлеющей и самоценной сферы, они встроены в когнитивную перспективу как в объемлющий контекст и доминирующий дискурс. При всей своей гиперболизации онтологических сторон трансцендентальной философии, Хайдеггер вынужден констатировать: «Если онтологическое познание раскрывает горизонт, то его истина заключается в создании возможностей встретить (Begegnenlassen) сущее в этом горизонте. Кант говорит: онтологическое познание имеет лишь “эмпирическое употребление”, т. е. оно служит тому, чтобы делать возможным конечное познание в смысле опыта обнаруживающего себя сущего»[126 - Ib. S. 115.]. Коротко говоря: «когнитивная онтология» – онтология, выполняющая служебную функцию в основоустройстве эмпирического познания.
К этому необходимо добавить другой немаловажный момент: онтология прежняя и традиционная, та онтология, которую Декарт лишь отодвигал, но не вступал в спор с нею, – в свете трансцендентального метода подвергается разоблачению, дезавуируется. Кант утверждает: тезисы и положения этой прежней онтологии имеют порочную внутреннюю структуру, являются суждениями недопустимого, некорректного типа, поскольку «притязают доставлять синтетическое знание априори о вещах вообще» или, иначе говоря, быть онтическим знанием априори, которое доступно лишь «бесконечному существу в едином интеллектуальном созерцании». Понятно, что эта аргументация Канта вместе со старой онтологией дезавуирует и ее элементы у Декарта – его идею Бога и доказательство существования Бога: «Путем метафизики достичь от познания сего мира к понятию Бога и доказательству Его существования путем достоверных (sichere) заключений невозможно»[127 - I.Kant. Kritik der praktischenVernunft. Hamburg, 1963. S. 159. (Курсив Канта).]. Понятно также, что подобная аргументация применима – и Кант применяет ее – не только к онтологии, но и к религиозной сфере. Здесь разоблачению и отрицанию подвергаются коренные явления и формы духовной жизни, что всегда составляли и составляют основу икономии Богообщения и Богопознания. Кант указывает, что на их почве развиваются «антропоморфизм, суеверие и фанатизм», «мнимый опыт сверхчувственных созерцаний или тому подобных ощущений» и т. д. Он, вместе с тем, замечает, что в сфере практического разума, нравственной деятельности человека, его отношения с инобытием, Богом носят иной характер, чем в сфере спекулятивного разума, они расширяются и обогащаются. Но он усиленно подчеркивает, что обретаемое здесь «расширение» или «приращение» разума не расширяет понятийного познания, а ограничивается сугубо обеспечением этических оснований: в нем достигается «достаточное удостоверение реальности тех понятий, что служат для выражения возможности высшего блага, но без того, чтобы в этом приращении осуществлялось хоть малейшее расширение познания о теоретических основоположениях»[128 - Ib. S. 157.]. (К религиозной проблематике у Канта мы еще вернемся не раз, обсуждая его этику, а также черты секуляризованности в его антропологии). В нашем контексте, всю суть кантовской критики религиозной сферы можно свести к отрицанию возможности существования в этой сфере своего особого рода трансцендирования – т. е. того трансцендирования, о котором всегда говорит духовный и мистический опыт, которое принадлежит к глубинной основе этого опыта и которое заведомо и кардинально отлично от «когнитивного трансцендирования», введенного Кантом. – В итоге, позиции трансцендентальной философии таковы, что в согласии с ними, не может существовать ни иного корректного рода онтологии, кроме «когнитивной онтологии», ни иной обоснованной концепции трансцендирования, кроме «когнитивного трансцендирования». И это означает такое тотальное утверждение декартова направления, на какое едва ли когда-нибудь рассчитывал сам Декарт.
Сейчас, прежде перехода к антропологии Канта, нам стоит отметить еще некоторые особенности его эпистемологии, сравнительно с эпистемологией Декарта. (Впрочем, разделительная грань в столь гносеологизированном дискурсе почти условна: ведь конституция когнитивного акта – главная часть конституции познающего субъекта, а та, в свою очередь, – главная часть антропологии). В первую очередь, нам интересна степень близости и преемственности: выдвигая в центр метафизики эпистемологию, парадигму познания, выдвигали ли оба классика, в существенном, ту же парадигму? Общеизвестный ответ гласит: да, в общем и крупном, ту же – а именно, парадигму субъект-объектного познания. Мы, разумеется, согласны, и лишь добавим немногочисленные детали. Не менее общеизвестно, что кантова парадигма познания в дальнейшей рецепции была признана революционной, и ее внедрение именовано «коперниканским переворотом», основание для каковой формулы видели особенно в одном пассаже из предисловия ко второму изданию главной «Критики». В наших терминах, знаменитый пассаж говорит, что познание следует перевести из натуралистической перспективы («познание, организующее себя в соответствии с предметами»), в субъектную перспективу («предметы должны организовываться в соответствии с нашим познанием»). Утверждение революционности Канта в принципе не противоречит тому, что субъект-объектная парадигма введена была уже у Декарта, ибо введение «субъекта познания» еще далеко не равносильно введению субъектной перспективы: субъект может осуществлять познание и в натуралистической перспективе. Но мы хотим заметить, однако, что у Декарта вполне определенно присутствуют существенные элементы именно субъектной перспективы. В Разделе 3 мы специально выделяли их; как лишь один из примеров, напомним характерный тезис из Пятой Медитации: «Прежде рассмотрения, существуют ли вещи вне меня, я должен рассмотреть их идеи, какими они присутствуют в моей мысли». Поэтому родство двух эпистемологии идет глубже, и, в частности, Декарта по праву следовало бы считать соавтором «коперниканского переворота».
Вместе с тем, мы видим и ряд таких элементов когнитивной парадигмы, которые у Декарта еще отсутствуют, либо лишь бегло намечаются. Самый значительный из них – это, разумеется, онтологическое измерение когнитивного акта, главное открытие Канта и конституирующий источник трансцендентального метода. Его мы обсудили уже. Кроме того, лишь у Канта дескрипция когнитивного акта получает полную отчетливость во втором, объектном полюсе этого акта. Если у Декарта полюс объекта не был еще представлен со всей определенностью, то у Канта он выступает даже более отчетливо, чем первый, субъектный полюс: «Все наши представления связаны посредством разума с каким-либо объектом и, поскольку явления суть не что иное как представления, то разум направляется на нечто как предмет чувственного созерцания, но это нечто является вообще предметом созерцания лишь постольку, поскольку оно есть трансцендентальный объект»[129 - Id. Kritik der reinenVernunft. S. 336.]. Заметим тут, что субъектный полюс представляется у двух философов весьма по-разному, но об этом различии, особо важном для нас, речь будет ниже, в антропологической части. Вообще, поскольку вся система понятий трансцендентального метода – тесно связанное единство, то все основные эпистемологические концепты Канта несут печать метода, выступают в трансцендентальном освещении. В частности, значительной трансцендентальной спецификой отмечены понятия созерцания и способности воображения, играющие центральную роль в кантовской эпистемологии. Способность воображения, по Канту, – более узкое понятие, одна из частных разновидностей созерцания, определяемая в «Критике чистого разума» как «способность представлять предмет также и без его наличного присутствия (Gegenwart) в созерцании»[130 - Ib. S. 192.]; в другом тексте аналогичная дефиниция еще отчетливей: «Способность воображения (facultas imaginandi) есть способность созерцания также и без наличного присутствия предмета»[131 - Id. Anthropologic in pragmatischer Hinsicht. Ges. Schriften. Bd. 7. Berlin, 1907. S. 167.]. Кантовская трактовка этой категории познания абсолютно отлична от трактовки Декарта, видевшего в воображении лишь замутняющую помеху для целенаправленного продвижения познающего разума. По Канту, напротив, роль воображения конструктивна и позитивна; он выделяет целый ряд видов этой способности (чистая, продуктивная, репродуктивная и др.), разбирает ее ценные синтезирующие и созидающие (schaffende) возможности и как мы видели, наделяет трансцендентальную способность воображения ключевой функцией в когнитивном акте: функцией, сводящей воедино апперцепцию и созерцание. Характерно, однако, что место, отводимое воображению в общей структуре познавательных способностей, остается при этом неизменным: тем самым, которое некогда для него нашел Аристотель. В «О душе» Стагирит устанавливает тройственный порядок, помещая воображение, ???????? между чувственным восприятием, ???????? и разумным пониманием, ?????? (см. 427b); и этот порядок закрепляется на всю историю мысли. При всех различиях Декарта и Канта, оба классика, следуя за Первым, воспроизводят тройственную эпистемологическую структуру, ставшую универсальной: чувственное восприятие – воображение – апперцепция. Кант именует эту триаду «субъективными источниками познания, на которых базируется возможность опыта вообще».
Что же до созерцания, то система его нагрузок, функций и связей столь обширна, а концептуальная структура столь богата, что есть все основания говорить о присутствии в составе трансцендентальной философии особой «трансцендентальной теории созерцания». Однако для нас нет никаких оснований эту теорию излагать; для нашей темы интересен, пожалуй, всего один ее пункт: ее отношение к зрительной парадигме познания, что даже не с Аристотеля, а с Платона, была магистральным руслом европейской когнитологии, основываясь на оптической аналогии или метафоре, т. е. на представлении деятельности познающего разума по образцу активности зрения. Тут ярко выступают специфические черты кантовского стиля мысли. В контексте философской традиции, позиция Канта отказывается представлять проработку разумом умственного предмета в оптической парадигме, как рассмотрение интеллигибельного предмета, «умное зрение», «интеллектуальное всматривание» и т. д. и т. п. В его терминах, зрительная метафора должна была бы выражаться понятием «интеллектуального созерцания». Он ясно видит всю логику, толкающую к введению этого понятия, не раз подходит к нему вплотную, обсуждает его, признавая, что «нельзя утверждать, что чувственное (Sinnlichkeit) есть единственный возможный вид созерцания»[132 - Id. Kritik der reinenVernunft. S. 341.]… и – и отказывается его вводить. Это, однако, не порождает лакуны в его построениях. Будучи магистральным, русло оптической парадигмы все же никогда не было единственным, ибо, очевидным образом, проработка интеллигибельного предмета может также вестись по иным принципам, в русле аналитики суждений, или же «аналитической философии», в обобщенном смысле. У Канта же все когнитивные функции, которые несло бы «интеллектуальное созерцание», принимает «понятие» или «мышление», «понятийное мышление» и т. п., так что (чистое) познание «состоит из понятия и созерцания» (причем Кант, не подпадая под влияние платоновского учения об идеях, не сближает свое понятие и понятийное мышление с оптической парадигмой). Первой из названных сфер познания занимается, как известно, трансцендентальная логика, второй – трансцендентальная эстетика; вся трансцендентальная философия представляется как сумма сих двух, а мы сегодня заключаем, что от эпистемологии Канта нити ведут к обоим современным направлениям в теории познания, и к феноменологии (лежащей в «оптическом» русле), и к аналитической философии (уже в современном смысле). При этом, можно напомнить, что понятие интеллектуального созерцания, от которого Кант упорно уклонялся, было-таки введено его продолжателями еще при его жизни[133 - Первой попыткой историки признают здесь текст Ф. Гельдерлина «Суждение и бытие» (1795, опубл. 1961; приношу признательность проф. П. Элену (Мюнхен) за указание на эту работу). При этом, у Гельдерлина понятие не только вводится, но и играет решающую роль в трактовке когнитивной проблемы, давая возможность провести идею его «философии объединения» (Vereinigungsphilosophie) об изначальном единстве, в котором снимается противостояние субъекта и объекта (ср.: «В понятии разделения уже заложено понятие взаимной связи субъекта и объекта и необходимое предположение целого, частями которого служат объект и субъект». F. H?lderlin. Urtheil und Seyn // Id. S?mtl. Werke. M?nchen, 1992. Bd. II. S. 50).], вошло в арсенал классического немецкого идеализма и имело содержательную дальнейшую историю. Но нам для понимания кантовских концепций более существенно увидеть причины отказа от понятия: они связаны с сильной апофатической окрашенностью всей кантовской трактовки интеллигибельного предмета, ноумена. Ноумен, он же пресловутая вещь в себе, для Канта не может быть полноценным содержательным понятием: «Понятие ноумена – просто граничное понятие (Grenzbegriff) для того, чтобы ограничить притязания чувственного, и потому имеет лишь негативное употребление. Оно… совпадает с ограничением [области] чувственного, не будучи способно установить нечто положительное, помимо границы (Umfang) этой области»[134 - I. Kant. Kritik der reinen Vernunft. S. 341]. Кант утверждает также, что интеллектуальное созерцание есть род созерцания, доступный лишь бесконечному существу, составляющий Божественную прерогативу; и в свете этого, не лишены известной почвы мнения, согласно которым подчеркнутое выделение Кантом определенных сфер непознаваемого – и, в частности, концепция вещи в себе – несет отпечаток его пиетистской религиозности.
* * *
Не раз уже подчеркнутая нами «антиантропологичность» европейской философии сказывается, в частности, в том, что у Канта, как и ранее у Декарта, мы не найдем антропологии, которая была бы представлена как таковая и собрана воедино, в готовом отдельном виде. Поэтому всякое изложение их антропологии необходимо носит характер реконструкции. В случае Декарта, принципы этой реконструкции были просты и очевидны: мы констатировали, что к декартовой антропологии следует относить три большие темы его учения: концепцию или конституцию субъекта (хотя и не сведенную воедино, но требующую лишь несложного извлечения), теорию «механического тела» и учение о «смешанных», т. е. духовно-телесных явлениях (протопсихологию). Хотя само учение Декарта, по нашей терминологии (см. начало раздела), и не было «философией человека», однако результат соединения этих частей еще сохранял явную антропоморфность и мог рассматриваться как некоторый (пусть и весьма специфический, редуцированный, etc.) образ человека, как «Человек Картезия». В случае же Канта, ситуация куда менее прозрачна. Предмет диктует правила обращения с ним: реконструкция антропологии Канта должна была бы начинаться с вопроса об основаниях и способе реконструкции, кантовского вопроса: «Как возможно?» Однако мы уже знаем – исходя из указаний самого Канта – что попытка реконструкции кантовской антропологии таким ортодоксально трансцендентальным путем равнозначна, на языке Хайдеггера, «обоснованию метафизики в повторении», а в нашей терминологии, выстраиванию особого мета-дискурса над трансцендентальной философией «Критик». Подобное предприятие заведомо не вместимо в наше обозрение европейской антропологической модели, и мы будем вынуждены следовать, в терминах Канта, скорее эмпирическому, чем трансцендентальному методу: рассматривая трансцендентальную философию как внешний предмет, производить дескрипцию его антропологических содержаний, однако и дополнять ее – тем самым, все же поднимаясь над эмпиризмом – анализом природы этих содержаний и их интегрирующим структурированием с новых позиций. Непрозрачность же в том, что кантов дискурс в своих принципах и контурах не имеет уже никакой сообразности человеку, антропоморфности (что, как известно, в Европе считалось философским достоинством), и реконструкция, в известной мере, вынуждена двигаться наугад: в отличие от ситуации с Декартом, мы почти не представляем заранее, каким путем и в какой образ человека сойдутся – да и сойдутся ли? – находимые антропологические элементы.
Нет, однако, сомнения, что главным антропологическим локусом, средоточием антропологического содержания философии Канта служит субъект, и более точно, познающий субъект (именно его мы будем ниже понимать под «субъектом» – пока не пойдет речь о субъекте нравственном). Так было и у Декарта. При общем критическом отношении к предшествующей философии (естественном у мыслителя, стремящегося начать свою философию если и не совсем с чистого листа, как Декарт, но с нового метода), Кант, в целом, принимает исходные позиции его метафизики: «Проблематический идеализм Картезия… разумен и согласуется с обоснованным способом философского мышления»[135 - Ib. S. 303–304.]. Преемственная роль Канта по отношению к Картезию особенно прямо выступает как раз в теме субъекта: развитие концепции субъекта у Канта в ее главных чертах осуществляется в ходе критического анализа соответствующей концепции Декарта и декартовой «Первой истины», тезиса Cogito ergo sum. Как заранее ясно, Кант принимает основу и общее направление открытого Декартом подхода к теории познания: а именно, представление когнитивного акта и процесса в субъектной перспективе; но он расходится с ним в методологическом аспекте, поскольку с позиций трансцендентального метода, мысль Декарта заведомо слишком эмпирична, близка к натуралистическому описанию и недостаточно входит в проблематику оснований познания. Первое, что не раз подчеркивает Кант, – «Я мыслю есть эмпирический тезис», и он дает свою интерпретацию положения Cogito ergo sum, находя в нем иные основания и иную смысловую структуру: «Я мыслю есть эмпирический тезис, и он содержит в себе тезис “Я существую”. Однако я не могу сказать: все, что мыслит, существует… Поэтому мое существование не может быть усмотрено как следствие из тезиса “Я мыслю”, как это утверждает Картезий… но оно тождественно этому тезису… Надо заметить, что когда я называю “Я мыслю” эмпирическим тезисом, я не хочу сказать, что Я в этом тезисе есть эмпирическое представление; скорей, оно чисто интеллектуально, поскольку принадлежит к мышлению вообще»[136 - Ib. S. 439–440.]. В своем критическом пересмотре декартовой концепции субъекта (Я, духа) и его «Первой истины», Кант совершает их «трансцендентальное претворение», трансформацию в трансцендентальный дискурс, и, как мы уже видим, для этой цели им, прежде всего, проводится строгое разнесение, разведение эмпирического и «чистого» горизонтов; аналогичное разведение требуется и для аналитических и синтетических суждений.
Самые существенные отличия концепции субъекта у Канта – не столько в свойствах субъекта как такового, сколько в особенностях его места и роли в трансцендентальной философии. «Трансцендентальное претворение» субъекта само по себе не совершает с ним никаких разительных превращений. Он сохраняет все старые имена: Я, Душа («Я, как мыслящий, есмь предмет внутреннего чувства и называюсь душой»[137 - Ib. S. 421.]), он наделяется субстанцией (как и велит Аристотель, кантова «душа есть субстанция. По своему качеству, простая»[138 - Ib. S. 423.]); что же до новых свойств, то, как любой предмет трансцендентальной философии, он раздваивается на (эмпирическое) явление и (интеллигибельную) вещь в себе, а также приобретает дополнительный аспект «трансцендентального субъекта, который эмпирически нам неведом». Но этот новый аспект не играет особенно активной роли. Главное в другом: через посредство субъекта, как мыслящего и познающего агента, определяются и вводятся в аналитику когнитивного акта все понятия и категории этой аналитики. Разумеется, иначе и быть не может; подобная функция субъекта – никак не специфика трансцендентальной философии. Однако специфика, и самая заметная, – в том, какую роль играет ансамбль этих понятий и категорий, сравнительно с ролью самого субъекта.
«Человеческий разум по своей природе архитектоничен, т. е. он рассматривает все знания как принадлежащие к некой возможной системе»[139 - Ib. S. 518.]. Мы не сказали бы, что этот тезис Канта бесспорен; но никак нельзя сомневаться в том, что он полностью верен относительно самого философа. Разум Канта в высшей степени, гипертрофированно архитектоничен, и все его «Критики» – бесконечная цепь демонстраций того, как любое понятие может стать поводом и плацдармом для выстраивания очередного комплекса понятий, очередной таблицы, топики, систематики… – причем эти комплексы отнюдь не рядополагаются в простую линию, в список, но, в свою очередь, образуют комплексы комплексов, стройные многомерные конструкции, подлинную архитектуру понятий: Кант мастер в выборе терминов. Мы уже могли видеть образчик этой архитектуры в представленной выше схеме конструкции чистого познания: каждая из ступеней этой конструкции означает появление новой понятийной системы, введение новых методологических и эвристических принципов. Будучи связаны многообразными отношениями, категории и понятия, образующие эту архитектонику чистого разума, составляют между собой sui generis сообщество, республику категорий. Но вот что здесь для нас важно: в этом многообразии связей, определяющих строение и функционирование сообщества категорий – а тем самым и конституцию познания – связь с субъектом, как правило, уже не играет никакой роли! Субъект послужил некогда средством введения категорий. Это не отрицается и не забывается, однако оказывается на поверку третьестепенным: в возникшей архитектонике познания, категории выступают не как отнесенные к субъекту, но всего лишь как принесенные им; и это формальное происхождение, общее для всех категорий, совершенно не существенно для тех реальных и очень разных функций, какие они несут в познании. De facto, кантовская конституция чистого познания – аналитика и архитектоника самодовлеющего сообщества категорий.
Все это означает, что в кантовой конституции познания совершается низложение, низведение субъекта: он перестает быть конституирующим принципом этой конституции и не является производящим началом дискурса трансцендентальной философии. Для того же, чем он становится здесь, Кант, мастер терминологии, в очередной раз находит отличный термин – транспортное или перевозочное средство (Vehikel)[140 - В качестве продолжения старой темы «Кант и черт» в русской мысли (недавнее ее резюме см. в статье А.В. Ахутина «София и черт», вошедшей в его книгу «Поворотные времена», СПб., 2005), напомним, что в знаменитом русском романе описано превращение субъекта – управдома Николая Ивановича – именно в «перевозочное средство», с выдачею и справки о том. При этом, указанное превращение совершается дьявольскими силами и входит в организацию бала сатаны – аналогом коего и оказывается, таким образом, конституция чистого познания у Канта.]: «Понятие или, если угодно, суждение: Я мыслю… есть транспортное средство вообще всех понятий, в том числе, и трансцендентальных… Тезис: Я мыслю… содержит форму вообще всякого суждения разума и сопровождает все категории как их транспортное средство»[141 - I. Kant. Op. cit.S. 420, 426.]. Кант показывает и механизм этой транспортной функции субъекта: «Я мыслю… [есть] положение, выражающее восприятие своей самости (selbst)… Это внутреннее восприятие есть не более чем простая апперцепция: Я мыслю, которая делает возможными даже и все трансцендентальные понятия, в которых она именуется (heifit): Я мыслю субстанцию, причину и т. д.»[142 - Ib. S. 421.]. Еще полней данный механизм раскрывает Хайдеггер, комментируя это место Канта: «Однако Я мыслю всегда уже есть “Я мыслю субстанцию”, “Я мыслю причинность”, и соответственно, “в” этих чистых единицах (категориях) оно уже “именуется”: “Я мыслю субстанцию”, “Я мыслю причинность” и т. д. Я есть “транспортное средство” категорий, поскольку оно в своем продвигающемся обращении-к (Sich-Zuwenden-zu)… выводит их туда, откуда они как упорядочивающие представляемые единицы (Einheiten) могут осуществлять единение (einigen). Т. о., чистый разум есть “из себя” представляющее предобразование (Vorbilden) горизонта единства»[143 - M. Heidegger. Op. cit. S. 138.].
Итак, в трансцендентальной философии конституция (чистого) познания переходит из субъектно-центрированной организации, какую она имела у Декарта, в форму систематики самодовлеющего сообщества категорий, трансцендентальных предикатов. Обоснование этой глубокой структурной перестройки у Канта (а следом, и у Хайдеггера) оставляет, в целом, впечатление, что за нею лежат как предметные аргументы (в частности, достаточно основательная критика внутреннего опыта как источника чистого познания), так все же и субъективные мотивы, гипертрофированная «архитектоничность» кантова разума, рождающая тягу к трудноостановимому умножению концептуальных схем и конструкций. Данная перестройка несет и немалые антропологические последствия. Как мы говорили в Разделе 3, уже и организация философии вокруг фигуры субъекта, в корне не совпадающего с человеком, питает антиантропологические тенденции. А когда даже и такая фигура удаляется «на конюшню», и философия превращается в дискурс с бесфигурным типом организации – совершается крупный дальнейший шаг по пути де-антропологизации, расчеловечения философской речи.
Стоит рассмотреть ближе род и степень этого расчеловечения или, иными словами, охарактеризовать способ отсутствия (разъятия, разложения) субъекта в трансцендентальной философии. Предельной степенью является анатомическое разъятие, но как легко видеть, у Канта еще не достигается этой степени. Категории чистого познания суть (трансцендентальные) предикаты и как таковые, они характеризуют деятельного, а не умерщвленного субъекта. Это подсказывает другую метафору, другой род разъятия: папка доносов, досье, либо научный дневник наблюдений за подопытным существом – т. е. собрание отчетов о действиях субъекта. Но здесь степень отсутствия, разъятия оказывается, наоборот, недостаточна: если из доносов или научных наблюдений возможно, в принципе, сложить полную картину деятельности субъекта, его «портрет» в деятельностном измерении, то в «папках» трансцендентальной философии находятся не сами действия, а их всяческие проекции, отражения: действия под углом трансцендентальной аналитики или диалектики, паралогизмов, антиномий или идеалов и т. д. и т. п. Сложить из таких отражений фигуру деятельного субъекта – не говоря уж о человеке – невозможно. Если же уточнить этот вывод, он в точности совпадает со сказанным выше: «сложить фигуру человека», т. е. ответить на вопрос «Что такое человек?» в трансцендентальной философии возможно лишь путем выстраивания над этой философией некоторого мета-дискурса.
Однако присутствие человека в философии Канта не ограничивается присутствием-отсутствием познающего субъекта в когнитивной перспективе чистого разума. Безусловно, эта перспектива – средоточие мысли Канта, ее ядро, из которого поверяются все другие разделы его философии; и потому находимое здесь антропологическое содержание надо считать главной и определяющей частью антропологии Канта. Именно оно определяет характер того, что же за «весть о человеке» являет собой кантовский этап Европейской Антропологической Модели. Однако в других разделах кантовой философии – прежде всего, в его этике – речь о человеке бывает даже более явной и более развернутой; и поскольку здесь она более проста, облечена в более доходчивую форму, то эти другие части антропологии Канта, хотя, в конечном счете, и не могли быть решающими для судеб модели, но были известны шире и пользовались большим влиянием.
Если бы мы только что не рассмотрели архитектонику чистого разума, то, разумеется, ожидали бы, что сфера практического разума, т. е. нравственных действий человека, организуется вокруг фигуры протагониста сферы, совершителя этих действий: нравственного субъекта. Мы его, действительно, здесь находим: «Человек есть субъект нравственного закона»[144 - I. Kant. Kritik der praktischen Vernunft. S. 151.], – пишет Кант; но этот тезис обнаруживается лишь в заключительных разделах «Критики практического разума» и никак не представляет собой ведущего принципа, который определяет способ раскрытия предмета. Способ раскрытия оказывается совсем иным, отнюдь не организованным вокруг фигуры нравственного субъекта, и в этом нет ничего странного или удивительного. Зрелое и окончательное изложение этической концепции Канта появилось в форме второй из его «Критик» в том же 1787 г., что и окончательная вторая редакция «Критики чистого разума». Мы видели, какова участь субъекта в этой главной «Критике», где он был «познающим субъектом», и понимаем, что нет никаких причин, в силу которых нравственный субъект во второй «Критике» мог бы получить какую-либо принципиальную иную участь. Как заранее ясно, мы находим здесь тот же новоизобретенный философский метод: трансцендентальный метод, и ту же постановку проблемы: в форме вопроса об основаниях. В «Критике чистого разума», как мы говорили, Кант отправлялся от обычного, «школьного» представления своего времени о предмете – вскрывал отсутствие в этом представлении рефлексии оснований предмета – и развертывал самое фундаментальное решение проблемы оснований, дополняя дескрипцию предмета новым обосновывающим горизонтом (горизонтом онтологического познания) – так что в этом горизонте, за счет него, и вся картина предмета представлялась совершенно по-новому, в новых координатах, новой систематике и архитектонике понятий. В общем и целом, исследование нравственной сферы у Канта развивается в аналогичной логике.
Роль отправной «школьной» трактовки предмета исполняет общий каркас традиционной этики, эмпирически ориентированной и в общих понятиях, установках восходящей к Аристотелю (ср. краткое обсуждение его этики в Разделе 1). Кантова аналитика этого предметного поля, устанавливая в нем начальные дефиниции и взаимосвязи, выявляет ограничения, налагаемые эмпирической природой его принципов и положений. Кант квалифицирует эти принципы как «материальные» («Я понимаю под материей способности желания тот предмет, реальность которого является желанной»[145 - Ib. S. 23.]) и показывает их недостаточность для получения всеобщих законов. «Все материальные практические принципы как таковые суть одного и того же рода и подпадают под общий принцип любви к себе (Selbstliebe) или собственного блаженства (Gl?ckseligkeit)… практические предписания, которые на нем [принципе любви к себе] основаны, никогда не могут быть всеобщими»[146 - Ib. S. 24, 29–30.]. Но одновременно усматривается и способ продвижения в нужном направлении: «субъективные максимы» могут мыслиться как практические всеобщие законы для воли всякого разумного существа, если они будут рассматриваться «как такие принципы, которые в качестве определяющей основы воления содержат не материю, а лишь одну форму»[147 - Ib. S. 31.]. С этим направляющим указанием, как на средних стадиях конституции чистого познания, начинает формироваться фонд опорных понятий и установок, имеющих в той или иной мере уже отличную природу, способных служить для построения обосновывающего горизонта. Весьма быстро, единой взаимосвязанной группой, здесь возникают центральные концепты кантовской этики: свобода, долг, безусловный «нравственный закон» (он же «категорический императив» и «всеобщий практический закон, который дает человеку чистый разум»); затем к ним постепенно присоединяются «внемлющее почитание» (кантова Achtung, несомненно, есть предикат, включающий в себя «внимать»[148 - Трактовка предиката Achtung у Канта весьма любопытна, и представляло бы интерес отдельно рассмотреть ее антропологическое содержание. Хайдеггер находит, в частности, что кантово «почитание конституирует сущность личности как нравственное Я (Selbst)… оно должно представлять собой некоторый род самосознания». (М. Heidegger. Op. cit. S. 143).]), «человечность» (Menschheit) и «личность» (Pers?nlichkeit) в человеке, принцип «человек есть цель в себе». Излишне напоминать определения и свойства элементов этого фонда, но существенно подчеркнуть их статус. На центральных стадиях конституции чистого познания, ключевые концепты этой конституции первоначально возникали (см. выше) как «предположительно существующее», как то, что пока лишь должно составить содержание конституируемого обосновывающего горизонта. Точно такой же характер первоначально носят и ключевые концепты нравственной сферы; изменяется лишь характер или окраска долженствования: в сфере практического разума, оно также становится из логического практическим, нравственным. Философ констатирует: есть безусловная практическая необходимость в том, чтобы свобода, долг, нравственный закон были объективной реальностью. Они суть именно, что требуется обосновать. Остается доставить само обоснование.
По классической диалектике основы, обосновывающие начала должны быть независимы по отношению к обосновываемой сфере, должны иметь иную природу. В области чистого познания, обоснованием гносеологического акта выступает онтологическое (трансцендентальное) познание; вольно выражаясь, Кант открыл, что обосновывающие начала для гносеологии доставляет онтология. Описанный ход конституции нравственной сферы, с его постоянною параллелью конституции познания, уже предвещает, что же произойдет на заключительной и решающей стадии этой конституции: мы должны убедиться, что обосновывающим началом для нравственной сферы выступает «практическая онтология»: религия. Именно эту задачу и выполняет «диалектика чистого практического разума», последний раздел в главной части второй «Критики».
Выполнение задачи происходит классическим кантовским образом: вводится завершающее и верховное понятие всего этического дискурса, «высшее благо» (игравшее эту роль уже в античности и трактуемое у Канта как «безусловная полнота (Totalitat) предмета чистого практического разума», «заданный априори объект нравственно определенного воления») – после чего ставится вопрос: Как высшее благо практически возможно? Коль скоро высшее благо объединяет весь «предмет чистого практического разума» и есть притом «не просто объект, а и его понятие», то к нему сходятся все нити и к нему возводятся все понятия; и в силу этого, поставленный вопрос является исчерпывающим вопросом об основаниях нравственной сферы в целом. Развертывание этого финального вопрошания и выводит в религиозное измерение: «Нравственный закон путем понятия высшего блага как объекта и конечной цели чистого практического разума ведет к религии, т. е. к познанию всякого долга как божественного веления (Gebot), не как санкции, т. е. произвольного и для себя самого случайного подчинения чужой воле, но как сущностного закона каждого свободного воления самого по себе, который, однако, должен рассматриваться как веление высшего существа»[149 - I. Kant. Op. cit. S. 148–149.]. Конкретный же механизм подведения религиозной базы заключается в принятии постулатов чистого практического разума. Именно они делают «практически возможным» высшее благо; а каковы их содержание и природа, лучше всего излагает сам Кант: «Эти постулаты являются не теоретическими догматами, а предположениями, необходимыми в практическом отношении, так что они не расширяют спекулятивного познания, но придают объективную реальность идеям спекулятивного разума во всеобщем (благодаря своей связи с практическим)… Эти постулаты суть бессмертие, свобода, рассматриваемая положительно (как причинность некоего существа, поскольку оно принадлежит интеллигибельному миру) и существование Бога. Первый вытекает из практически необходимого условия соизмерения продолжительности с полнотой исполнения нравственного закона; второй – из необходимой предпосылки независимости от чувственного мира и способности определять свою волю по законам интеллигибельного мира, т. е. свободы; третий – из необходимости условия такого интеллигибельного мира быть высшим благом, для чего надо предположить высшее самодовлеющее благо, т. е. существование Бога»[150 - Ib. S. 152. (Курсив Канта).]. Смысл этой операции постулирования вполне очевиден: Кант говорит, что нравственное осмысление реальности должно предположить возможность высшего блага (Постулат 3), а, следовательно, также и его природные условия (Постулат 1) и метафизические условия (Постулат 2). Связь же с нравственным законом, стоящим также в вершине этического дискурса, Кант характеризует так: «Идеи Бога и бессмертия являются не условиями нравственного закона, но только условиями [существования] необходимого объекта для воления, определяемого этим законом»[151 - Ib. S. 4.].
Конституция нравственной сферы на этом обретает законченность. Что же касается религиозной сферы, введенной в качестве обосновывающего принципа, то она в заключительной части конституции получает содержательное, хотя и очень беглое описание. Возникают понятия святости, благоговения, разумной веры, – даже «Царствия Божия» (отождествляемого с интеллигибельным миром), вводятся некоторые предикаты Бога. Не менее существенны и негативные суждения в этой сфере, т. е. указания на то, чего в ней нет, чем она не может и не должна быть. У Канта их целый ряд, и наиболее существенны три. Во-первых, это уже затронутое выше отграничение от сферы (чистого) познания, которое повторяется не раз: Кант усиленно подчеркивает, что для спекулятивного разума религиозные понятия и идеи «теоретически проблематичны», остаются всегда лишь «трансцендентными и регулятивными» и не доставляют никакого расширения познания. Во-вторых, это полное отрицание традиционного направления «естественной теологии», делающей богословские выводы из рассмотрения устройства и явлений физического мира. И наконец, что особенно для нас важно, это также отрицание всей сферы мистического опыта и шире, аутентично религиозного опыта, не сводимого к нравственному и способного доставлять подлинное, хотя бы и глубоко специфическое, Богопознание и Богообщение. Вкупе, эти отмежевания влекут четкий вывод: единственная сфера и единственное оправданное назначение религии – обоснование этики.
Возникающая трактовка религии опять-таки имеет близкую параллель в сфере чистого познания. В этой сфере весьма аналогичную трактовку получала онтология (и в известной мере, концепция трансцендирования): она также привлекалась в качестве обосновывающего принципа – тем самым, вбиралась в основоустройство соответствующей (когнитивной) сферы – и в заключение, Кант доказывал, что принимаемая ею там форма «когнитивной онтологии» есть единственная корректная и правомочная онтология вообще. Точно таким же образом, кантова этика поглощает религию, редуцируя ее к исполнению обосновывающей функции в своем составе. При этом этический субъект всецело поглощает религиозного, и понятие Бога делается чисто моральным понятием. Ход построений Канта неумолим и не делает исключений: говоря современным сленгом, во второй «Критике» Кант употребляет религию, как в первой он употребил онтологию, трансцендирование и субъекта. С еще большею резкостью это редуцирующее употребление проводится в «Религии в границах только разума», где, в частности, мы найдем общий категорический тезис: «Как положение, не требующее доказательства, я принимаю следующее: все, что, как полагают, человек может сделать угодного Богу, помимо доброго жизненного пути, есть пустое религиозное заблуждение и мнимое служение Богу»[152 - Id. Die Religion innerhalb der Grenzen der blo?en Vernunft. Ges. Schriften. Bd. 6. Berlin 1907. S. 170.]. Однако не безразлично и то, к какой именно служебной функции редуцируется религия. Редуцирующим, сводящим к служебной функции мы нашли и учение о Боге у Декарта (см. Раздел 3), но если у Канта Бог необходим как гарант безусловности нравственного закона, то у Декарта – как гарант безусловности законов и истинности результатов познания. И мы видим, что сдвиг служебной функции из когнитивной сферы в нравственную существенно меняет окраску отношения к Богу, тип религиозности. Тексты двух классиков ясно показывают: если «Бог как гарант познания» – позиция деизма, стремящаяся максимально дистанцировать Бога, то «Бог как гарант нравственности» – позиция пиетизма, способная включать в себя искреннее благочестие и благоговение.
Из других особенностей описанной конституции стоит отметить ее очень высокую постулативность, перегруженность «предположениями, необходимыми в практическом отношении». Подобный характер у Канта носят не только положения, прямо названные постулатами, но, на поверку, и многие другие, например, следующий важный тезис: «Человеческая природа определена стремиться к высшему благу»[153 - Id. Kritik der praktischenVernunft. S. 168.]. По сегодняшнему опыту человека, его знанию о себе, этот тезис уже и не просто утопичен, скорее он лунатичен и смехотворен. Поэтому постулативность кантовой этики, влекущая постулативность и его антропологии, требует внимательного взгляда. Такой взгляд дает поучительные выводы. Первые возникающие впечатления – совсем не философского рода: мы различаем внутренние пружины, пафос, питающий и направляющий мысль Канта, – и мы не можем не воскликнуть: какой редкий, чудесный человек! Как за каждой строкой Декарта сквозит неукротимое стремление к ясному и достоверному знанию, так за строками второй «Критики» проступает нравственный пафос, непоколебимая нравственная основаличности самой высокой пробы. Нравственное основание человека и бытия для Канта – последняя и высшая достоверность, и все его постулаты, явные и неявные, суть выражения этой внутренней, «практической» достоверности. Вся же вторая «Критика» – истовая служба Нравственному Закону. Однако философ Кант, увы, отличный от Канта – нравственного субъекта, учит нас ставить вопросы, и мы не можем здесь не спросить: Но как же возможны вместе «достоверность» и «лунатичность»? И в свете этого вопроса, следом за поучительным личным аспектом, открывается не менее поучительный исторический аспект.
Сегодня этике Канта два столетия с лишком. Ровно половину этого срока назад, исследователь и издатель Канта Карл Форлендер писал в предисловии к новому изданию второй «Критики»: «Кант стал поистине Ньютоном этики. Он дал морали то, что дал математическому естествознанию автор “Philosophiae naturalis principia mathematica”: такие методические основания, которые лишь одни обещают долговечность и хотя в деталях допускают усовершенствование, но в последних основах не могут быть ни разрушены, ни заменены. Наше время признало это даже в более высокой степени, чем современники философа»[154 - К. Vorlander. Einleitung //I. Kant. Op. cit. S. XLI.]. Мы бы несколько умерили данную здесь оценку кантовых свершений: этика Канта все же явно не обладала ни таким размахом и новизной, ни такой окончательной неоспоримостью своих оснований, как физика Ньютона. Ее зависимость от предшествующих концепций куда более значительна, и в своем общем типе она остается традиционной эссенциалистской и аристотелианской этикой, телеологичной и нормативной. Но в целом, конечно, слова Форлендера – справедливый баланс исторического пути этой этики за первый век ее жизни. Баланс за следующий век оказался диаметрально противоположным. Сегодня мы едва ли можем считать трансцендентально-религиозные основания кантовой этики более «нерушимыми», чем, скажем, основания этики предустановленной гармонии Лейбница-Панглоса: разрушены и те, и другие целиком. Тем самым, наш вопрос получает ответ, отсылающий к истории: в течение второго века своей жизни, кантовы постулаты стали из «достоверных» – «лунатичными». Но это, разумеется, не весь ответ. Отсюда следует, что сама достоверность постулатов была отнюдь не той, которую утверждал Кант: не абсолютной, а лишь относительной, историчной. Основания кантовой этики (как, впрочем, и всех этик в традиционном русле) оказались несостоятельны в том качестве, на которое они притязали: в качестве оснований нравственных свойств и поведения человека как такового, в его предполагавшейся вневременной сущности и безотносительно к эпохам его истории. И ясно, что истоки этой несостоятельности лежат уже не в этической сфере: они заключаются в некой не ожидавшейся радикальной изменчивости человека, некой антропологической динамике, само существование которой противоречит основам традиционных представлений о человеке, – и для своего понимания они требуют выхода в более широкий антропологический контекст, требуют новой фронтальной постановки проблемы человека.
Подобный выход мы попытаемся наметить в заключительной части этой главы. Сейчас же следует довершить наше обозрение антропологии Канта и прежде всего, характеристику нравственного субъекта, о котором еще надо сказать несколько слов. Поставив религию на службу собственной цели, нравственный субъект чрезвычайно вырастает в своем положении и значении; утверждается безусловный примат этического дискурса в системе ценностей. «Нравственный закон свят»[155 - I. Kant. Op. cit.S. 102.], и человек как существо, свободно следующее этому закону, обладает неотчуждаемым достоинством. Существует «нравственная ценность личности, а не только действий» человека, «человечность» (Menschheit) в личности человека следует почитать и беречь… – и вкупе это все значит, что религиозное обоснование этики оказывается далее у Канта обоснованием гуманистического дискурса ценности и достоинства человека. Этот гуманизм Канта – заметная черта его этики и антропологии, причем он утверждается в умеренном, взвешенном варианте, где нет ни крайностей гуманистической риторики Ренессанса с ее богоборческими нотами и непомерным возвеличением человека, ни антиклерикальных мотивов, обычно присущих гуманизму Просвещения, как и вообще большинству видов секуляризованного гуманистического дискурса. С другой стороны, он все же не может быть отнесен к руслу «христианского гуманизма»: при всей расплывчатости этого термина, он, тем не менее, определенно предполагает самостоятельное место и значение религиозной сферы; и отрицание собственных целей и задач этой сферы, не сводимых к этике, твердо свидетельствует, что кантовский гуманизм носит секуляризованный характер.
Дальнейшим развитием гуманистической тематики служит тема о положении человека в мироздании, в природе, выводящая, в свою очередь, к теме культуры. Как известно, концепт природы – предмет особой разработки у Канта, которая основывается на старом аристотелианском принципе тотального телеологизма (и потому развивается в разделе «Критика телеологической способности суждения» в третьей «Критике»). Поскольку же кантов человек, будучи взят как вещь для себя, явление, есть «природное существо», то данная разработка включает важные антропологические аспекты, служащие необходимым дополнением к речи о человеке как «разумном существе» в двух первых «Критиках». В силу телеологического принципа, природа есть «телеологическая система», в которую и входит человек как природное существо. Соответственно, проблема «Человек и природа» принимает форму вопроса: Какова конечная цель природы в отношении человека? Кант обнаруживает здесь альтернативу: искомая цель может относиться либо к человеку и человечеству самим по себе, взятым отдельно и изолированно, вне отношений как с внешней, так и внутренней природой, – либо же человеку и человечеству, взятым во взаимосвязи, взаимодействии с природой. Как находит философ, единственной мыслимою целью первого рода является счастье человека, когда он достигает своего удовлетворения при благорасположении природы. Цель же второго рода означает, по Канту, полную сообразованность человека с природой, «пригодность и приспособленность к любым разнообразным целям, для которых природа (внешняя и внутренняя) могла бы употребляться человеком»[156 - Id. Kritik der Urteilskraft. Stuttgart, 1991. S. 426.]. Кант делает решительный выбор в пользу второй возможности, с которой он связывает понятие культуры.
«Выработка приспособленности разумного существа вообще для произвольных целей (как следствие его свободы) есть культура. Только культура может быть конечной целью, которую есть основание приписать природе в отношении человеческого рода (а не его собственное счастье на земле или попросту [участь] быть совершеннейшим орудием, создавать порядок и освещенность внеразумной природы вне него)»[157 - Ib. S. 429. (Курсив Канта).]. Без последней части этого тезиса можно было бы решить, что концепция культуры у Канта означает, в первую очередь, техническую и умственную универсальность человека, которая обеспечивает полноту владения обстановкой, способность выполнения любых встающих задач. Несомненно, этот аспект универсальности – универсальной сообразительности, мастеровитости, орудийности – присутствует в кантовском понятии; далее он находит развитие, напр., в идее, которую можно назвать экологической: Кант утверждает, что в деятельности человека «устанавливается известное равновесие между производящими и разрушительными силами природы». Однако последнею частью тезиса Кант подчеркивает, что в сферу культуры входят и отношения с внутренней природой, «натурой» человека. Более того, мысль Канта ориентирована гораздо более гуманитарно, чем мысль Декарта, и в его разработке концепции на первый план выступают именно «внутренние» аспекты.
Кант говорит о культуре нравственного чувства, вкуса, эстетических суждений, развивает идеи окультуривания, культивации способностей и наклонностей человека, нравственных свойств и прочих сторон его натуры. Он также утверждает необходимость «развития человечности», т. е. постепенного «преодоления склонностей, которые больше принадлежат звериному в нас и сильнее всего противятся образованию, движущему нас к нашему высшему определению»[158 - Ib. S. 432.]. Поскольку же высшее определение человека – следование нравственному закону, то эта концепция культуры (родственная и преемственная античному идеалу «пайдейи») также оказывается в связи с нравственным законом, ставится в подчинение ему – чем вновь подтверждается и закрепляется примат этического дискурса. По логике, которую мы уже прослеживали, укорененность в высших, нравственных началах есть основание для высшего положения в окружающей реальности: так возникает антропоцентрическое решение проблемы положения человека в космосе. При этом, поскольку познание и разум также, конечно, входят в систему ценностей, а в культуре участвуют и познающий субъект, и нравственный субъект, то, по сути, именно субъект культуры (хотя Кант и не вводит такого особого понятия) оказывается вершиною мироздания. «Как единственное существо на земле, чей разум наделен способностью ставить себе цель по своему произволу, он [человек] есть титулованный господин природы[159 - Ib. S. 428.]… человек есть конечная цель творения… которой телеологически подчинена вся природа в целом»[160 - Ib. S. 435, 436.]. Как видим, гуманизм Канта получает здесь заметное углубление, дополняясь достаточно радикальным антропоцентризмом (при сохранении примата этического дискурса).
Своею подавляющей частью все антропологические содержания философии Канта принадлежат двум рассмотренным нами областям: аналитике познающего субъекта и аналитике нравственного субъекта (которые строятся, как мы видели, почти целиком без самих субъектов, в форме систематики предикатов). Поэтому не затронутыми у нас остались лишь несколько пунктов, которые относятся к беглому появлению на страницах Канта еще нескольких субъектов или точнее, элементов еще нескольких бесфигурных, однако субъектных аналитик. Так, в третьей «Критике» и в текстах помимо «Критик» можно найти элементы аналитики социального и политического, в меньшей мере – хозяйственного и правового субъектов. Некоторые из них – как, скажем, кантовские идеи войны и мира, понятие гражданского общества – имели заметное влияние в идейной истории Европы; однако все это, в основном, уже уводит нас в сторону от антропологии. Стоит только упомянуть кантовское понятие «гражданина мира» (Weltb?rger), как заключающее в себе, в принципе, антропологически существенную потенцию размыкания сознания индивида во всечеловеческую интерсубъективность. Однако в данном направлении это понятие у Канта не развивается.
* * *
Дальнейшая задача состоит в том, чтобы увидеть представленный опыт антропологии в контексте «европейской антропологической модели», как ее очередной этап. В нашей реконструкции этой модели, ее идейный каркас составляют «пять портретных черт», которые сейчас вновь следует напомнить: индивидуированность – дуалистичность – субстанциальность – гносеологичность – секуляризованность. Необходимо проследить судьбу каждой из этих черт в антропологии Канта, понять, сохраняется ли она и какой принимает вид. Встают и более общие вопросы: как изменяются взаимосвязи базовых черт, их относительная роль, важность? Можно ли по-прежнему считать их ансамбль основой, каркасом антропологической модели – или же каркас трансформируется, утрачивая одни черты и приобретая взамен новые? Наконец, приступая к ответам, мы сталкиваемся с еще более общим обстоятельством: независимо от судьбы конкретных черт, имеет место существенное изменение самого типа антропологии – подхода к человеку, способа представления человека. Более точно, мы имеем в виду изменение подхода не к человеку, а к субъекту, поскольку уже в антропологии Декарта непосредственным предметом стал, вместо человека, субъект. На этом этапе из антропологии исчез целостный подход к человеку, речь о человеке-в-целом, и мы отразили этот факт терминологически, приняв, что антропология Декарта обладает качеством «антиантропологичности» и не является «философией человека». Кант делает следующий крупный шаг по пути структурной деантропологизации, убирая фигуру субъекта из центра на задворки и придавая дискурсу структуру систематики самоорганизующегося сообщества предикатов. Этот шаг также влечет терминологические последствия: для дискурса с таким бесфигурным типом организации становится непригоден, неправилен термин «модель человека». В самом деле, всякая полноценная модель – действующая модель: такое представление предмета, которое, будучи упрощенным, неполным и т. п., в то же время сохраняет и представляет наглядно (в чем и смысл моделирования) главные принципы и ведущие элементы устройства предмета, причем в их собранности, в действии. Ум Декарта, в отличие от ума Канта, не столько архитектоничный, сколько именно моделирующий ум; и хотя в его антропологии отсутствовал человек-в-целом, но представление человека, тем не менее, было еще моделью: обозримой совокупностью элементов, показываемых в действии, – субъекта, живущего тела и явлений их сопряжения. Однако концептуальная архитектура Канта – не модельное представление; и кантовский этап европейской антропологической модели – уже не модель, а только антропология.
При обсуждении декартова этапа мы не раз подчеркивали ключевую роль свойства индивидуированности во всем идейном каркасе модели. Оно принципиально не может утратить эту роль, какие бы перипетии ни проходила модель; ибо именно к нему, к его воплощению, и направлялось создание модели, в нем ее цель и, если угодно, дефиниция: путь европейской антропологической мысли есть путь к индивиду, и затем – путь индивида. Однако на кантовском этапе обеспечение этого свойства уже не требовало новых значительных разработок. Конкретным выражение его в антропологическом дискурсе служит присутствие «предела индивидуации», «самодовлеющей мыследействующей единицы», и организация дискурса в перспективе, определяемой этим пределом. При этом, было бы естественно именовать предел индивидуации – индивидом; но, поскольку в учении Декарта этот предел есть Res cogitans, отсеченный от Res externa, от тела, то мы, сохранив для «мыслящей вещи» имя «(познающий) субъект», определили индивида как «мыслящую вещь» в сопряжении с телом (что и отвечало декартовой концепции человека, «человеку Картезия»). Как мы видели выше, в главных основаниях Кант воспринимает декартову концепцию субъекта (хотя в ряде пунктов активно критикует ее, как обычно критикуют прямых предшественников). Отсюда следует, что и свойство индивидуированности сохраняет у него, в главных чертах, тот же смысл и статус. Удаление фигуры субъекта делает это свойство более имплицитным, однако не изменяет ключевых факторов, составляющих его выражение: конституция чистого познания в форме сообщества предикатов, хотя и не организуется «вокруг фигуры» субъекта, но тем не менее образует субъектную перспективу, а субъект, будь то на первом плане или нет, но присутствует в дискурсе и понимается, безусловно, как предел индивидуации. Больше того, поскольку дихотомия Res cogitans – Res extensa Кантом не принимается (к чему мы вскоре еще вернемся), то исчезает и почва для малоестественного различения между «пределом индивидуации» и индивидом: мы можем считать, что в антропологии Канта понятия «субъект», «индивид» и «предел индивидуации» совпадают между собой.
Следуя в общем русле, открытом мыслью Картезия, Кант поправляет, сглаживает его пионерские лобовые решения, методологически совершенствует их – нередко, весьма принципиально. Одну из главных таких коррекций мы встречаем в свойстве дуалистичности. Это свойство характерно для кантовой философии никак не менее, чем для учения Декарта, однако у Канта оно принимает иные формы. Инициировав и последовательно производя перевод философского дискурса в эпистемологический, когнитивный план, Декарт, однако, не проявил достаточной последовательности, строя свое дихотомическое членение реальности: дихотомия Res cogitans – Res extensa утверждается им не в перспективе чистого познания, но в качестве, с одной стороны, эмпирического тезиса (одного из результатов когнитивного Первоакта), а с другой стороны, догматического принципа в духе школьного аристотелизма, отвергаемого им же самим. Попытка проводить это натуралистическое и догматическое понимание дихотомии порождали цепь трудностей и несообразностей, сделав ее, как мы цитировали, «больным местом картезианства» (Вл. Соловьев). Кант заново пересматривает многострадальный Первоакт, на новых методологических основаниях. В призме трансцендентального метода, декартовская дихотомия Res cogitans – Res extensa исчезает, и на месте ее появляется новая дихотомия, уже соответствующая перспективе чистого познания. Эта фундаментальная дихотомия когнитивной перспективы имеет ряд выражений: ее полюсы соотносятся как сфера (чувственного) опыта и сфера (чистого) разума, как уровни эмпирического и чистого познания, как чувственный и интеллигибельный мир. В последнем случае надо иметь в виду, что Кант, как и Декарт, вовсе не склонен возвращаться на почву платонизма, и оба мира рассматриваются именно помещенными в когнитивную перспективу, как ее составные части. Чувственный мир – не просто мир вещей в пространстве, а мир вещей, доступных чувственному восприятию познающего субъекта, мир, низшей ступени познания: равно как интеллигибельный мир – не мир идей, а мир вещей, доступных чистому разуму того же субъекта, мир высшей ступени познания. Стоит отметить, однако, что, поскольку онтология у Канта также гносеологизируется, то описанная дихотомия является не только гносеологической, но и онтологической, в смысле кантовой «когнитивной онтологии».
В своей новой трансцендентальной форме, дуалистичность становится не столь значима для антропологии. Она делается принадлежностью конституции познания и уже не служит, как у Декарта, непосредственным свойством сущностной структуры, основоустройства человека как такового. Подобная перемена явно к лучшему, поскольку рассеченность декартова человека, как мы многократно убеждались в Разделе 3, создавала искусственные проблемы и ограничивала возможности антропологии Декарта: в частности, именно ею мы объясняли главные лакуны этой антропологии, отсутствие в ней всего спектра интегральных проявлений человека. Снятие тезиса об антропологической рассеченности снимает наиболее резкое различие между (познающим) субъектом и человеком как таковым – что, в свою очередь, позволяет Канту не разбирать, насколько остающееся различие еще существенно. Меж тем, оно становится лишь несколько менее существенно. Кантовская коррекция и переинтерпретация декартовой дихотомии нисколько не означала восстановления цельности человека, но означала лишь твердое помещение этой дихотомии в когнитивную перспективу, из которой она у Декарта «неуклюже высовывалась», но в которой собственно и должна была пребывать изначально. С этой точки зрения, можно сказать, что Кант не отвергает декартова рассечения, но отказывается придавать ему прямой антропологический смысл, вводить в конституцию человека как такового, относя его сугубо к основоустройству познания (судя по беглым замечаниям, он вполне принимает, что субъект в акте познания отсечен от тела, имеет тело внешним предметом). В итоге такой коррекции, философия уже не имплицирует отсутствия интегральных проявлений человека, но и не обретает никакого положительного антропологического содержания; а интегральные проявления, как мы увидим, все равно остаются отсутствующими в кантовской антропологии.
Далее, положение свойства субстанциальности в философии и, в частности, антропологии Канта остается во многом тем же, что у Декарта. Для обоих классиков это свойство не служит ареной их собственных нововведений, но остается элементом, наследуемым из старой аристотелианской основы. В начале этого раздела мы постарались раскрыть те логические связи, в силу которых субъект практически не мог не мыслиться субстанциально; мы также приводили кантовское положение о субстанциальности души, имеющее стандартную аристотелевскую форму Связь субстанции с субъектом выступает у Канта само собой разумеющейся, прочной и обоюдной (ср.: «Субстанция, т. е. нечто, что может существовать лишь как субъект, но не как простой предикат»[161 - Id. Kritik der reinenVernunft. S. 317.]). Разумеется, входя в трансцендентальную архитектуру сообщества категорий, понятие субстанции также получает трансцендентальное препарирование, интегрируясь в свой понятийный комплекс, куда входят акциденции, подлежащее, существование как субсистенция и как присущность, и проч. Главными элементами в смысловой структуре субстанции у Канта служат функции подлежащего и характер устойчивого, пребывающего начала, противопоставляемого всему изменчивому в структуре явления (ср.: «Субстанция, т. е. пребывающее (Beharrliche), субстрат всего изменяющегося»[162 - Ib. S. 283. (Курсив Канта).]). Как ясно отсюда, субстанция оказывается и основой, принципом решения проблемы (само)тождественности. Все это – достаточно традиционная, привычная трактовка понятия. Сознание философа явно не связывает с ним никакой особой проблемности и не подозревает о том, что именно в нем – ген смерти всей европейской метафизики.
Очередное свойство, гносеологичность, сейчас почти не требует обсуждения: ему и был посвящен почти весь наш разбор кантовского этапа. Восприняв линию на эпистемологический поворот философии, с такой энергией и успешностью начатую Декартом, Кант продолжил и завершил этот поворот, придав ему новую глубину и принципиально иную природу: сделав его не поворотом от онтологии, а поворотом самой онтологии, ее внутренней трансформацией, включившей ее в эпистемологический дискурс, в когнитивную перспективу. Тем самым, поворот стал созданием нового универсального философского метода («Критика чистого разума» есть «трактат о методе», по словам Канта); и когда этот метод перед нами, мы ясно видим, что у Декарта, при всем истовом стремлении к методу, имелась еще только его прелюдия. Однако при всем кардинальном развитии, какое здесь получает гносеологизированность философского дискурса, роль данного свойства в антропологии, в образе человека, скорее уменьшается. Развив теорию познания до небывалой основательности и изощренности, Кант при всем том едва ли проникнут пафосом познания; в отличие от Декарта, он не утверждает познание в качестве высшей миссии человека. Взамен этого, весь пафос его отдается этике, нравственному, а не познающему субъекту, и высшую миссию человека он утверждает в служении нравственному закону.
Наконец, о судьбе свойства секуляризованности на кантовском этапе основное уже также сказано выше. По определению, данное свойство означает, что отношение человека к Богу, не обязательно устраняясь вообще, лишается, тем не менее, определяющей роли в стратегиях человеческого существования или, иначе говоря, в основоустройстве самореализации человека. Мы описали ту специфическую участь, которая постигает это отношение у Канта: вместе со своей икономией, образующей сферу религии, оно превращается здесь в обосновывающий горизонт этики, причем все аспекты и проявления религии, не вместимые в эту функцию, в основоустройство практического разума, отрицаются как заблуждения. При этом, однако, вместимая и принимаемая часть религиозной сферы относительно широка (как мы говорили, она включает в себя все основные элементы моралистической, пиетистской религиозности), и в существовании человека как нравственного субъекта она не вытесняется на периферию, а наделяется видным, почетным положением. Поэтому не так уж очевидно, что подобная участь должна рассматриваться как некая форма секуляризации; и в данной связи, следует еще раз напомнить и разъяснить наше антропологическое понимание последней.
В обычном принятом смысле, секуляризацию понимают как исторический и социокультурный феномен или процесс, суть которого составляет вытеснение религии из центра общественной и культурной жизни, лишение ее статуса регулятивного начала этой жизни и оставление за нею лишь роли одного из факторов частного существования индивида. В антропологическом контексте, это понимание требует, однако, дополнения и углубления, которые мы попытались представить выше (см. Раздел 3 и начало Раздела 4). Аутентичное существо религии как конститутивного принципа «религиозного человека» составляет реализация отношения человека к Инобытию, или же «онтологической Антропологической Границе», и основу этой реализации составляет стратегия или парадигма «мета-антропологического восхождения-трансцендирования». Инобытийная природа цели, а точнее, «транс-цели», «телоса» этой стратегии делает последнюю уникальной, выделенной в кругу всех антропологических стратегий: она принципиально не может быть подчиненной, служебной по отношению к какой-либо иной стратегии, ибо инобытийный телос заведомо не может быть достигнут «попутно», «заодно» с достижением некоторой иной, не инобытийной цели, утверждаемой как первичная и главная. И это означает, что наделение религии какою бы то ни было служебной функцией несовместимо с сохранением ею ее описанного (мета-)антропологического существа, ядра. При этом, служебная роль может быть вполне совместима с сохранением множества внешних сторон религии, сохранением, как мы видели, «видного и почетного положения», – но именно о таких ситуациях в русском христианстве говорится: Бог не в бревнах, а в ребрах. Религия, исполняющая служебную функцию, вовсе не обязательно есть приватный или маргинальный феномен в фактуре существования, и тем самым, она вовсе не обязательно предполагает секуляризацию в обычном социокультурном смысле. (Подобных примеров множество, и религия по Канту входит в их ряд, вместе, скажем, с культами языческих императоров – что вряд ли понравилось бы философу). Но она обязательно – пустая оболочка религии, и потому – феномен секуляризации в нашем сущностном, антропологическом смысле. (Сказанное, конечно, не значит, с другой стороны, что религия не может или не должна иметь связи с этикой. Должна лишь быть противоположная иерархия целей: конституция отношения этики с живой религией предполагает первенство инобытийного телоса. По своему характеру, эта конституция своеобразна: несмотря на иерархию целей, она воплощает не жесткое подчинение одной сферы другой, а их живую, обоюдную связь: установление отношения человека к Богу включает в себя определенные этические условия, предпосылки[163 - См. С. С. Хоружий. К феноменологии аскезы. С. 229.], а, будучи установлено, это отношение, в свою очередь, развивает вместе со своей икономией, в ее составе, и определенную этику. Ниоткуда не следует априори, что это должна быть кантианско-аристотелианская телеологическая и нормативная этика и, будучи представлена в развернутом виде, конституция этико-религиозного отношения имела бы мало общего с «Критикой практического разума»).
Итак, в сфере антропологии возникает свое понятие секуляризации: последняя должна трактоваться здесь как лишение примата – а отсюда, в силу ее специфики, и отмирание – стратегии отношения человека с его онтологической Границей («стратегии мета-антропологического восхождения-трансцендирования»). Это понятие не просто выражает в антропологических терминах обычное социокультурное понятие секуляризации, но и отличается от него по объему: «антропологическая секуляризация» включает и все явления, в которых религия, вне зависимости от своего внешнего, социокультурного положения и статуса, в своем существе редуцируется к некоторой служебной функции. (Это несовпадение объема понятий, вообще говоря, имеет обоюдный характер: мыслимы и такие ситуации, когда религия, будучи вытеснена к приватному и маргинальному статусу, тем не менее, подлинно реализует отношение человека к Инобытию). Тот род секуляризации, который мы обнаружили в учении Декарта, соответствовал обоим понятиям, это была секуляризация и в социокультурном, и в антропологическом смысле. У Канта же мы находим иной род: здесь имеет место «антропологическая секуляризация», которая, вообще говоря, может и не являться «социокультурной секуляризацией». Чтобы полностью раскрыть антропологическое содержание этого свойства, нам следует еще, не ограничиваясь негативным выводом об исчезновении некоторой антропологической стратегии, показать, какой вид принимают в ее отсутствие отношения человека с Антропологической Границей. В случае Декарта мы убедились, что эти отношения, как и сама идея Антропологической Границы, вообще элиминируются, выпадают из конституции человека, как следствие утверждения идей бесконечного мироздания и бесконечного прогресса познания. У Канта они также элиминируются, и субъект также представляется как «безграничное», вследствие открытости – и даже необходимости – для него бесконечного прогресса; однако, в соответствии с приматом этического дискурса, прогресс оказывается нравственным. Обеспечивают же этот прогресс постулаты чистого практического разума и, в первую очередь, постулат бессмертия. «[Поскольку] полное соответствие воли с нравственным законом… требуется как практически необходимое, а достигнуто оно может быть лишь в бесконечно длящемся прогрессе, то из принципов чистого практического разума необходимо вытекает принятие такого бесконечного прогресса… Для разумного, но конечного существа возможен лишь бесконечный прогресс от низших к высшим ступеням морального совершенства… но этот бесконечный прогресс возможен лишь при предположении, что существование и личностность разумного существа продолжаются в бесконечность»[164 - I. Kant. Kritik der praktischenVernunft. S. 140–141.]. Как видно отсюда, по своему глубочайшему убеждению в «практической необходимости», а стало быть, и доступности бессмертия Кант лишь немногим уступает Николаю Федорову.
Стоит подчеркнуть также, что, вопреки внешнему впечатлению, в учении Канта секуляризация принимает, в действительности, гораздо более глубокую и радикальную форму, чем в учении Декарта. Оба учения соотносятся здесь точно так же, как они соотносятся в свойстве гносеологизированности. Декарт осуществляет гносеологизацию философии, уходя от онтологии, отодвигая ее: и он осуществляет секуляризацию, отодвигая Бога и религию так, чтобы освободить от них сферу самореализации человека (т. е. по Декарту, деятельности познания). Стратегия же Канта в обоих случаях куда основательней, необратимей. Он переосмысливает и трансформирует онтологию так, что она уже не конкурирует с гносеологией, а подкрепляет ее, как ее обосновывающий горизонт; и он переосмысливает и редуцирует Бога и религию так, что они уже не конкурируют с секулярной самореализацией человека (по Канту, нравственной деятельностью); но подкрепляют ее, как ее обосновывающий горизонт. В известном смысле, секуляризация достигает здесь полноты, ибо Кант секуляризовал саму религию: вместо того, чтобы оттеснять ее еще на сколько-то дюймов, он превратил ее из альтернативы секуляризованному миру в одну из функций его устройства. При этом, достигает полноты, замкнутости и сам этот мир, мир индивида и «гражданина мира»: когда онтология и трансцендирование целиком вобраны в обычное познание, а религия и религиозная жизнь – в этику, – из мира стало некуда и незачем выходить, исступать, стремиться.
Из этого обозрения «пяти портретных черт» видно, что все они продолжают принадлежать к основоустройству, каркасу антропологии Канта, хотя при этом одни из них (индивидуированность, субстанциальность) уже не требовали обширной разработки и не получали особенно большого внимания, тогда как оставшиеся испытали в горниле трансцендентального метода кардинальное претворение и стали предметом новых капитальных концепций и построений. Но сейчас мы уже не скажем, что они исчерпывают этот каркас. Из нашего описания кантовского этапа выступают, по крайней мере, еще две особенности, которые, по их значению для антропологии, необходимо добавить к прежде выделенным. Одна из них – отказ от организации категорий познания «вокруг фигуры» субъекта познания, «конгруентно» этой фигуре, – в пользу совершенно иных принципов организации, при которых субъект исчезает из вида, оставаясь только «транспортным средством». Другая же – беспрецедентное возвышение нравственного субъекта и утверждение этической сферы в качестве высшей сферы самореализации человека. По своей роли в кантовой антропологии, эти особенности, в известной мере, противоположны друг другу. Полная декомпозиция субъекта познания существенно удаляла трансцендентальную философию от речи о человеке, служила крупным добавочным элементом антиантропологичности. Нравственный же субъект, хотя и препарировался трансцендентальной философией по тем же антифигуративным принципам, однако производил более человеческое впечатление. К тому было несколько причин. Во-первых, сообщество категорий чистого практического разума не столь обширно и сложноустроено, и оно менее заслоняет, элиминирует самого субъекта. Во-вторых, что еще важней, нравственные категории, включающие и понятия душевной, эмоциональной жизни, кажутся нам не такими отвлеченными, как категории познания, кажутся как бы говорящими прямо о человеке, хотя по концептуальной структуре они могут быть ничуть не менее дистанцированы от фигуры субъекта. И наконец, самым весомым, видимо, было и самое простое обстоятельство: свои этические воззрения Кант излагал в целом ряде текстов, и некоторые из них – напр., «Метафизика нравов», «Антропология в прагматическом отношении» – были написаны почти без трансцендентальной машинерии, в доходчивом и убедительном стиле с небольшими дозами проповеди. Поэтому присутствие в антропологии Канта нравственного субъекта, наделенного не меньшим значением и весом, чем субъект познания, действовало как весьма эффективный противовес многочисленным и глубоким антиантропологичным чертам этой антропологии, и крайне способствовало ее принятию и успеху.
Что же до черт антиантропологичности, которые тоже нужно отметить в итоговом обозрении, то выше говорилось уже достаточно об особенностях структуры и метода, таких как только что упомянутая антифигуративность трансцендентальной систематики. Сейчас осталось сказать о чертах содержания, т. е. о лакунах антропологии Канта. Здесь вновь нам удобно отправляться от картезианского этапа. Специфическая ущербная конституция Человека Картезия, имплицируемая дихотомией духа-сознания и тела-машины, служила изначальным препятствием к появлению понятия человека-в-целом в антропологии Декарта. Ближайшим образом, она мешала учету антропологических проявлений, которые служат выражением всего целостного человеческого существа («интегральные проявления», в нашей терминологии). Мы выделили основные виды подобных проявлений (экзистенциальные предикаты, феномены общения и феномены религиозной жизни) и констатировали, что интегральные проявления, действительно, составляют в антропологии Декарта область лакун. Ситуация на кантовском этапе иная, Кант не принимает картезианской дихотомии, и заведомых препятствий к присутствию интегральных проявлений в его антропологии как будто нет. Конечно, известным препятствием остается сам принцип субъективности философии, ибо любой субъект заведомо участнен и отличен от человека-в-целом. Но субъект Канта не столь драстически участнен, как субъект Декарта, порой Кант использует термины «субъект» и «человек» как взаимозаменяемые, и чисто методологически, расширение кантианского дискурса до речи о человеке-в-целом в некой степени мыслимо. Тем не менее, мы обнаруживаем характерную преемственность: хотя и в силу уже иных причин, иной логики, однако интегральные проявления человека почти полностью отсутствуют также и в антропологии Канта.
Экзистенциальные предикаты, как правило, восходят тем или иным путем к понятиям смерти и любви, двум фундаментальным реальностям человеческого существования. Поэтому о судьбе их в философии Канта достаточно говорит судьба этих фундаментальных понятий. Она очень заслуживает быть отмеченной: как и у Декарта (так что это становится уже стойкой чертой европейской модели), у Канта налицо полное нечувствие и любви, и смерти, их антропологического и онтологического значения. Таких тем нет в его антропологии. Проблема смерти искусственно снимается постулатом бессмертия, а что до любви, то она видится Канту одним из вспомогательных аспектов долга и подчинения. «Любить Бога означает… исполнять его веления охотно, любить ближнего значит: всякий долг по отношению к нему исполнять охотно»[165 - Ib. S. 97.]. В «Религии в границах только разума» мы найдем сходное определение любви как «любви к закону»; и эти замечательные дефиниции вполне стоят любви по Декарту (т. е. напомним, «совершенства, без которого можно просуществовать»). – Далее, сфера общения, интерсубъективных антропологических проявлений отсутствует вследствие свойства индивидуированности, субъектной структуры философии. Здесь была одна из главных позиций критики «классической европейской модели» в современной философии и одна из основных причин «смерти субъекта»: современная мысль, уделяющая огромное внимание интерсубъективной сфере, усиленно развивала критику философии субъекта во всех ее формах, квалифицируя ее как «философию Я», которая неспособна дать адекватное представление феноменов интерсубъективности и должна быть заменена «философией Мы». Таковой философии покуда не появилось, но критическое узрение «интерсубъективной лакуны» в философии субъекта было справедливо и полезно. – Наконец, судьба феноменов религиозной жизни у Канта нам известна: эта сфера подвергается глобальной редукции, частью ампутируясь, а частью включаясь в этику, причем включаемые элементы, переинтерпретируясь, выхолащиваются от своего аутентично религиозного содержания и престают быть интегральными антропологическими проявлениями. В частности, отношение человека к Богу, конститутивное для религиозной сферы, полностью теряет характер личного общения, и вкупе со сказанным выше, мы заключаем, что само представление о личном общении как особом антропологическом феномене (и уж тем более, как о мета-антропологическом) чуждо не только антропологии, а самому философскому сознанию Канта. К названным лакунам, пожалуй, можно добавить и дискурс тела, который, в отличие от учения Декарта, у Канта практически отсутствует (за вычетом темы чувственных восприятий и органов чувств, которая у них обоих отделена от темы телесности, ввиду своей тесной связи с познанием).
Но вся эта лакунарность, как и прочие антиантропологические элементы, лишь незначительно мешали тому, что в широком восприятии речь Канта о человеке оставляла впечатление великого уважения и внимания к человеку и человечеству. Кант одновременно использует оба значения немецкого Menschheit, сближая их, так что даже не всегда ясно, имеет ли в виду философ человеческий род или «человечность», суть человека, которую он видел как самое возвышенное начало, достойное глубокого почитания. Притом, это возвышенное видение человеческой природы далеко не было пустой риторикой, оно воплощалось в самых строгих конструкциях, какие до этого знала мысль. Два рода текстов Канта были удачным сочетанием: корпус «Критик» служил базой доверия к выдвигаемым идеям, тогда как популярные тексты широко доносили эти идеи. Существенно было также то, что идеи Канта заключали в себе не только лесть человеку, но и требовательность к нему; но самое важное, бесспорно, – в чем была эта требовательность.
Евангелие Канта – добропорядочная жизнь под девизом долга, в служении и поклонении долгу. Нет нужды объяснять, какой эпохе и обществу идеально подходило это евангелие. Неумеренность, одержимость Ренессанса, еще ощутимые в Декарте, миновали, и им на смену пришел мир буржуазного уклада и буржуазных добродетелей. Кант – его пророк и учитель. Его антропология, его этика, его политическая философия весьма действенно служили созданию и укреплению устоев этого мира: устоев как общественных, так и индивидуальных, личных. Они давали метафизическую, нравственную, даже религиозную санкцию общественным (предпочтительно, монархическим) началам, и они же давали основу для формирования и воспитания личности буржуазного индивида. Трудно представить более совершенное соответствие мыслителя и эпохи. По выражению сталинских времен, Кант был социально полезен, но не в меньшей степени он был и индивидуально полезен. В антропологии Канта буржуазный индивид был обеспечен и «окормлен», по его потребностям, всесторонне: он мог получить в ней способ осознания и понимания себя, объяснение своего положения в природе и мире, метод продвижения в познании, наставление в требованиях нравственности и долга, наконец, last but not least, заверение в своем достоинстве, благородстве, правах… – словом, получить все нужное и желаемое, если еще учесть, что интуиция или идеал полноты человека, еще жившие в Ренессансе, ушли из буржуазного сознания. – В итоге кантовского этапа, европейская антропологическая модель достигла, возможно, апогея в своем развитии. Ее задания, в основном, могли считаться исполненными. Центральная и ключевая концепция субъекта получила исчерпывающую разработку; отношения с метафизикой, онтологией, религией были выяснены фундаментально и, как можно было полагать, окончательно. И она достигла победы, закрепления и в своем внешнем положении. Она получила признание и влияние в европейской мысли, стала фундаментом ее позиций в антропологии, и могла также притязать на подтвержденность самою жизнью: европейский человек соглашался узнать себя в кантовом субъекте – особенно, в благородном и высокопорядочном субъекте нравственном. Слова «вечность» и «бесконечность» тогда легко стекали с пера; и, вероятно, не только сам философ, но и очень многие его читатели в следующих поколениях, вполне признали бы сложившуюся концепцию человека – вечной.
4. Трансцендентальный схематизм. После стратегически ключевой второй стадии и концептуально решающей и центральной третьей, конституция входит в завершающие фазы. Как выяснено на третьей стадии, критическую важность для всей конституции в целом имеет активность трансцендентальной способности воображения, обеспечивающая единство чистого познания и выступающая как конститутивный элемент трансцендирования. Кант находит, однако, что при рассмотрении трансцендентальной дедукции специфический механизм, каким эта способность осуществляет свою единящую и трансцендирующую функцию, еще остается темным; и для изведения этого темного механизма в прозрачность выстраивается очередной круг новых идей и понятий. В трансцендировании как исхождении к сущему, к чувственной реальности, созерцание выступает как восприятие, оно должно облечься в чувственное; то же должно произойти и с другой компонентой чистого познания, апперцепцией: ее содержания, чистые понятия, также должны совершить это исхождение и облечение («очувствливание», Versinnlichung). «Горизонт трансцендирования может формироваться (sich bilden) лишь в очувствливании… трансцендирование формируется в очувствливании чистых понятий… [причем] это очувствливание также должно быть чистым»[118 - Ib. S. 87–88.]. Именно это чистое очувствливание чистых понятий, входящее в сущность трансцендирования, Кант выражает понятием «трансцендентальный схематизм», или же схемообразование, совершаемое чистой способностью воображения.
Введение новых терминов не слишком содействует прозрачности; основное продвижение к ней достигается в скрупулезном анализе понятий «схема», «образ», «чистый образ» (связанный с чистым созерцанием, каковое, по Канту, есть время), «схемообразование». Эта аналитика раскрывает двойственную, сопрягающую природу всех специфических понятий стадии схематизма. Само же понятие схемы обнаруживает такую природу сразу в нескольких отношениях. Прежде всего, схема осуществляет связь чистого созерцания с чистым понятием и апперцепцией: она сопоставляется чистому понятию таким путем, что в схемообразовании она одновременно связуется с чистым образом, лежащим в поле чистого созерцания; и, как явствует отсюда, схемообразование именно и есть тот механизм, посредством которого трансцендентальная способность воображения осуществляет свою единящую и трансцендирующую миссию. Далее, схема делает возможным «приложение категорий к явлениям», причем для передачи способа и характера этого приложения Кант вводит еще новое понятие «подчиненности» (Subsumtion), заимствуемое на сей раз из логики, и говорит о «подчиненности эмпирических (вообще, чувственных) созерцаний понятиям чистого разума». И наконец, в качестве почти тавтологической, но отнюдь не лишней, вариации последнего свойства, можно заметить, что, осуществляя посредствующую функцию между явлениями и понятиями чистого разума, кантова схема есть бинарный объект, соединяющий в себе чувственную и интеллигибельную стороны: «Это посредствующее представление должно быть чистым (без всякого эмпирического элемента) и, однако, с одной стороны, интеллектуальным, с другой же чувственным. Таковым представлением и является трансцендентальная схема»[119 - I. Kant. Op. cit. S.214.]. Идея подобного бинарного «умно-чувственного» предмета очень вскоре будет развита Шеллингом в его концепцию символа, а затем станет ядром целой особой ветви «символической» философии и эстетики; и в свете теснейшей включенности кантовой «схемы» в его концепцию трансцендирования, нам открывается здесь нить, связующая трансцендирование у Канта с идеей символа.
Хотя целью всех построений данной стадии было достижение наглядности и прозрачности, однако не только ход рассуждений, но и конечные результаты их оказываются достаточно сложны, не прозрачны; недаром уже в поздние годы жизни сам Кант признавал схематизм «труднейшим пунктом» своего учения. Мы не склонны видеть в этом лишь чисто техническое обстоятельство: не отражается ли тут также и невозможность вполне наглядно и убедительно продемонстрировать природу исследуемых актов как «трансцендирование»? Или иными словами, не отражается ли тут то, что вводимая концепция трансцендирования остается – по крайней мере, в некоторых чертах – принципиально дискуссионной?
5. Полное сущностное определение чистого познания. Трансцендентальный схематизм с его комплексом понятий довершает конституцию чистого познания. Предметом заключительной стадии является уже не новое продвижение, но обозрение-осмысление общего результата, т. е. всех стадий вкупе; или, что то же, полное сущностное определение чистого познания в его основных аспектах. В главнейшем аспекте, чистое познание есть формирование трансцендирования; и Кант на данной стадии формулирует итоговое положение, которое не говоря прямо о трансцендировании, тем не менее, имплицитно доставляет подобное полное определение. Данное положение, которое именуется у Канта «высшим основоположением всех синтетических суждений», гласит: «Условия возможности опыта вообще суть одновременно условия возможности предмета опыта»[120 - Ib. S. 232. (Курсив Канта).]. В этой формулировке в центр внимания ставится не затрагивавшийся в ходе конституции аспект проблемы оснований познания: внутренняя возможность познания (опыта) предполагает и возможность для познаваемого выступить предметом познания (опыта). Утверждение может показаться тривиальным или чисто формальным – и однако рассмотрение когнитивного акта под этим углом позволяет более полно выявить сущностную структуру заключенного в акте трансцендирования. В самом деле, если исходные определения трансцендирования характеризовали его со стороны познающего, как «обращенность-к» и «исхождение вовне», как активность экстатического характера, то взгляд со стороны познаваемого, предмета опыта, добавляет сюда, что те же условия, которые обеспечивают это «исхождение-к», одновременно обеспечивают предметное поле, доставляют горизонт исхождения; так что к характеристике трансцендирования как являющегося экстатической активностью, добавляется обладание горизонтом. Следующая формулировка Хайдеггера выражает сказанное несколько полнее и детальней: «Обращающееся к себе предоставление предстояния (Gegenstehenlassen) как таковое образует горизонт предметности вообще. Предваряющее и всегда необходимое в конечном познании исхождение к… (Hinausgehen zu) по этой причине есть постоянное стояние в исшедшести (Hinausstehen) к… (Экстаз). Но эта существенная исшедшесть (Hinausstand) к… именно в своем стоянии образует и доставляет себе – горизонт. Трансцендирование является экстатически-горизонтальным в себе. В этом членении единого в себе трансцендирования и выражается высшее основоположение»[121 - М. Heidegger. Op. cit. S. 111.].
Это выявление «горизонтального», или «горизонтного» аспекта в понятии трансцендирования имеет принципиальное значение для раскрытия онтологического содержания данного понятия и всей эпистемологии Канта. Бытийное устройство (познаваемого) сущего, онтологическое измерение его существования раскрываются, выступают в открытость лишь в некотором горизонте; и Хайдеггер пишет: «Онтологическое познание “образует” трансцендирование, и это образование есть не что иное как держание открытости (Offenhalten) горизонта, в котором первоначально становится узреваемо бытие сущего»[122 - Ib. S. 115.]. Вслед за дискуссией трансцендирования, онтологическое содержание чистого познания – другой важнейший аспект, которого нельзя обойти в итоговом обозрении конституции. Сам Кант почти не пользуется терминами «онтология» и «онтологический», однако он с полной определенностью проводит отождествление: его учение, или «трансцендентальная философия» есть то же что «онтология» и то же что Metaphysica generalis (воздержание же от «гордого имени онтологии» связано более с деталями отношений трансцендентальной философии с прежней онтологией, которую Кант, впрочем, называет «трансцендентальная философия древних»). Как обозначение способа и горизонта мысли, «трансцендентальное» в дискурсе Канта равнозначно «онтологическому»; и вслед за рецепцией Хайдеггера, мы также будем именовать кантовы «априорный синтез», «трансцендентальное познание» и под. – «онтологическими».
Абсолютно ясно, что вышеописанная конституция нагружена самым существенным, весомым онтологическим содержанием. Sub specie ontologiae, все предприятие «Критики чистого разума» может характеризоваться, по Хайдеггеру, как «обоснование внутренней возможности онтологии». Здесь совершается открытие и реконструкция внутренней онтологии когнитивного акта: последовательно развертываемая демонстрация горизонта онтологического познания, необходимо сопутствующего всякому онтическому (эмпирическому, опытному) познанию. Кант демонстрирует, что «не всякое познание является онтическим, и где таковое осуществляется, оно становится возможно лишь через посредство онтологического»[123 - Ib. S. 22.]. При этом, не просто демонстрируется существование некой «внутренней онтологии», заключенной в познании, но эта онтология, через свою связь с трансцендированием, получает сущностную дескрипцию в своем характере и типе: именно, «онтология есть не что иное как выразительное раскрытие систематической целокупности (des Ganzen) чистого познания, постольку, поскольку данная целокупность образует трансцендирование»[124 - Ib. S. 116.]. Ясно также и то, что в контексте европейской метафизики подобный опыт онтологии отличался кардинальной новизной и спецификой. Отличия лежали не в связи с трансцендированием, которая для онтологии всегда была привычна и традиционна, но в принципиально новой трактовке трансцендирования; а также одновременно в том, что и трансцендирование, и сама онтология представали у Канта интегрированными в основоустройство познания сущего (отнюдь не Богопознания) и вне связей с той проблематикой отношения здешнего бытия и инобытия, что от века считалась сферой и делом онтологии. (Если угодно, они могли трактоваться не как часть, а как некоторое необходимое расширение этого основоустройства, но это не меняло сути и не снимало новизны). Трансцендирование оказывалось «экстатически-горизонтальным» исхождением познающего разума вовне, к познаваемому сущему, онтология выступала «раскрытием целокупности чистого познания» – и будучи таким образом включены в икономию когнитивного акта, это уже были новое «когнитивное трансцендирование» и новая «когнитивная онтология».
Какие перемены это несло? Декарт, как мы говорили, придал европейской метафизике новое течение: гносеологизированное, минимизирующее онтологический дискурс и по возможности избегающее его, равно вытесняющее и онтологию, и теологию – «подальше, чтоб не мешали заниматься делом». Немецкая мысль не могла не уступить властному картезианскому импульсу; однако вытеснение онтологии не отвечало ее стойким тенденциям, особенностям ее типа и стиля. В этой логике, «Критика чистого разума» могла бы видеться как реванш онтологизма: полностью воспринимая декартов сдвиг метафизики в когнитивную перспективу, даже углубляя его, она в то же время возвращала центральное положение онтологии, осуществляя ре-онтологизацию метафизики. Однако возвращалась в метафизику онтология уже иного, нового типа; и если учесть ее особенности, реванш окажется весьма сомнителен. Связь «когнитивной онтологии», или же онтологического познания, с опытным, эмпирическим познанием у Канта, мягко говоря, не очень проста, что видно даже из нашего беглого описания. Она носит обоюдный характер, включает в себя различные нити взаимозависимости и соподчинения, и рецепция трансцендентальной философии в дальнейшей истории мысли не раз менялась, относя эту философию, в зависимости от разных обстоятельств, то более к гносеологии, то более к онтологии. Неокантианство было сильным, длительным и хорошо аргументированным уклоном к гносеологической интерпретации; но сразу следом за ним Хайдеггер выдвинул свою радикально онтологизированную трактовку, где взгляд на «Критику чистого разума» как на теорию познания объявлялся «коренным искажением» и утверждалось, что «в “Критике чистого разума” впервые обосновывается онтология как базовый раздел метафизики в целом, и впервые онтология выводится к себе самой»[125 - Ib. S. 25.]. Нас же сейчас не занимает историко-философский аспект как таковой: мы привлекаем историю рецепции лишь с тем, чтобы извлечь из нее – в дополнение к непосредственному прочтению – некий надежный «общий знаменатель» в оценке существа и значения кантовской онтологии. И на этом пути мы заключаем, что в любом случае нельзя не признать: в рамках кантовского дискурса онтологическое познание, онтология не образуют самодовлеющей и самоценной сферы, они встроены в когнитивную перспективу как в объемлющий контекст и доминирующий дискурс. При всей своей гиперболизации онтологических сторон трансцендентальной философии, Хайдеггер вынужден констатировать: «Если онтологическое познание раскрывает горизонт, то его истина заключается в создании возможностей встретить (Begegnenlassen) сущее в этом горизонте. Кант говорит: онтологическое познание имеет лишь “эмпирическое употребление”, т. е. оно служит тому, чтобы делать возможным конечное познание в смысле опыта обнаруживающего себя сущего»[126 - Ib. S. 115.]. Коротко говоря: «когнитивная онтология» – онтология, выполняющая служебную функцию в основоустройстве эмпирического познания.
К этому необходимо добавить другой немаловажный момент: онтология прежняя и традиционная, та онтология, которую Декарт лишь отодвигал, но не вступал в спор с нею, – в свете трансцендентального метода подвергается разоблачению, дезавуируется. Кант утверждает: тезисы и положения этой прежней онтологии имеют порочную внутреннюю структуру, являются суждениями недопустимого, некорректного типа, поскольку «притязают доставлять синтетическое знание априори о вещах вообще» или, иначе говоря, быть онтическим знанием априори, которое доступно лишь «бесконечному существу в едином интеллектуальном созерцании». Понятно, что эта аргументация Канта вместе со старой онтологией дезавуирует и ее элементы у Декарта – его идею Бога и доказательство существования Бога: «Путем метафизики достичь от познания сего мира к понятию Бога и доказательству Его существования путем достоверных (sichere) заключений невозможно»[127 - I.Kant. Kritik der praktischenVernunft. Hamburg, 1963. S. 159. (Курсив Канта).]. Понятно также, что подобная аргументация применима – и Кант применяет ее – не только к онтологии, но и к религиозной сфере. Здесь разоблачению и отрицанию подвергаются коренные явления и формы духовной жизни, что всегда составляли и составляют основу икономии Богообщения и Богопознания. Кант указывает, что на их почве развиваются «антропоморфизм, суеверие и фанатизм», «мнимый опыт сверхчувственных созерцаний или тому подобных ощущений» и т. д. Он, вместе с тем, замечает, что в сфере практического разума, нравственной деятельности человека, его отношения с инобытием, Богом носят иной характер, чем в сфере спекулятивного разума, они расширяются и обогащаются. Но он усиленно подчеркивает, что обретаемое здесь «расширение» или «приращение» разума не расширяет понятийного познания, а ограничивается сугубо обеспечением этических оснований: в нем достигается «достаточное удостоверение реальности тех понятий, что служат для выражения возможности высшего блага, но без того, чтобы в этом приращении осуществлялось хоть малейшее расширение познания о теоретических основоположениях»[128 - Ib. S. 157.]. (К религиозной проблематике у Канта мы еще вернемся не раз, обсуждая его этику, а также черты секуляризованности в его антропологии). В нашем контексте, всю суть кантовской критики религиозной сферы можно свести к отрицанию возможности существования в этой сфере своего особого рода трансцендирования – т. е. того трансцендирования, о котором всегда говорит духовный и мистический опыт, которое принадлежит к глубинной основе этого опыта и которое заведомо и кардинально отлично от «когнитивного трансцендирования», введенного Кантом. – В итоге, позиции трансцендентальной философии таковы, что в согласии с ними, не может существовать ни иного корректного рода онтологии, кроме «когнитивной онтологии», ни иной обоснованной концепции трансцендирования, кроме «когнитивного трансцендирования». И это означает такое тотальное утверждение декартова направления, на какое едва ли когда-нибудь рассчитывал сам Декарт.
Сейчас, прежде перехода к антропологии Канта, нам стоит отметить еще некоторые особенности его эпистемологии, сравнительно с эпистемологией Декарта. (Впрочем, разделительная грань в столь гносеологизированном дискурсе почти условна: ведь конституция когнитивного акта – главная часть конституции познающего субъекта, а та, в свою очередь, – главная часть антропологии). В первую очередь, нам интересна степень близости и преемственности: выдвигая в центр метафизики эпистемологию, парадигму познания, выдвигали ли оба классика, в существенном, ту же парадигму? Общеизвестный ответ гласит: да, в общем и крупном, ту же – а именно, парадигму субъект-объектного познания. Мы, разумеется, согласны, и лишь добавим немногочисленные детали. Не менее общеизвестно, что кантова парадигма познания в дальнейшей рецепции была признана революционной, и ее внедрение именовано «коперниканским переворотом», основание для каковой формулы видели особенно в одном пассаже из предисловия ко второму изданию главной «Критики». В наших терминах, знаменитый пассаж говорит, что познание следует перевести из натуралистической перспективы («познание, организующее себя в соответствии с предметами»), в субъектную перспективу («предметы должны организовываться в соответствии с нашим познанием»). Утверждение революционности Канта в принципе не противоречит тому, что субъект-объектная парадигма введена была уже у Декарта, ибо введение «субъекта познания» еще далеко не равносильно введению субъектной перспективы: субъект может осуществлять познание и в натуралистической перспективе. Но мы хотим заметить, однако, что у Декарта вполне определенно присутствуют существенные элементы именно субъектной перспективы. В Разделе 3 мы специально выделяли их; как лишь один из примеров, напомним характерный тезис из Пятой Медитации: «Прежде рассмотрения, существуют ли вещи вне меня, я должен рассмотреть их идеи, какими они присутствуют в моей мысли». Поэтому родство двух эпистемологии идет глубже, и, в частности, Декарта по праву следовало бы считать соавтором «коперниканского переворота».
Вместе с тем, мы видим и ряд таких элементов когнитивной парадигмы, которые у Декарта еще отсутствуют, либо лишь бегло намечаются. Самый значительный из них – это, разумеется, онтологическое измерение когнитивного акта, главное открытие Канта и конституирующий источник трансцендентального метода. Его мы обсудили уже. Кроме того, лишь у Канта дескрипция когнитивного акта получает полную отчетливость во втором, объектном полюсе этого акта. Если у Декарта полюс объекта не был еще представлен со всей определенностью, то у Канта он выступает даже более отчетливо, чем первый, субъектный полюс: «Все наши представления связаны посредством разума с каким-либо объектом и, поскольку явления суть не что иное как представления, то разум направляется на нечто как предмет чувственного созерцания, но это нечто является вообще предметом созерцания лишь постольку, поскольку оно есть трансцендентальный объект»[129 - Id. Kritik der reinenVernunft. S. 336.]. Заметим тут, что субъектный полюс представляется у двух философов весьма по-разному, но об этом различии, особо важном для нас, речь будет ниже, в антропологической части. Вообще, поскольку вся система понятий трансцендентального метода – тесно связанное единство, то все основные эпистемологические концепты Канта несут печать метода, выступают в трансцендентальном освещении. В частности, значительной трансцендентальной спецификой отмечены понятия созерцания и способности воображения, играющие центральную роль в кантовской эпистемологии. Способность воображения, по Канту, – более узкое понятие, одна из частных разновидностей созерцания, определяемая в «Критике чистого разума» как «способность представлять предмет также и без его наличного присутствия (Gegenwart) в созерцании»[130 - Ib. S. 192.]; в другом тексте аналогичная дефиниция еще отчетливей: «Способность воображения (facultas imaginandi) есть способность созерцания также и без наличного присутствия предмета»[131 - Id. Anthropologic in pragmatischer Hinsicht. Ges. Schriften. Bd. 7. Berlin, 1907. S. 167.]. Кантовская трактовка этой категории познания абсолютно отлична от трактовки Декарта, видевшего в воображении лишь замутняющую помеху для целенаправленного продвижения познающего разума. По Канту, напротив, роль воображения конструктивна и позитивна; он выделяет целый ряд видов этой способности (чистая, продуктивная, репродуктивная и др.), разбирает ее ценные синтезирующие и созидающие (schaffende) возможности и как мы видели, наделяет трансцендентальную способность воображения ключевой функцией в когнитивном акте: функцией, сводящей воедино апперцепцию и созерцание. Характерно, однако, что место, отводимое воображению в общей структуре познавательных способностей, остается при этом неизменным: тем самым, которое некогда для него нашел Аристотель. В «О душе» Стагирит устанавливает тройственный порядок, помещая воображение, ???????? между чувственным восприятием, ???????? и разумным пониманием, ?????? (см. 427b); и этот порядок закрепляется на всю историю мысли. При всех различиях Декарта и Канта, оба классика, следуя за Первым, воспроизводят тройственную эпистемологическую структуру, ставшую универсальной: чувственное восприятие – воображение – апперцепция. Кант именует эту триаду «субъективными источниками познания, на которых базируется возможность опыта вообще».
Что же до созерцания, то система его нагрузок, функций и связей столь обширна, а концептуальная структура столь богата, что есть все основания говорить о присутствии в составе трансцендентальной философии особой «трансцендентальной теории созерцания». Однако для нас нет никаких оснований эту теорию излагать; для нашей темы интересен, пожалуй, всего один ее пункт: ее отношение к зрительной парадигме познания, что даже не с Аристотеля, а с Платона, была магистральным руслом европейской когнитологии, основываясь на оптической аналогии или метафоре, т. е. на представлении деятельности познающего разума по образцу активности зрения. Тут ярко выступают специфические черты кантовского стиля мысли. В контексте философской традиции, позиция Канта отказывается представлять проработку разумом умственного предмета в оптической парадигме, как рассмотрение интеллигибельного предмета, «умное зрение», «интеллектуальное всматривание» и т. д. и т. п. В его терминах, зрительная метафора должна была бы выражаться понятием «интеллектуального созерцания». Он ясно видит всю логику, толкающую к введению этого понятия, не раз подходит к нему вплотную, обсуждает его, признавая, что «нельзя утверждать, что чувственное (Sinnlichkeit) есть единственный возможный вид созерцания»[132 - Id. Kritik der reinenVernunft. S. 341.]… и – и отказывается его вводить. Это, однако, не порождает лакуны в его построениях. Будучи магистральным, русло оптической парадигмы все же никогда не было единственным, ибо, очевидным образом, проработка интеллигибельного предмета может также вестись по иным принципам, в русле аналитики суждений, или же «аналитической философии», в обобщенном смысле. У Канта же все когнитивные функции, которые несло бы «интеллектуальное созерцание», принимает «понятие» или «мышление», «понятийное мышление» и т. п., так что (чистое) познание «состоит из понятия и созерцания» (причем Кант, не подпадая под влияние платоновского учения об идеях, не сближает свое понятие и понятийное мышление с оптической парадигмой). Первой из названных сфер познания занимается, как известно, трансцендентальная логика, второй – трансцендентальная эстетика; вся трансцендентальная философия представляется как сумма сих двух, а мы сегодня заключаем, что от эпистемологии Канта нити ведут к обоим современным направлениям в теории познания, и к феноменологии (лежащей в «оптическом» русле), и к аналитической философии (уже в современном смысле). При этом, можно напомнить, что понятие интеллектуального созерцания, от которого Кант упорно уклонялся, было-таки введено его продолжателями еще при его жизни[133 - Первой попыткой историки признают здесь текст Ф. Гельдерлина «Суждение и бытие» (1795, опубл. 1961; приношу признательность проф. П. Элену (Мюнхен) за указание на эту работу). При этом, у Гельдерлина понятие не только вводится, но и играет решающую роль в трактовке когнитивной проблемы, давая возможность провести идею его «философии объединения» (Vereinigungsphilosophie) об изначальном единстве, в котором снимается противостояние субъекта и объекта (ср.: «В понятии разделения уже заложено понятие взаимной связи субъекта и объекта и необходимое предположение целого, частями которого служат объект и субъект». F. H?lderlin. Urtheil und Seyn // Id. S?mtl. Werke. M?nchen, 1992. Bd. II. S. 50).], вошло в арсенал классического немецкого идеализма и имело содержательную дальнейшую историю. Но нам для понимания кантовских концепций более существенно увидеть причины отказа от понятия: они связаны с сильной апофатической окрашенностью всей кантовской трактовки интеллигибельного предмета, ноумена. Ноумен, он же пресловутая вещь в себе, для Канта не может быть полноценным содержательным понятием: «Понятие ноумена – просто граничное понятие (Grenzbegriff) для того, чтобы ограничить притязания чувственного, и потому имеет лишь негативное употребление. Оно… совпадает с ограничением [области] чувственного, не будучи способно установить нечто положительное, помимо границы (Umfang) этой области»[134 - I. Kant. Kritik der reinen Vernunft. S. 341]. Кант утверждает также, что интеллектуальное созерцание есть род созерцания, доступный лишь бесконечному существу, составляющий Божественную прерогативу; и в свете этого, не лишены известной почвы мнения, согласно которым подчеркнутое выделение Кантом определенных сфер непознаваемого – и, в частности, концепция вещи в себе – несет отпечаток его пиетистской религиозности.
* * *
Не раз уже подчеркнутая нами «антиантропологичность» европейской философии сказывается, в частности, в том, что у Канта, как и ранее у Декарта, мы не найдем антропологии, которая была бы представлена как таковая и собрана воедино, в готовом отдельном виде. Поэтому всякое изложение их антропологии необходимо носит характер реконструкции. В случае Декарта, принципы этой реконструкции были просты и очевидны: мы констатировали, что к декартовой антропологии следует относить три большие темы его учения: концепцию или конституцию субъекта (хотя и не сведенную воедино, но требующую лишь несложного извлечения), теорию «механического тела» и учение о «смешанных», т. е. духовно-телесных явлениях (протопсихологию). Хотя само учение Декарта, по нашей терминологии (см. начало раздела), и не было «философией человека», однако результат соединения этих частей еще сохранял явную антропоморфность и мог рассматриваться как некоторый (пусть и весьма специфический, редуцированный, etc.) образ человека, как «Человек Картезия». В случае же Канта, ситуация куда менее прозрачна. Предмет диктует правила обращения с ним: реконструкция антропологии Канта должна была бы начинаться с вопроса об основаниях и способе реконструкции, кантовского вопроса: «Как возможно?» Однако мы уже знаем – исходя из указаний самого Канта – что попытка реконструкции кантовской антропологии таким ортодоксально трансцендентальным путем равнозначна, на языке Хайдеггера, «обоснованию метафизики в повторении», а в нашей терминологии, выстраиванию особого мета-дискурса над трансцендентальной философией «Критик». Подобное предприятие заведомо не вместимо в наше обозрение европейской антропологической модели, и мы будем вынуждены следовать, в терминах Канта, скорее эмпирическому, чем трансцендентальному методу: рассматривая трансцендентальную философию как внешний предмет, производить дескрипцию его антропологических содержаний, однако и дополнять ее – тем самым, все же поднимаясь над эмпиризмом – анализом природы этих содержаний и их интегрирующим структурированием с новых позиций. Непрозрачность же в том, что кантов дискурс в своих принципах и контурах не имеет уже никакой сообразности человеку, антропоморфности (что, как известно, в Европе считалось философским достоинством), и реконструкция, в известной мере, вынуждена двигаться наугад: в отличие от ситуации с Декартом, мы почти не представляем заранее, каким путем и в какой образ человека сойдутся – да и сойдутся ли? – находимые антропологические элементы.
Нет, однако, сомнения, что главным антропологическим локусом, средоточием антропологического содержания философии Канта служит субъект, и более точно, познающий субъект (именно его мы будем ниже понимать под «субъектом» – пока не пойдет речь о субъекте нравственном). Так было и у Декарта. При общем критическом отношении к предшествующей философии (естественном у мыслителя, стремящегося начать свою философию если и не совсем с чистого листа, как Декарт, но с нового метода), Кант, в целом, принимает исходные позиции его метафизики: «Проблематический идеализм Картезия… разумен и согласуется с обоснованным способом философского мышления»[135 - Ib. S. 303–304.]. Преемственная роль Канта по отношению к Картезию особенно прямо выступает как раз в теме субъекта: развитие концепции субъекта у Канта в ее главных чертах осуществляется в ходе критического анализа соответствующей концепции Декарта и декартовой «Первой истины», тезиса Cogito ergo sum. Как заранее ясно, Кант принимает основу и общее направление открытого Декартом подхода к теории познания: а именно, представление когнитивного акта и процесса в субъектной перспективе; но он расходится с ним в методологическом аспекте, поскольку с позиций трансцендентального метода, мысль Декарта заведомо слишком эмпирична, близка к натуралистическому описанию и недостаточно входит в проблематику оснований познания. Первое, что не раз подчеркивает Кант, – «Я мыслю есть эмпирический тезис», и он дает свою интерпретацию положения Cogito ergo sum, находя в нем иные основания и иную смысловую структуру: «Я мыслю есть эмпирический тезис, и он содержит в себе тезис “Я существую”. Однако я не могу сказать: все, что мыслит, существует… Поэтому мое существование не может быть усмотрено как следствие из тезиса “Я мыслю”, как это утверждает Картезий… но оно тождественно этому тезису… Надо заметить, что когда я называю “Я мыслю” эмпирическим тезисом, я не хочу сказать, что Я в этом тезисе есть эмпирическое представление; скорей, оно чисто интеллектуально, поскольку принадлежит к мышлению вообще»[136 - Ib. S. 439–440.]. В своем критическом пересмотре декартовой концепции субъекта (Я, духа) и его «Первой истины», Кант совершает их «трансцендентальное претворение», трансформацию в трансцендентальный дискурс, и, как мы уже видим, для этой цели им, прежде всего, проводится строгое разнесение, разведение эмпирического и «чистого» горизонтов; аналогичное разведение требуется и для аналитических и синтетических суждений.
Самые существенные отличия концепции субъекта у Канта – не столько в свойствах субъекта как такового, сколько в особенностях его места и роли в трансцендентальной философии. «Трансцендентальное претворение» субъекта само по себе не совершает с ним никаких разительных превращений. Он сохраняет все старые имена: Я, Душа («Я, как мыслящий, есмь предмет внутреннего чувства и называюсь душой»[137 - Ib. S. 421.]), он наделяется субстанцией (как и велит Аристотель, кантова «душа есть субстанция. По своему качеству, простая»[138 - Ib. S. 423.]); что же до новых свойств, то, как любой предмет трансцендентальной философии, он раздваивается на (эмпирическое) явление и (интеллигибельную) вещь в себе, а также приобретает дополнительный аспект «трансцендентального субъекта, который эмпирически нам неведом». Но этот новый аспект не играет особенно активной роли. Главное в другом: через посредство субъекта, как мыслящего и познающего агента, определяются и вводятся в аналитику когнитивного акта все понятия и категории этой аналитики. Разумеется, иначе и быть не может; подобная функция субъекта – никак не специфика трансцендентальной философии. Однако специфика, и самая заметная, – в том, какую роль играет ансамбль этих понятий и категорий, сравнительно с ролью самого субъекта.
«Человеческий разум по своей природе архитектоничен, т. е. он рассматривает все знания как принадлежащие к некой возможной системе»[139 - Ib. S. 518.]. Мы не сказали бы, что этот тезис Канта бесспорен; но никак нельзя сомневаться в том, что он полностью верен относительно самого философа. Разум Канта в высшей степени, гипертрофированно архитектоничен, и все его «Критики» – бесконечная цепь демонстраций того, как любое понятие может стать поводом и плацдармом для выстраивания очередного комплекса понятий, очередной таблицы, топики, систематики… – причем эти комплексы отнюдь не рядополагаются в простую линию, в список, но, в свою очередь, образуют комплексы комплексов, стройные многомерные конструкции, подлинную архитектуру понятий: Кант мастер в выборе терминов. Мы уже могли видеть образчик этой архитектуры в представленной выше схеме конструкции чистого познания: каждая из ступеней этой конструкции означает появление новой понятийной системы, введение новых методологических и эвристических принципов. Будучи связаны многообразными отношениями, категории и понятия, образующие эту архитектонику чистого разума, составляют между собой sui generis сообщество, республику категорий. Но вот что здесь для нас важно: в этом многообразии связей, определяющих строение и функционирование сообщества категорий – а тем самым и конституцию познания – связь с субъектом, как правило, уже не играет никакой роли! Субъект послужил некогда средством введения категорий. Это не отрицается и не забывается, однако оказывается на поверку третьестепенным: в возникшей архитектонике познания, категории выступают не как отнесенные к субъекту, но всего лишь как принесенные им; и это формальное происхождение, общее для всех категорий, совершенно не существенно для тех реальных и очень разных функций, какие они несут в познании. De facto, кантовская конституция чистого познания – аналитика и архитектоника самодовлеющего сообщества категорий.
Все это означает, что в кантовой конституции познания совершается низложение, низведение субъекта: он перестает быть конституирующим принципом этой конституции и не является производящим началом дискурса трансцендентальной философии. Для того же, чем он становится здесь, Кант, мастер терминологии, в очередной раз находит отличный термин – транспортное или перевозочное средство (Vehikel)[140 - В качестве продолжения старой темы «Кант и черт» в русской мысли (недавнее ее резюме см. в статье А.В. Ахутина «София и черт», вошедшей в его книгу «Поворотные времена», СПб., 2005), напомним, что в знаменитом русском романе описано превращение субъекта – управдома Николая Ивановича – именно в «перевозочное средство», с выдачею и справки о том. При этом, указанное превращение совершается дьявольскими силами и входит в организацию бала сатаны – аналогом коего и оказывается, таким образом, конституция чистого познания у Канта.]: «Понятие или, если угодно, суждение: Я мыслю… есть транспортное средство вообще всех понятий, в том числе, и трансцендентальных… Тезис: Я мыслю… содержит форму вообще всякого суждения разума и сопровождает все категории как их транспортное средство»[141 - I. Kant. Op. cit.S. 420, 426.]. Кант показывает и механизм этой транспортной функции субъекта: «Я мыслю… [есть] положение, выражающее восприятие своей самости (selbst)… Это внутреннее восприятие есть не более чем простая апперцепция: Я мыслю, которая делает возможными даже и все трансцендентальные понятия, в которых она именуется (heifit): Я мыслю субстанцию, причину и т. д.»[142 - Ib. S. 421.]. Еще полней данный механизм раскрывает Хайдеггер, комментируя это место Канта: «Однако Я мыслю всегда уже есть “Я мыслю субстанцию”, “Я мыслю причинность”, и соответственно, “в” этих чистых единицах (категориях) оно уже “именуется”: “Я мыслю субстанцию”, “Я мыслю причинность” и т. д. Я есть “транспортное средство” категорий, поскольку оно в своем продвигающемся обращении-к (Sich-Zuwenden-zu)… выводит их туда, откуда они как упорядочивающие представляемые единицы (Einheiten) могут осуществлять единение (einigen). Т. о., чистый разум есть “из себя” представляющее предобразование (Vorbilden) горизонта единства»[143 - M. Heidegger. Op. cit. S. 138.].
Итак, в трансцендентальной философии конституция (чистого) познания переходит из субъектно-центрированной организации, какую она имела у Декарта, в форму систематики самодовлеющего сообщества категорий, трансцендентальных предикатов. Обоснование этой глубокой структурной перестройки у Канта (а следом, и у Хайдеггера) оставляет, в целом, впечатление, что за нею лежат как предметные аргументы (в частности, достаточно основательная критика внутреннего опыта как источника чистого познания), так все же и субъективные мотивы, гипертрофированная «архитектоничность» кантова разума, рождающая тягу к трудноостановимому умножению концептуальных схем и конструкций. Данная перестройка несет и немалые антропологические последствия. Как мы говорили в Разделе 3, уже и организация философии вокруг фигуры субъекта, в корне не совпадающего с человеком, питает антиантропологические тенденции. А когда даже и такая фигура удаляется «на конюшню», и философия превращается в дискурс с бесфигурным типом организации – совершается крупный дальнейший шаг по пути де-антропологизации, расчеловечения философской речи.
Стоит рассмотреть ближе род и степень этого расчеловечения или, иными словами, охарактеризовать способ отсутствия (разъятия, разложения) субъекта в трансцендентальной философии. Предельной степенью является анатомическое разъятие, но как легко видеть, у Канта еще не достигается этой степени. Категории чистого познания суть (трансцендентальные) предикаты и как таковые, они характеризуют деятельного, а не умерщвленного субъекта. Это подсказывает другую метафору, другой род разъятия: папка доносов, досье, либо научный дневник наблюдений за подопытным существом – т. е. собрание отчетов о действиях субъекта. Но здесь степень отсутствия, разъятия оказывается, наоборот, недостаточна: если из доносов или научных наблюдений возможно, в принципе, сложить полную картину деятельности субъекта, его «портрет» в деятельностном измерении, то в «папках» трансцендентальной философии находятся не сами действия, а их всяческие проекции, отражения: действия под углом трансцендентальной аналитики или диалектики, паралогизмов, антиномий или идеалов и т. д. и т. п. Сложить из таких отражений фигуру деятельного субъекта – не говоря уж о человеке – невозможно. Если же уточнить этот вывод, он в точности совпадает со сказанным выше: «сложить фигуру человека», т. е. ответить на вопрос «Что такое человек?» в трансцендентальной философии возможно лишь путем выстраивания над этой философией некоторого мета-дискурса.
Однако присутствие человека в философии Канта не ограничивается присутствием-отсутствием познающего субъекта в когнитивной перспективе чистого разума. Безусловно, эта перспектива – средоточие мысли Канта, ее ядро, из которого поверяются все другие разделы его философии; и потому находимое здесь антропологическое содержание надо считать главной и определяющей частью антропологии Канта. Именно оно определяет характер того, что же за «весть о человеке» являет собой кантовский этап Европейской Антропологической Модели. Однако в других разделах кантовой философии – прежде всего, в его этике – речь о человеке бывает даже более явной и более развернутой; и поскольку здесь она более проста, облечена в более доходчивую форму, то эти другие части антропологии Канта, хотя, в конечном счете, и не могли быть решающими для судеб модели, но были известны шире и пользовались большим влиянием.
Если бы мы только что не рассмотрели архитектонику чистого разума, то, разумеется, ожидали бы, что сфера практического разума, т. е. нравственных действий человека, организуется вокруг фигуры протагониста сферы, совершителя этих действий: нравственного субъекта. Мы его, действительно, здесь находим: «Человек есть субъект нравственного закона»[144 - I. Kant. Kritik der praktischen Vernunft. S. 151.], – пишет Кант; но этот тезис обнаруживается лишь в заключительных разделах «Критики практического разума» и никак не представляет собой ведущего принципа, который определяет способ раскрытия предмета. Способ раскрытия оказывается совсем иным, отнюдь не организованным вокруг фигуры нравственного субъекта, и в этом нет ничего странного или удивительного. Зрелое и окончательное изложение этической концепции Канта появилось в форме второй из его «Критик» в том же 1787 г., что и окончательная вторая редакция «Критики чистого разума». Мы видели, какова участь субъекта в этой главной «Критике», где он был «познающим субъектом», и понимаем, что нет никаких причин, в силу которых нравственный субъект во второй «Критике» мог бы получить какую-либо принципиальную иную участь. Как заранее ясно, мы находим здесь тот же новоизобретенный философский метод: трансцендентальный метод, и ту же постановку проблемы: в форме вопроса об основаниях. В «Критике чистого разума», как мы говорили, Кант отправлялся от обычного, «школьного» представления своего времени о предмете – вскрывал отсутствие в этом представлении рефлексии оснований предмета – и развертывал самое фундаментальное решение проблемы оснований, дополняя дескрипцию предмета новым обосновывающим горизонтом (горизонтом онтологического познания) – так что в этом горизонте, за счет него, и вся картина предмета представлялась совершенно по-новому, в новых координатах, новой систематике и архитектонике понятий. В общем и целом, исследование нравственной сферы у Канта развивается в аналогичной логике.
Роль отправной «школьной» трактовки предмета исполняет общий каркас традиционной этики, эмпирически ориентированной и в общих понятиях, установках восходящей к Аристотелю (ср. краткое обсуждение его этики в Разделе 1). Кантова аналитика этого предметного поля, устанавливая в нем начальные дефиниции и взаимосвязи, выявляет ограничения, налагаемые эмпирической природой его принципов и положений. Кант квалифицирует эти принципы как «материальные» («Я понимаю под материей способности желания тот предмет, реальность которого является желанной»[145 - Ib. S. 23.]) и показывает их недостаточность для получения всеобщих законов. «Все материальные практические принципы как таковые суть одного и того же рода и подпадают под общий принцип любви к себе (Selbstliebe) или собственного блаженства (Gl?ckseligkeit)… практические предписания, которые на нем [принципе любви к себе] основаны, никогда не могут быть всеобщими»[146 - Ib. S. 24, 29–30.]. Но одновременно усматривается и способ продвижения в нужном направлении: «субъективные максимы» могут мыслиться как практические всеобщие законы для воли всякого разумного существа, если они будут рассматриваться «как такие принципы, которые в качестве определяющей основы воления содержат не материю, а лишь одну форму»[147 - Ib. S. 31.]. С этим направляющим указанием, как на средних стадиях конституции чистого познания, начинает формироваться фонд опорных понятий и установок, имеющих в той или иной мере уже отличную природу, способных служить для построения обосновывающего горизонта. Весьма быстро, единой взаимосвязанной группой, здесь возникают центральные концепты кантовской этики: свобода, долг, безусловный «нравственный закон» (он же «категорический императив» и «всеобщий практический закон, который дает человеку чистый разум»); затем к ним постепенно присоединяются «внемлющее почитание» (кантова Achtung, несомненно, есть предикат, включающий в себя «внимать»[148 - Трактовка предиката Achtung у Канта весьма любопытна, и представляло бы интерес отдельно рассмотреть ее антропологическое содержание. Хайдеггер находит, в частности, что кантово «почитание конституирует сущность личности как нравственное Я (Selbst)… оно должно представлять собой некоторый род самосознания». (М. Heidegger. Op. cit. S. 143).]), «человечность» (Menschheit) и «личность» (Pers?nlichkeit) в человеке, принцип «человек есть цель в себе». Излишне напоминать определения и свойства элементов этого фонда, но существенно подчеркнуть их статус. На центральных стадиях конституции чистого познания, ключевые концепты этой конституции первоначально возникали (см. выше) как «предположительно существующее», как то, что пока лишь должно составить содержание конституируемого обосновывающего горизонта. Точно такой же характер первоначально носят и ключевые концепты нравственной сферы; изменяется лишь характер или окраска долженствования: в сфере практического разума, оно также становится из логического практическим, нравственным. Философ констатирует: есть безусловная практическая необходимость в том, чтобы свобода, долг, нравственный закон были объективной реальностью. Они суть именно, что требуется обосновать. Остается доставить само обоснование.
По классической диалектике основы, обосновывающие начала должны быть независимы по отношению к обосновываемой сфере, должны иметь иную природу. В области чистого познания, обоснованием гносеологического акта выступает онтологическое (трансцендентальное) познание; вольно выражаясь, Кант открыл, что обосновывающие начала для гносеологии доставляет онтология. Описанный ход конституции нравственной сферы, с его постоянною параллелью конституции познания, уже предвещает, что же произойдет на заключительной и решающей стадии этой конституции: мы должны убедиться, что обосновывающим началом для нравственной сферы выступает «практическая онтология»: религия. Именно эту задачу и выполняет «диалектика чистого практического разума», последний раздел в главной части второй «Критики».
Выполнение задачи происходит классическим кантовским образом: вводится завершающее и верховное понятие всего этического дискурса, «высшее благо» (игравшее эту роль уже в античности и трактуемое у Канта как «безусловная полнота (Totalitat) предмета чистого практического разума», «заданный априори объект нравственно определенного воления») – после чего ставится вопрос: Как высшее благо практически возможно? Коль скоро высшее благо объединяет весь «предмет чистого практического разума» и есть притом «не просто объект, а и его понятие», то к нему сходятся все нити и к нему возводятся все понятия; и в силу этого, поставленный вопрос является исчерпывающим вопросом об основаниях нравственной сферы в целом. Развертывание этого финального вопрошания и выводит в религиозное измерение: «Нравственный закон путем понятия высшего блага как объекта и конечной цели чистого практического разума ведет к религии, т. е. к познанию всякого долга как божественного веления (Gebot), не как санкции, т. е. произвольного и для себя самого случайного подчинения чужой воле, но как сущностного закона каждого свободного воления самого по себе, который, однако, должен рассматриваться как веление высшего существа»[149 - I. Kant. Op. cit. S. 148–149.]. Конкретный же механизм подведения религиозной базы заключается в принятии постулатов чистого практического разума. Именно они делают «практически возможным» высшее благо; а каковы их содержание и природа, лучше всего излагает сам Кант: «Эти постулаты являются не теоретическими догматами, а предположениями, необходимыми в практическом отношении, так что они не расширяют спекулятивного познания, но придают объективную реальность идеям спекулятивного разума во всеобщем (благодаря своей связи с практическим)… Эти постулаты суть бессмертие, свобода, рассматриваемая положительно (как причинность некоего существа, поскольку оно принадлежит интеллигибельному миру) и существование Бога. Первый вытекает из практически необходимого условия соизмерения продолжительности с полнотой исполнения нравственного закона; второй – из необходимой предпосылки независимости от чувственного мира и способности определять свою волю по законам интеллигибельного мира, т. е. свободы; третий – из необходимости условия такого интеллигибельного мира быть высшим благом, для чего надо предположить высшее самодовлеющее благо, т. е. существование Бога»[150 - Ib. S. 152. (Курсив Канта).]. Смысл этой операции постулирования вполне очевиден: Кант говорит, что нравственное осмысление реальности должно предположить возможность высшего блага (Постулат 3), а, следовательно, также и его природные условия (Постулат 1) и метафизические условия (Постулат 2). Связь же с нравственным законом, стоящим также в вершине этического дискурса, Кант характеризует так: «Идеи Бога и бессмертия являются не условиями нравственного закона, но только условиями [существования] необходимого объекта для воления, определяемого этим законом»[151 - Ib. S. 4.].
Конституция нравственной сферы на этом обретает законченность. Что же касается религиозной сферы, введенной в качестве обосновывающего принципа, то она в заключительной части конституции получает содержательное, хотя и очень беглое описание. Возникают понятия святости, благоговения, разумной веры, – даже «Царствия Божия» (отождествляемого с интеллигибельным миром), вводятся некоторые предикаты Бога. Не менее существенны и негативные суждения в этой сфере, т. е. указания на то, чего в ней нет, чем она не может и не должна быть. У Канта их целый ряд, и наиболее существенны три. Во-первых, это уже затронутое выше отграничение от сферы (чистого) познания, которое повторяется не раз: Кант усиленно подчеркивает, что для спекулятивного разума религиозные понятия и идеи «теоретически проблематичны», остаются всегда лишь «трансцендентными и регулятивными» и не доставляют никакого расширения познания. Во-вторых, это полное отрицание традиционного направления «естественной теологии», делающей богословские выводы из рассмотрения устройства и явлений физического мира. И наконец, что особенно для нас важно, это также отрицание всей сферы мистического опыта и шире, аутентично религиозного опыта, не сводимого к нравственному и способного доставлять подлинное, хотя бы и глубоко специфическое, Богопознание и Богообщение. Вкупе, эти отмежевания влекут четкий вывод: единственная сфера и единственное оправданное назначение религии – обоснование этики.
Возникающая трактовка религии опять-таки имеет близкую параллель в сфере чистого познания. В этой сфере весьма аналогичную трактовку получала онтология (и в известной мере, концепция трансцендирования): она также привлекалась в качестве обосновывающего принципа – тем самым, вбиралась в основоустройство соответствующей (когнитивной) сферы – и в заключение, Кант доказывал, что принимаемая ею там форма «когнитивной онтологии» есть единственная корректная и правомочная онтология вообще. Точно таким же образом, кантова этика поглощает религию, редуцируя ее к исполнению обосновывающей функции в своем составе. При этом этический субъект всецело поглощает религиозного, и понятие Бога делается чисто моральным понятием. Ход построений Канта неумолим и не делает исключений: говоря современным сленгом, во второй «Критике» Кант употребляет религию, как в первой он употребил онтологию, трансцендирование и субъекта. С еще большею резкостью это редуцирующее употребление проводится в «Религии в границах только разума», где, в частности, мы найдем общий категорический тезис: «Как положение, не требующее доказательства, я принимаю следующее: все, что, как полагают, человек может сделать угодного Богу, помимо доброго жизненного пути, есть пустое религиозное заблуждение и мнимое служение Богу»[152 - Id. Die Religion innerhalb der Grenzen der blo?en Vernunft. Ges. Schriften. Bd. 6. Berlin 1907. S. 170.]. Однако не безразлично и то, к какой именно служебной функции редуцируется религия. Редуцирующим, сводящим к служебной функции мы нашли и учение о Боге у Декарта (см. Раздел 3), но если у Канта Бог необходим как гарант безусловности нравственного закона, то у Декарта – как гарант безусловности законов и истинности результатов познания. И мы видим, что сдвиг служебной функции из когнитивной сферы в нравственную существенно меняет окраску отношения к Богу, тип религиозности. Тексты двух классиков ясно показывают: если «Бог как гарант познания» – позиция деизма, стремящаяся максимально дистанцировать Бога, то «Бог как гарант нравственности» – позиция пиетизма, способная включать в себя искреннее благочестие и благоговение.
Из других особенностей описанной конституции стоит отметить ее очень высокую постулативность, перегруженность «предположениями, необходимыми в практическом отношении». Подобный характер у Канта носят не только положения, прямо названные постулатами, но, на поверку, и многие другие, например, следующий важный тезис: «Человеческая природа определена стремиться к высшему благу»[153 - Id. Kritik der praktischenVernunft. S. 168.]. По сегодняшнему опыту человека, его знанию о себе, этот тезис уже и не просто утопичен, скорее он лунатичен и смехотворен. Поэтому постулативность кантовой этики, влекущая постулативность и его антропологии, требует внимательного взгляда. Такой взгляд дает поучительные выводы. Первые возникающие впечатления – совсем не философского рода: мы различаем внутренние пружины, пафос, питающий и направляющий мысль Канта, – и мы не можем не воскликнуть: какой редкий, чудесный человек! Как за каждой строкой Декарта сквозит неукротимое стремление к ясному и достоверному знанию, так за строками второй «Критики» проступает нравственный пафос, непоколебимая нравственная основаличности самой высокой пробы. Нравственное основание человека и бытия для Канта – последняя и высшая достоверность, и все его постулаты, явные и неявные, суть выражения этой внутренней, «практической» достоверности. Вся же вторая «Критика» – истовая служба Нравственному Закону. Однако философ Кант, увы, отличный от Канта – нравственного субъекта, учит нас ставить вопросы, и мы не можем здесь не спросить: Но как же возможны вместе «достоверность» и «лунатичность»? И в свете этого вопроса, следом за поучительным личным аспектом, открывается не менее поучительный исторический аспект.
Сегодня этике Канта два столетия с лишком. Ровно половину этого срока назад, исследователь и издатель Канта Карл Форлендер писал в предисловии к новому изданию второй «Критики»: «Кант стал поистине Ньютоном этики. Он дал морали то, что дал математическому естествознанию автор “Philosophiae naturalis principia mathematica”: такие методические основания, которые лишь одни обещают долговечность и хотя в деталях допускают усовершенствование, но в последних основах не могут быть ни разрушены, ни заменены. Наше время признало это даже в более высокой степени, чем современники философа»[154 - К. Vorlander. Einleitung //I. Kant. Op. cit. S. XLI.]. Мы бы несколько умерили данную здесь оценку кантовых свершений: этика Канта все же явно не обладала ни таким размахом и новизной, ни такой окончательной неоспоримостью своих оснований, как физика Ньютона. Ее зависимость от предшествующих концепций куда более значительна, и в своем общем типе она остается традиционной эссенциалистской и аристотелианской этикой, телеологичной и нормативной. Но в целом, конечно, слова Форлендера – справедливый баланс исторического пути этой этики за первый век ее жизни. Баланс за следующий век оказался диаметрально противоположным. Сегодня мы едва ли можем считать трансцендентально-религиозные основания кантовой этики более «нерушимыми», чем, скажем, основания этики предустановленной гармонии Лейбница-Панглоса: разрушены и те, и другие целиком. Тем самым, наш вопрос получает ответ, отсылающий к истории: в течение второго века своей жизни, кантовы постулаты стали из «достоверных» – «лунатичными». Но это, разумеется, не весь ответ. Отсюда следует, что сама достоверность постулатов была отнюдь не той, которую утверждал Кант: не абсолютной, а лишь относительной, историчной. Основания кантовой этики (как, впрочем, и всех этик в традиционном русле) оказались несостоятельны в том качестве, на которое они притязали: в качестве оснований нравственных свойств и поведения человека как такового, в его предполагавшейся вневременной сущности и безотносительно к эпохам его истории. И ясно, что истоки этой несостоятельности лежат уже не в этической сфере: они заключаются в некой не ожидавшейся радикальной изменчивости человека, некой антропологической динамике, само существование которой противоречит основам традиционных представлений о человеке, – и для своего понимания они требуют выхода в более широкий антропологический контекст, требуют новой фронтальной постановки проблемы человека.
Подобный выход мы попытаемся наметить в заключительной части этой главы. Сейчас же следует довершить наше обозрение антропологии Канта и прежде всего, характеристику нравственного субъекта, о котором еще надо сказать несколько слов. Поставив религию на службу собственной цели, нравственный субъект чрезвычайно вырастает в своем положении и значении; утверждается безусловный примат этического дискурса в системе ценностей. «Нравственный закон свят»[155 - I. Kant. Op. cit.S. 102.], и человек как существо, свободно следующее этому закону, обладает неотчуждаемым достоинством. Существует «нравственная ценность личности, а не только действий» человека, «человечность» (Menschheit) в личности человека следует почитать и беречь… – и вкупе это все значит, что религиозное обоснование этики оказывается далее у Канта обоснованием гуманистического дискурса ценности и достоинства человека. Этот гуманизм Канта – заметная черта его этики и антропологии, причем он утверждается в умеренном, взвешенном варианте, где нет ни крайностей гуманистической риторики Ренессанса с ее богоборческими нотами и непомерным возвеличением человека, ни антиклерикальных мотивов, обычно присущих гуманизму Просвещения, как и вообще большинству видов секуляризованного гуманистического дискурса. С другой стороны, он все же не может быть отнесен к руслу «христианского гуманизма»: при всей расплывчатости этого термина, он, тем не менее, определенно предполагает самостоятельное место и значение религиозной сферы; и отрицание собственных целей и задач этой сферы, не сводимых к этике, твердо свидетельствует, что кантовский гуманизм носит секуляризованный характер.
Дальнейшим развитием гуманистической тематики служит тема о положении человека в мироздании, в природе, выводящая, в свою очередь, к теме культуры. Как известно, концепт природы – предмет особой разработки у Канта, которая основывается на старом аристотелианском принципе тотального телеологизма (и потому развивается в разделе «Критика телеологической способности суждения» в третьей «Критике»). Поскольку же кантов человек, будучи взят как вещь для себя, явление, есть «природное существо», то данная разработка включает важные антропологические аспекты, служащие необходимым дополнением к речи о человеке как «разумном существе» в двух первых «Критиках». В силу телеологического принципа, природа есть «телеологическая система», в которую и входит человек как природное существо. Соответственно, проблема «Человек и природа» принимает форму вопроса: Какова конечная цель природы в отношении человека? Кант обнаруживает здесь альтернативу: искомая цель может относиться либо к человеку и человечеству самим по себе, взятым отдельно и изолированно, вне отношений как с внешней, так и внутренней природой, – либо же человеку и человечеству, взятым во взаимосвязи, взаимодействии с природой. Как находит философ, единственной мыслимою целью первого рода является счастье человека, когда он достигает своего удовлетворения при благорасположении природы. Цель же второго рода означает, по Канту, полную сообразованность человека с природой, «пригодность и приспособленность к любым разнообразным целям, для которых природа (внешняя и внутренняя) могла бы употребляться человеком»[156 - Id. Kritik der Urteilskraft. Stuttgart, 1991. S. 426.]. Кант делает решительный выбор в пользу второй возможности, с которой он связывает понятие культуры.
«Выработка приспособленности разумного существа вообще для произвольных целей (как следствие его свободы) есть культура. Только культура может быть конечной целью, которую есть основание приписать природе в отношении человеческого рода (а не его собственное счастье на земле или попросту [участь] быть совершеннейшим орудием, создавать порядок и освещенность внеразумной природы вне него)»[157 - Ib. S. 429. (Курсив Канта).]. Без последней части этого тезиса можно было бы решить, что концепция культуры у Канта означает, в первую очередь, техническую и умственную универсальность человека, которая обеспечивает полноту владения обстановкой, способность выполнения любых встающих задач. Несомненно, этот аспект универсальности – универсальной сообразительности, мастеровитости, орудийности – присутствует в кантовском понятии; далее он находит развитие, напр., в идее, которую можно назвать экологической: Кант утверждает, что в деятельности человека «устанавливается известное равновесие между производящими и разрушительными силами природы». Однако последнею частью тезиса Кант подчеркивает, что в сферу культуры входят и отношения с внутренней природой, «натурой» человека. Более того, мысль Канта ориентирована гораздо более гуманитарно, чем мысль Декарта, и в его разработке концепции на первый план выступают именно «внутренние» аспекты.
Кант говорит о культуре нравственного чувства, вкуса, эстетических суждений, развивает идеи окультуривания, культивации способностей и наклонностей человека, нравственных свойств и прочих сторон его натуры. Он также утверждает необходимость «развития человечности», т. е. постепенного «преодоления склонностей, которые больше принадлежат звериному в нас и сильнее всего противятся образованию, движущему нас к нашему высшему определению»[158 - Ib. S. 432.]. Поскольку же высшее определение человека – следование нравственному закону, то эта концепция культуры (родственная и преемственная античному идеалу «пайдейи») также оказывается в связи с нравственным законом, ставится в подчинение ему – чем вновь подтверждается и закрепляется примат этического дискурса. По логике, которую мы уже прослеживали, укорененность в высших, нравственных началах есть основание для высшего положения в окружающей реальности: так возникает антропоцентрическое решение проблемы положения человека в космосе. При этом, поскольку познание и разум также, конечно, входят в систему ценностей, а в культуре участвуют и познающий субъект, и нравственный субъект, то, по сути, именно субъект культуры (хотя Кант и не вводит такого особого понятия) оказывается вершиною мироздания. «Как единственное существо на земле, чей разум наделен способностью ставить себе цель по своему произволу, он [человек] есть титулованный господин природы[159 - Ib. S. 428.]… человек есть конечная цель творения… которой телеологически подчинена вся природа в целом»[160 - Ib. S. 435, 436.]. Как видим, гуманизм Канта получает здесь заметное углубление, дополняясь достаточно радикальным антропоцентризмом (при сохранении примата этического дискурса).
Своею подавляющей частью все антропологические содержания философии Канта принадлежат двум рассмотренным нами областям: аналитике познающего субъекта и аналитике нравственного субъекта (которые строятся, как мы видели, почти целиком без самих субъектов, в форме систематики предикатов). Поэтому не затронутыми у нас остались лишь несколько пунктов, которые относятся к беглому появлению на страницах Канта еще нескольких субъектов или точнее, элементов еще нескольких бесфигурных, однако субъектных аналитик. Так, в третьей «Критике» и в текстах помимо «Критик» можно найти элементы аналитики социального и политического, в меньшей мере – хозяйственного и правового субъектов. Некоторые из них – как, скажем, кантовские идеи войны и мира, понятие гражданского общества – имели заметное влияние в идейной истории Европы; однако все это, в основном, уже уводит нас в сторону от антропологии. Стоит только упомянуть кантовское понятие «гражданина мира» (Weltb?rger), как заключающее в себе, в принципе, антропологически существенную потенцию размыкания сознания индивида во всечеловеческую интерсубъективность. Однако в данном направлении это понятие у Канта не развивается.
* * *
Дальнейшая задача состоит в том, чтобы увидеть представленный опыт антропологии в контексте «европейской антропологической модели», как ее очередной этап. В нашей реконструкции этой модели, ее идейный каркас составляют «пять портретных черт», которые сейчас вновь следует напомнить: индивидуированность – дуалистичность – субстанциальность – гносеологичность – секуляризованность. Необходимо проследить судьбу каждой из этих черт в антропологии Канта, понять, сохраняется ли она и какой принимает вид. Встают и более общие вопросы: как изменяются взаимосвязи базовых черт, их относительная роль, важность? Можно ли по-прежнему считать их ансамбль основой, каркасом антропологической модели – или же каркас трансформируется, утрачивая одни черты и приобретая взамен новые? Наконец, приступая к ответам, мы сталкиваемся с еще более общим обстоятельством: независимо от судьбы конкретных черт, имеет место существенное изменение самого типа антропологии – подхода к человеку, способа представления человека. Более точно, мы имеем в виду изменение подхода не к человеку, а к субъекту, поскольку уже в антропологии Декарта непосредственным предметом стал, вместо человека, субъект. На этом этапе из антропологии исчез целостный подход к человеку, речь о человеке-в-целом, и мы отразили этот факт терминологически, приняв, что антропология Декарта обладает качеством «антиантропологичности» и не является «философией человека». Кант делает следующий крупный шаг по пути структурной деантропологизации, убирая фигуру субъекта из центра на задворки и придавая дискурсу структуру систематики самоорганизующегося сообщества предикатов. Этот шаг также влечет терминологические последствия: для дискурса с таким бесфигурным типом организации становится непригоден, неправилен термин «модель человека». В самом деле, всякая полноценная модель – действующая модель: такое представление предмета, которое, будучи упрощенным, неполным и т. п., в то же время сохраняет и представляет наглядно (в чем и смысл моделирования) главные принципы и ведущие элементы устройства предмета, причем в их собранности, в действии. Ум Декарта, в отличие от ума Канта, не столько архитектоничный, сколько именно моделирующий ум; и хотя в его антропологии отсутствовал человек-в-целом, но представление человека, тем не менее, было еще моделью: обозримой совокупностью элементов, показываемых в действии, – субъекта, живущего тела и явлений их сопряжения. Однако концептуальная архитектура Канта – не модельное представление; и кантовский этап европейской антропологической модели – уже не модель, а только антропология.
При обсуждении декартова этапа мы не раз подчеркивали ключевую роль свойства индивидуированности во всем идейном каркасе модели. Оно принципиально не может утратить эту роль, какие бы перипетии ни проходила модель; ибо именно к нему, к его воплощению, и направлялось создание модели, в нем ее цель и, если угодно, дефиниция: путь европейской антропологической мысли есть путь к индивиду, и затем – путь индивида. Однако на кантовском этапе обеспечение этого свойства уже не требовало новых значительных разработок. Конкретным выражение его в антропологическом дискурсе служит присутствие «предела индивидуации», «самодовлеющей мыследействующей единицы», и организация дискурса в перспективе, определяемой этим пределом. При этом, было бы естественно именовать предел индивидуации – индивидом; но, поскольку в учении Декарта этот предел есть Res cogitans, отсеченный от Res externa, от тела, то мы, сохранив для «мыслящей вещи» имя «(познающий) субъект», определили индивида как «мыслящую вещь» в сопряжении с телом (что и отвечало декартовой концепции человека, «человеку Картезия»). Как мы видели выше, в главных основаниях Кант воспринимает декартову концепцию субъекта (хотя в ряде пунктов активно критикует ее, как обычно критикуют прямых предшественников). Отсюда следует, что и свойство индивидуированности сохраняет у него, в главных чертах, тот же смысл и статус. Удаление фигуры субъекта делает это свойство более имплицитным, однако не изменяет ключевых факторов, составляющих его выражение: конституция чистого познания в форме сообщества предикатов, хотя и не организуется «вокруг фигуры» субъекта, но тем не менее образует субъектную перспективу, а субъект, будь то на первом плане или нет, но присутствует в дискурсе и понимается, безусловно, как предел индивидуации. Больше того, поскольку дихотомия Res cogitans – Res extensa Кантом не принимается (к чему мы вскоре еще вернемся), то исчезает и почва для малоестественного различения между «пределом индивидуации» и индивидом: мы можем считать, что в антропологии Канта понятия «субъект», «индивид» и «предел индивидуации» совпадают между собой.
Следуя в общем русле, открытом мыслью Картезия, Кант поправляет, сглаживает его пионерские лобовые решения, методологически совершенствует их – нередко, весьма принципиально. Одну из главных таких коррекций мы встречаем в свойстве дуалистичности. Это свойство характерно для кантовой философии никак не менее, чем для учения Декарта, однако у Канта оно принимает иные формы. Инициировав и последовательно производя перевод философского дискурса в эпистемологический, когнитивный план, Декарт, однако, не проявил достаточной последовательности, строя свое дихотомическое членение реальности: дихотомия Res cogitans – Res extensa утверждается им не в перспективе чистого познания, но в качестве, с одной стороны, эмпирического тезиса (одного из результатов когнитивного Первоакта), а с другой стороны, догматического принципа в духе школьного аристотелизма, отвергаемого им же самим. Попытка проводить это натуралистическое и догматическое понимание дихотомии порождали цепь трудностей и несообразностей, сделав ее, как мы цитировали, «больным местом картезианства» (Вл. Соловьев). Кант заново пересматривает многострадальный Первоакт, на новых методологических основаниях. В призме трансцендентального метода, декартовская дихотомия Res cogitans – Res extensa исчезает, и на месте ее появляется новая дихотомия, уже соответствующая перспективе чистого познания. Эта фундаментальная дихотомия когнитивной перспективы имеет ряд выражений: ее полюсы соотносятся как сфера (чувственного) опыта и сфера (чистого) разума, как уровни эмпирического и чистого познания, как чувственный и интеллигибельный мир. В последнем случае надо иметь в виду, что Кант, как и Декарт, вовсе не склонен возвращаться на почву платонизма, и оба мира рассматриваются именно помещенными в когнитивную перспективу, как ее составные части. Чувственный мир – не просто мир вещей в пространстве, а мир вещей, доступных чувственному восприятию познающего субъекта, мир, низшей ступени познания: равно как интеллигибельный мир – не мир идей, а мир вещей, доступных чистому разуму того же субъекта, мир высшей ступени познания. Стоит отметить, однако, что, поскольку онтология у Канта также гносеологизируется, то описанная дихотомия является не только гносеологической, но и онтологической, в смысле кантовой «когнитивной онтологии».
В своей новой трансцендентальной форме, дуалистичность становится не столь значима для антропологии. Она делается принадлежностью конституции познания и уже не служит, как у Декарта, непосредственным свойством сущностной структуры, основоустройства человека как такового. Подобная перемена явно к лучшему, поскольку рассеченность декартова человека, как мы многократно убеждались в Разделе 3, создавала искусственные проблемы и ограничивала возможности антропологии Декарта: в частности, именно ею мы объясняли главные лакуны этой антропологии, отсутствие в ней всего спектра интегральных проявлений человека. Снятие тезиса об антропологической рассеченности снимает наиболее резкое различие между (познающим) субъектом и человеком как таковым – что, в свою очередь, позволяет Канту не разбирать, насколько остающееся различие еще существенно. Меж тем, оно становится лишь несколько менее существенно. Кантовская коррекция и переинтерпретация декартовой дихотомии нисколько не означала восстановления цельности человека, но означала лишь твердое помещение этой дихотомии в когнитивную перспективу, из которой она у Декарта «неуклюже высовывалась», но в которой собственно и должна была пребывать изначально. С этой точки зрения, можно сказать, что Кант не отвергает декартова рассечения, но отказывается придавать ему прямой антропологический смысл, вводить в конституцию человека как такового, относя его сугубо к основоустройству познания (судя по беглым замечаниям, он вполне принимает, что субъект в акте познания отсечен от тела, имеет тело внешним предметом). В итоге такой коррекции, философия уже не имплицирует отсутствия интегральных проявлений человека, но и не обретает никакого положительного антропологического содержания; а интегральные проявления, как мы увидим, все равно остаются отсутствующими в кантовской антропологии.
Далее, положение свойства субстанциальности в философии и, в частности, антропологии Канта остается во многом тем же, что у Декарта. Для обоих классиков это свойство не служит ареной их собственных нововведений, но остается элементом, наследуемым из старой аристотелианской основы. В начале этого раздела мы постарались раскрыть те логические связи, в силу которых субъект практически не мог не мыслиться субстанциально; мы также приводили кантовское положение о субстанциальности души, имеющее стандартную аристотелевскую форму Связь субстанции с субъектом выступает у Канта само собой разумеющейся, прочной и обоюдной (ср.: «Субстанция, т. е. нечто, что может существовать лишь как субъект, но не как простой предикат»[161 - Id. Kritik der reinenVernunft. S. 317.]). Разумеется, входя в трансцендентальную архитектуру сообщества категорий, понятие субстанции также получает трансцендентальное препарирование, интегрируясь в свой понятийный комплекс, куда входят акциденции, подлежащее, существование как субсистенция и как присущность, и проч. Главными элементами в смысловой структуре субстанции у Канта служат функции подлежащего и характер устойчивого, пребывающего начала, противопоставляемого всему изменчивому в структуре явления (ср.: «Субстанция, т. е. пребывающее (Beharrliche), субстрат всего изменяющегося»[162 - Ib. S. 283. (Курсив Канта).]). Как ясно отсюда, субстанция оказывается и основой, принципом решения проблемы (само)тождественности. Все это – достаточно традиционная, привычная трактовка понятия. Сознание философа явно не связывает с ним никакой особой проблемности и не подозревает о том, что именно в нем – ген смерти всей европейской метафизики.
Очередное свойство, гносеологичность, сейчас почти не требует обсуждения: ему и был посвящен почти весь наш разбор кантовского этапа. Восприняв линию на эпистемологический поворот философии, с такой энергией и успешностью начатую Декартом, Кант продолжил и завершил этот поворот, придав ему новую глубину и принципиально иную природу: сделав его не поворотом от онтологии, а поворотом самой онтологии, ее внутренней трансформацией, включившей ее в эпистемологический дискурс, в когнитивную перспективу. Тем самым, поворот стал созданием нового универсального философского метода («Критика чистого разума» есть «трактат о методе», по словам Канта); и когда этот метод перед нами, мы ясно видим, что у Декарта, при всем истовом стремлении к методу, имелась еще только его прелюдия. Однако при всем кардинальном развитии, какое здесь получает гносеологизированность философского дискурса, роль данного свойства в антропологии, в образе человека, скорее уменьшается. Развив теорию познания до небывалой основательности и изощренности, Кант при всем том едва ли проникнут пафосом познания; в отличие от Декарта, он не утверждает познание в качестве высшей миссии человека. Взамен этого, весь пафос его отдается этике, нравственному, а не познающему субъекту, и высшую миссию человека он утверждает в служении нравственному закону.
Наконец, о судьбе свойства секуляризованности на кантовском этапе основное уже также сказано выше. По определению, данное свойство означает, что отношение человека к Богу, не обязательно устраняясь вообще, лишается, тем не менее, определяющей роли в стратегиях человеческого существования или, иначе говоря, в основоустройстве самореализации человека. Мы описали ту специфическую участь, которая постигает это отношение у Канта: вместе со своей икономией, образующей сферу религии, оно превращается здесь в обосновывающий горизонт этики, причем все аспекты и проявления религии, не вместимые в эту функцию, в основоустройство практического разума, отрицаются как заблуждения. При этом, однако, вместимая и принимаемая часть религиозной сферы относительно широка (как мы говорили, она включает в себя все основные элементы моралистической, пиетистской религиозности), и в существовании человека как нравственного субъекта она не вытесняется на периферию, а наделяется видным, почетным положением. Поэтому не так уж очевидно, что подобная участь должна рассматриваться как некая форма секуляризации; и в данной связи, следует еще раз напомнить и разъяснить наше антропологическое понимание последней.
В обычном принятом смысле, секуляризацию понимают как исторический и социокультурный феномен или процесс, суть которого составляет вытеснение религии из центра общественной и культурной жизни, лишение ее статуса регулятивного начала этой жизни и оставление за нею лишь роли одного из факторов частного существования индивида. В антропологическом контексте, это понимание требует, однако, дополнения и углубления, которые мы попытались представить выше (см. Раздел 3 и начало Раздела 4). Аутентичное существо религии как конститутивного принципа «религиозного человека» составляет реализация отношения человека к Инобытию, или же «онтологической Антропологической Границе», и основу этой реализации составляет стратегия или парадигма «мета-антропологического восхождения-трансцендирования». Инобытийная природа цели, а точнее, «транс-цели», «телоса» этой стратегии делает последнюю уникальной, выделенной в кругу всех антропологических стратегий: она принципиально не может быть подчиненной, служебной по отношению к какой-либо иной стратегии, ибо инобытийный телос заведомо не может быть достигнут «попутно», «заодно» с достижением некоторой иной, не инобытийной цели, утверждаемой как первичная и главная. И это означает, что наделение религии какою бы то ни было служебной функцией несовместимо с сохранением ею ее описанного (мета-)антропологического существа, ядра. При этом, служебная роль может быть вполне совместима с сохранением множества внешних сторон религии, сохранением, как мы видели, «видного и почетного положения», – но именно о таких ситуациях в русском христианстве говорится: Бог не в бревнах, а в ребрах. Религия, исполняющая служебную функцию, вовсе не обязательно есть приватный или маргинальный феномен в фактуре существования, и тем самым, она вовсе не обязательно предполагает секуляризацию в обычном социокультурном смысле. (Подобных примеров множество, и религия по Канту входит в их ряд, вместе, скажем, с культами языческих императоров – что вряд ли понравилось бы философу). Но она обязательно – пустая оболочка религии, и потому – феномен секуляризации в нашем сущностном, антропологическом смысле. (Сказанное, конечно, не значит, с другой стороны, что религия не может или не должна иметь связи с этикой. Должна лишь быть противоположная иерархия целей: конституция отношения этики с живой религией предполагает первенство инобытийного телоса. По своему характеру, эта конституция своеобразна: несмотря на иерархию целей, она воплощает не жесткое подчинение одной сферы другой, а их живую, обоюдную связь: установление отношения человека к Богу включает в себя определенные этические условия, предпосылки[163 - См. С. С. Хоружий. К феноменологии аскезы. С. 229.], а, будучи установлено, это отношение, в свою очередь, развивает вместе со своей икономией, в ее составе, и определенную этику. Ниоткуда не следует априори, что это должна быть кантианско-аристотелианская телеологическая и нормативная этика и, будучи представлена в развернутом виде, конституция этико-религиозного отношения имела бы мало общего с «Критикой практического разума»).
Итак, в сфере антропологии возникает свое понятие секуляризации: последняя должна трактоваться здесь как лишение примата – а отсюда, в силу ее специфики, и отмирание – стратегии отношения человека с его онтологической Границей («стратегии мета-антропологического восхождения-трансцендирования»). Это понятие не просто выражает в антропологических терминах обычное социокультурное понятие секуляризации, но и отличается от него по объему: «антропологическая секуляризация» включает и все явления, в которых религия, вне зависимости от своего внешнего, социокультурного положения и статуса, в своем существе редуцируется к некоторой служебной функции. (Это несовпадение объема понятий, вообще говоря, имеет обоюдный характер: мыслимы и такие ситуации, когда религия, будучи вытеснена к приватному и маргинальному статусу, тем не менее, подлинно реализует отношение человека к Инобытию). Тот род секуляризации, который мы обнаружили в учении Декарта, соответствовал обоим понятиям, это была секуляризация и в социокультурном, и в антропологическом смысле. У Канта же мы находим иной род: здесь имеет место «антропологическая секуляризация», которая, вообще говоря, может и не являться «социокультурной секуляризацией». Чтобы полностью раскрыть антропологическое содержание этого свойства, нам следует еще, не ограничиваясь негативным выводом об исчезновении некоторой антропологической стратегии, показать, какой вид принимают в ее отсутствие отношения человека с Антропологической Границей. В случае Декарта мы убедились, что эти отношения, как и сама идея Антропологической Границы, вообще элиминируются, выпадают из конституции человека, как следствие утверждения идей бесконечного мироздания и бесконечного прогресса познания. У Канта они также элиминируются, и субъект также представляется как «безграничное», вследствие открытости – и даже необходимости – для него бесконечного прогресса; однако, в соответствии с приматом этического дискурса, прогресс оказывается нравственным. Обеспечивают же этот прогресс постулаты чистого практического разума и, в первую очередь, постулат бессмертия. «[Поскольку] полное соответствие воли с нравственным законом… требуется как практически необходимое, а достигнуто оно может быть лишь в бесконечно длящемся прогрессе, то из принципов чистого практического разума необходимо вытекает принятие такого бесконечного прогресса… Для разумного, но конечного существа возможен лишь бесконечный прогресс от низших к высшим ступеням морального совершенства… но этот бесконечный прогресс возможен лишь при предположении, что существование и личностность разумного существа продолжаются в бесконечность»[164 - I. Kant. Kritik der praktischenVernunft. S. 140–141.]. Как видно отсюда, по своему глубочайшему убеждению в «практической необходимости», а стало быть, и доступности бессмертия Кант лишь немногим уступает Николаю Федорову.
Стоит подчеркнуть также, что, вопреки внешнему впечатлению, в учении Канта секуляризация принимает, в действительности, гораздо более глубокую и радикальную форму, чем в учении Декарта. Оба учения соотносятся здесь точно так же, как они соотносятся в свойстве гносеологизированности. Декарт осуществляет гносеологизацию философии, уходя от онтологии, отодвигая ее: и он осуществляет секуляризацию, отодвигая Бога и религию так, чтобы освободить от них сферу самореализации человека (т. е. по Декарту, деятельности познания). Стратегия же Канта в обоих случаях куда основательней, необратимей. Он переосмысливает и трансформирует онтологию так, что она уже не конкурирует с гносеологией, а подкрепляет ее, как ее обосновывающий горизонт; и он переосмысливает и редуцирует Бога и религию так, что они уже не конкурируют с секулярной самореализацией человека (по Канту, нравственной деятельностью); но подкрепляют ее, как ее обосновывающий горизонт. В известном смысле, секуляризация достигает здесь полноты, ибо Кант секуляризовал саму религию: вместо того, чтобы оттеснять ее еще на сколько-то дюймов, он превратил ее из альтернативы секуляризованному миру в одну из функций его устройства. При этом, достигает полноты, замкнутости и сам этот мир, мир индивида и «гражданина мира»: когда онтология и трансцендирование целиком вобраны в обычное познание, а религия и религиозная жизнь – в этику, – из мира стало некуда и незачем выходить, исступать, стремиться.
Из этого обозрения «пяти портретных черт» видно, что все они продолжают принадлежать к основоустройству, каркасу антропологии Канта, хотя при этом одни из них (индивидуированность, субстанциальность) уже не требовали обширной разработки и не получали особенно большого внимания, тогда как оставшиеся испытали в горниле трансцендентального метода кардинальное претворение и стали предметом новых капитальных концепций и построений. Но сейчас мы уже не скажем, что они исчерпывают этот каркас. Из нашего описания кантовского этапа выступают, по крайней мере, еще две особенности, которые, по их значению для антропологии, необходимо добавить к прежде выделенным. Одна из них – отказ от организации категорий познания «вокруг фигуры» субъекта познания, «конгруентно» этой фигуре, – в пользу совершенно иных принципов организации, при которых субъект исчезает из вида, оставаясь только «транспортным средством». Другая же – беспрецедентное возвышение нравственного субъекта и утверждение этической сферы в качестве высшей сферы самореализации человека. По своей роли в кантовой антропологии, эти особенности, в известной мере, противоположны друг другу. Полная декомпозиция субъекта познания существенно удаляла трансцендентальную философию от речи о человеке, служила крупным добавочным элементом антиантропологичности. Нравственный же субъект, хотя и препарировался трансцендентальной философией по тем же антифигуративным принципам, однако производил более человеческое впечатление. К тому было несколько причин. Во-первых, сообщество категорий чистого практического разума не столь обширно и сложноустроено, и оно менее заслоняет, элиминирует самого субъекта. Во-вторых, что еще важней, нравственные категории, включающие и понятия душевной, эмоциональной жизни, кажутся нам не такими отвлеченными, как категории познания, кажутся как бы говорящими прямо о человеке, хотя по концептуальной структуре они могут быть ничуть не менее дистанцированы от фигуры субъекта. И наконец, самым весомым, видимо, было и самое простое обстоятельство: свои этические воззрения Кант излагал в целом ряде текстов, и некоторые из них – напр., «Метафизика нравов», «Антропология в прагматическом отношении» – были написаны почти без трансцендентальной машинерии, в доходчивом и убедительном стиле с небольшими дозами проповеди. Поэтому присутствие в антропологии Канта нравственного субъекта, наделенного не меньшим значением и весом, чем субъект познания, действовало как весьма эффективный противовес многочисленным и глубоким антиантропологичным чертам этой антропологии, и крайне способствовало ее принятию и успеху.
Что же до черт антиантропологичности, которые тоже нужно отметить в итоговом обозрении, то выше говорилось уже достаточно об особенностях структуры и метода, таких как только что упомянутая антифигуративность трансцендентальной систематики. Сейчас осталось сказать о чертах содержания, т. е. о лакунах антропологии Канта. Здесь вновь нам удобно отправляться от картезианского этапа. Специфическая ущербная конституция Человека Картезия, имплицируемая дихотомией духа-сознания и тела-машины, служила изначальным препятствием к появлению понятия человека-в-целом в антропологии Декарта. Ближайшим образом, она мешала учету антропологических проявлений, которые служат выражением всего целостного человеческого существа («интегральные проявления», в нашей терминологии). Мы выделили основные виды подобных проявлений (экзистенциальные предикаты, феномены общения и феномены религиозной жизни) и констатировали, что интегральные проявления, действительно, составляют в антропологии Декарта область лакун. Ситуация на кантовском этапе иная, Кант не принимает картезианской дихотомии, и заведомых препятствий к присутствию интегральных проявлений в его антропологии как будто нет. Конечно, известным препятствием остается сам принцип субъективности философии, ибо любой субъект заведомо участнен и отличен от человека-в-целом. Но субъект Канта не столь драстически участнен, как субъект Декарта, порой Кант использует термины «субъект» и «человек» как взаимозаменяемые, и чисто методологически, расширение кантианского дискурса до речи о человеке-в-целом в некой степени мыслимо. Тем не менее, мы обнаруживаем характерную преемственность: хотя и в силу уже иных причин, иной логики, однако интегральные проявления человека почти полностью отсутствуют также и в антропологии Канта.
Экзистенциальные предикаты, как правило, восходят тем или иным путем к понятиям смерти и любви, двум фундаментальным реальностям человеческого существования. Поэтому о судьбе их в философии Канта достаточно говорит судьба этих фундаментальных понятий. Она очень заслуживает быть отмеченной: как и у Декарта (так что это становится уже стойкой чертой европейской модели), у Канта налицо полное нечувствие и любви, и смерти, их антропологического и онтологического значения. Таких тем нет в его антропологии. Проблема смерти искусственно снимается постулатом бессмертия, а что до любви, то она видится Канту одним из вспомогательных аспектов долга и подчинения. «Любить Бога означает… исполнять его веления охотно, любить ближнего значит: всякий долг по отношению к нему исполнять охотно»[165 - Ib. S. 97.]. В «Религии в границах только разума» мы найдем сходное определение любви как «любви к закону»; и эти замечательные дефиниции вполне стоят любви по Декарту (т. е. напомним, «совершенства, без которого можно просуществовать»). – Далее, сфера общения, интерсубъективных антропологических проявлений отсутствует вследствие свойства индивидуированности, субъектной структуры философии. Здесь была одна из главных позиций критики «классической европейской модели» в современной философии и одна из основных причин «смерти субъекта»: современная мысль, уделяющая огромное внимание интерсубъективной сфере, усиленно развивала критику философии субъекта во всех ее формах, квалифицируя ее как «философию Я», которая неспособна дать адекватное представление феноменов интерсубъективности и должна быть заменена «философией Мы». Таковой философии покуда не появилось, но критическое узрение «интерсубъективной лакуны» в философии субъекта было справедливо и полезно. – Наконец, судьба феноменов религиозной жизни у Канта нам известна: эта сфера подвергается глобальной редукции, частью ампутируясь, а частью включаясь в этику, причем включаемые элементы, переинтерпретируясь, выхолащиваются от своего аутентично религиозного содержания и престают быть интегральными антропологическими проявлениями. В частности, отношение человека к Богу, конститутивное для религиозной сферы, полностью теряет характер личного общения, и вкупе со сказанным выше, мы заключаем, что само представление о личном общении как особом антропологическом феномене (и уж тем более, как о мета-антропологическом) чуждо не только антропологии, а самому философскому сознанию Канта. К названным лакунам, пожалуй, можно добавить и дискурс тела, который, в отличие от учения Декарта, у Канта практически отсутствует (за вычетом темы чувственных восприятий и органов чувств, которая у них обоих отделена от темы телесности, ввиду своей тесной связи с познанием).
Но вся эта лакунарность, как и прочие антиантропологические элементы, лишь незначительно мешали тому, что в широком восприятии речь Канта о человеке оставляла впечатление великого уважения и внимания к человеку и человечеству. Кант одновременно использует оба значения немецкого Menschheit, сближая их, так что даже не всегда ясно, имеет ли в виду философ человеческий род или «человечность», суть человека, которую он видел как самое возвышенное начало, достойное глубокого почитания. Притом, это возвышенное видение человеческой природы далеко не было пустой риторикой, оно воплощалось в самых строгих конструкциях, какие до этого знала мысль. Два рода текстов Канта были удачным сочетанием: корпус «Критик» служил базой доверия к выдвигаемым идеям, тогда как популярные тексты широко доносили эти идеи. Существенно было также то, что идеи Канта заключали в себе не только лесть человеку, но и требовательность к нему; но самое важное, бесспорно, – в чем была эта требовательность.
Евангелие Канта – добропорядочная жизнь под девизом долга, в служении и поклонении долгу. Нет нужды объяснять, какой эпохе и обществу идеально подходило это евангелие. Неумеренность, одержимость Ренессанса, еще ощутимые в Декарте, миновали, и им на смену пришел мир буржуазного уклада и буржуазных добродетелей. Кант – его пророк и учитель. Его антропология, его этика, его политическая философия весьма действенно служили созданию и укреплению устоев этого мира: устоев как общественных, так и индивидуальных, личных. Они давали метафизическую, нравственную, даже религиозную санкцию общественным (предпочтительно, монархическим) началам, и они же давали основу для формирования и воспитания личности буржуазного индивида. Трудно представить более совершенное соответствие мыслителя и эпохи. По выражению сталинских времен, Кант был социально полезен, но не в меньшей степени он был и индивидуально полезен. В антропологии Канта буржуазный индивид был обеспечен и «окормлен», по его потребностям, всесторонне: он мог получить в ней способ осознания и понимания себя, объяснение своего положения в природе и мире, метод продвижения в познании, наставление в требованиях нравственности и долга, наконец, last but not least, заверение в своем достоинстве, благородстве, правах… – словом, получить все нужное и желаемое, если еще учесть, что интуиция или идеал полноты человека, еще жившие в Ренессансе, ушли из буржуазного сознания. – В итоге кантовского этапа, европейская антропологическая модель достигла, возможно, апогея в своем развитии. Ее задания, в основном, могли считаться исполненными. Центральная и ключевая концепция субъекта получила исчерпывающую разработку; отношения с метафизикой, онтологией, религией были выяснены фундаментально и, как можно было полагать, окончательно. И она достигла победы, закрепления и в своем внешнем положении. Она получила признание и влияние в европейской мысли, стала фундаментом ее позиций в антропологии, и могла также притязать на подтвержденность самою жизнью: европейский человек соглашался узнать себя в кантовом субъекте – особенно, в благородном и высокопорядочном субъекте нравственном. Слова «вечность» и «бесконечность» тогда легко стекали с пера; и, вероятно, не только сам философ, но и очень многие его читатели в следующих поколениях, вполне признали бы сложившуюся концепцию человека – вечной.