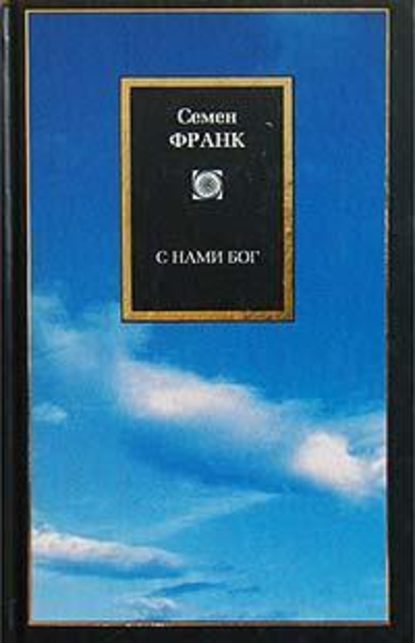По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
С нами Бог
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Это соотношение имеет первостепенное значение в понимании истинной, соответствующей своему назначению структуры или надлежащего оформления молитвенной, религиозной жизни. Конечно, ее незыблемым фундаментом, ее живым корнем остается всегда внутренняя, незримая обращенность человеческого духа в его глубинах к Богу, уединенное общение души с Богом. Это есть то, что Плотин гениально называл fuge tou monou pros ton monon («бегство единственного к Единственному»). И первая необходимая внешняя форма этого общения есть уединенная молитва и сосредоточенность в комнате, при закрытых дверях; любовь к Богу, как и любовь к человеку, предполагает незримое миру, уединенное общение с Ним. Но эта первая и необходимая форма общения с Богом не есть единственная. Напротив, так как в христианском сознании любовь к Богу не только ведет к любви к людям, но по своему существу совпадает с последней, то общение с Богом естественно выливается в религиозное общение с людьми и необходимо совершается в форме этого общения – в форме объединенной, общей, солидарной молитвы, общественного богослужения или общего «всенародного делания» (таков, как известно, буквальный смысл слова «литургия»). Бог по самому Его существу есть не только «мой Отец», но именно «наш Отец», как Он назван в молитве Господней. Уединенность души в общении с Богом предполагает одновременно ее открытость для общения и требует этой открытости. Религиозная жизнь – одновременно и нераздельно – и уединенна, и общинна, кому это кажется парадоксом, тот этим только свидетельствует, что он не понимает исконной общей структуры религиозной и духовной жизни, в силу которой душа именно в своей глубине расширяется, открывается для общения, приобщается соборной полноте духовного бытия, здесь поэтому совершенно неприменимы мерки, заимствованные из чувственно наглядных представлений и внешних отношений. Не только христианская религиозная жизнь, но и всякая религиозная жизнь вообще – социоморфична по самому своему существу, находит свое естественное выражение в общении и единстве верующих, в духовном единении.
Но этим дело еще не исчерпывается. Господствующее в протестантских исповеданиях представление о храмовом богослужении как простой совместной молитве верующих, неадекватна более глубокому мистическому смыслу того религиозного общения души с окружающей ее внешней сферой, которое есть и естественное выражение, и естественная форма общения души с Богом. Богослужение, как совместная молитва верующих, само по себе может означать и часто означает только то, что многие люди одновременно и в одном месте – но все же каждый сам по себе, в отдельности, – устремлены к Богу. Но истинное молитвенное общение предполагает нечто большее – именно некое реальное присутствие святыни Бога как общей всем реальности, сразу для всех и во всех, охваченность объединяющим, сливающим всех воедино объектом веры. Для этого необходимо, чтобы храм и храмовое, литургическое богослужение испытывалось как место или сфера, в которых реально наличествует, присутствует сам Бог. Здесь религиозное общение между верующими сочетается с совместным восприятием священного, божественного начала во внешнем, зримом облике вещей и действий – с указанным выше восприятием плоти мира, как символического обнаружения Божества, и совершается через посредство этого восприятия. Архитектурная красота храма, зримые образы Христа и святых, огни свечей, благоухание ладана, музыкальная и поэтическая красота богослужебных гимнов – все это есть естественные пособники человеческого духа в его сближении с Богом, и человеческая душа по непроизвольному, безошибочному религиозному инстинкту прибегает к этим внешним, плотским формам, помогающим ей сосредоточиться на таинственном, незримом и сверхмирном существе божественной реальности. Более того, все это испытывается, как формы реального, земного воплощения святыни Божией; во всем этом реально веет и касается человеческой души дух Божий. Отказ от пользования этими проводниками сверхмирной реальности из одностороннего утверждения абсолютной трансцендентности и незримости Бога ведет по общему правилу не к обогащению, а к обеднению религиозной жизни. Не подлежит ни малейшему сомнению, что – несмотря на всю глубину и напряженность субъективного религиозного духа в протестантизме – протестантское иконоборчество (в широком смысле этого понятия), протестантское стремление ограничить богослужение простой совместной молитвой, исключив из него все, что носит характер реального ощущения присутствия Бога в выражающих его символах, привело не к расцвету и обогащению, а к засыханию и обеднению религиозной жизни. Еще более бесспорно, что обычный, рационально столь убедительный аргумент против богослужебной жизни: «Зачем ходить в церковь, когда можно молиться Богу наедине в своей комнате?» – в девяти случаях из десяти есть просто лицемерное оправдание полной утраты религиозной жизни. Святой отшельник может, конечно, общаться с Богом в пустыне или в своей келье интимнее и напряженнее, чем прихожане – в церкви; но обычный, средний человек, не ходящий в церковь, по общему правилу, перестает молиться и дома.
В этой связи свободной религиозной интуиции открывается и сущность таинства. Таинство в общем, основоположном смысле этого понятия имеет место всюду, где благодатная сила Божия касается человеческой души, притекает в душу через восприятие какой-либо внешней, чувственно-данной реальности. Греческий язык (и восточная церковь) обозначает таинство в этом смысле вполне адекватным словом мистерии. И так как Бог вездесущ, присутствует незримо во всем творении, то таинство в принципе может испытываться и совершаться при встрече с любой реальностью во всяком акте нашей жизни; строго говоря, вполне зрячая, религиозно открытая душа должна сознавать все в мире и всю нашу жизнь как таинство; таинство в этом смысле есть необходимый, постоянный элемент нашей религиозной жизни. Чуткое к религиозному восприятию сознание фактически испытывает, по меньшей мере, такие существенные явления, как рождение нового человеческого существа, умирание и смерть, облегчение души при покаянии, эротическую любовь, брачную и семейную связь, нравственный подвиг, всякую встречу с красотой, как подлинное таинство. Поэтому, в противоположность обычной рационалистической или отвлеченно-спиритуалистической установке, основной вопрос в отношении церковно-фиксированных «таинств» (sacramenta) должен заключаться не в том, как можно поверить, что определенные внешние акты или приобщение к вещественным реальностям могут быть проводником благодатных сил, а лишь в том, почему такое действие приурочено только к этим, литургически фиксированным, актам и реальностям. Если для современного, прозаического, обезбоженного сознания вся чувственная реальность мирового бытия есть нечто ничтожное, бессмысленное, грубо материальное, так что вера в возможность приобщения через нее благодатных сил представляется иллюзией, первобытным суеверием, «фетишизмом», то религиозно открытое и чуткое сознание, напротив, с трепетным благоговением воспринимает всю жизнь, чувствует присутствие силы Божией, величия Божия во всем и через все, так что возможное недоумение здесь направлено не на признание, таинства вообще, а, напротив, на ограничение сферы таинства небольшой, заранее фиксированной группой явлений. Общий ответ на это недоумение состоит в том, что хотя Бог присутствует во всем бытии, мы сильнее, явственнее испытываем Его реальность, и она фактически вливается в нас или, по крайней мере, полнее вливается в нас при некоторых определенных условиях, в некоторых специфических положениях. Можно сознавать присутствие Бога в каждой полевой былинке, ощущать Его среди природы, и все же при входе в храм нас охватывает исключительно острое чувство близости Бога, Его живого присутствия именно здесь. Это двойственное сознание возвышенно и проникновенно выражено в Ветхом Завете в молитве Соломона при освещении построенного им храма: «Бога, которого не может вместить все небо, и небеса всех небес, тем более не может вместить дом, построенный Соломоном; но да снизойдет Бог на эту обитель, да услышит молитву, которую Его раб возносит в ней» (3 Цар 8:27–30). И в составе литургического общения с Богом через зримые, чувственно воспринимаемые символы есть акты и реальности, в которых сознание этого общения достигает как бы кульминационного пункта, душа в максимальной мере открывается Богу, и потому благодатная сила в максимальной мере вливается в нас. При определении того, каковы именно эти акты и реальности, мы имеем основание довериться религиозному преданию, связующему нас с древними, исконными человеческими представлениями – с духовной эпохой, когда наивно-детское сознание, открытое для восприятия таинственности и религиозной значительности бытия, понимало это лучше, чем в состоянии понять современный человек. К этому древнему религиозному опыту – который не надо высокомерно презирать, как суеверие, а брать своим наставником – примыкают, очевидно, наставления о таинствах, даваемые Священным писанием и преданием церкви. Так, омовение воспринимается как символ очищения и духовного возрождения, и в этом качестве становится таинством крещения. Так, молитвенно освященное вкушение хлеба и вина заповедано Христом как символ вкушения Его плоти и крови, т. е. реального приобщения Его существу. Рациональные, отвлеченно-богословские объяснения, в чем именно состоит здесь связь между чувственной реальностью телесных вещей и актов и духовной реальностью божественных, благодатных сил, в сущности бесплодны, ибо беспредметны. Спор здесь между «только символическим» пониманием таинств и утверждением реального присутствия в них Бога и Его благодатных сил основан сам на недоразумении, именно на рациональном противопоставлении того, что сверхрационально дано как неразрывное единство. Так, в таинстве причастия дело идет, конечно, не о каком-либо «химическом» превращении хлеба и вина в тело и плоть Христовы, и схоластическое понятие «транссубстанциации» здесь, по меньшей мере, неадекватно в силу своей рационалистичности; но это таинство (как и всякое другое) не есть просто «символ» или «аллегория» в номиналистическом смысле простого условного знака, не имеющего реальной связи с тем, что оно означает. Это есть то и другое одновременно – не пустой символ чужеродной реальности и не сама реальность в адекватном ее существе, а именно символизованная реальность – реальность, подлинно присутствующая, просвечивающая и проникающая в нас через чувственный символ. Существенно здесь только одно – чтобы мы ощущали саму божественную реальность, имели живое восприятие ее присутствия; в противном случае таинство превратилось бы в условный обряд и тем самым потеряло бы свою живую силу, свой подлинный религиозный смысл.
Для свободного, непредвзятого и достаточно углубленного религиозного сознания совершенно очевидно сразу двоякое: и то, что в церковном учении о таинствах содержится глубокий, сущностно-реально оправданный и благотворный смысл, и то, что твердые церковные правила о числе, характере, порядке и условиях таинств имеют лишь относительное, именно дисциплинарно-воспитательное значение. Истинно благоговейное восприятие божественной реальности в молитвенном приобщении к ней несовместимо с анархическим его осуществлением и требует оформления в точном порядке. И вместе с тем церковная фиксация таинств есть некая концентрация и локализация универсального начала таинства как притока благодатных сил через каналы чувственной реальности; такая концентрация и локализация, противодействуя тенденции человеческого сознания к небрежному, равнодушному, нерелигиозному восприятию реальности, имеет, очевидно, огромное религиозно-воспитательное значение. Церковь сама косвенно признает это широкое, свободно религиозное понимание существа таинства, с одной стороны, признавая, наряду с таинствами (sacramenta) в узком, специфическом смысле этого понятия, еще неопределенное множество «таинственных актов» (sacramentalia), и, с другой стороны, допуская, что при некоторых обстоятельствах подлинные таинства совершаются вне обычного, твердо регламентированного порядка. Намеченное понимание положительного смысла таинства, чуждое всякой идолопоклоннической идеализации или абсолютизации внешних форм, очевидно, вполне совместимо с возвещенным в Евангелии Иоанна принципом, что истинное поклонение Богу есть поклонение «в духе и истине».
То же можно сказать о значении литургически-молитвенного осуществления веры вообще. Кульминируя в опыте таинства – реального притока благодатных сил, оно имеет сущностный смысл, именно есть живая встреча, через чувственные символы, с реальностью Бога и слияние человеческих душ через совместное, солидарное приобщение к этой реальности. И одновременно литургическое делание имеет в духовно-молитвенной жизни – в связи с тем, что уяснилось нам в конце прошлой главы, – существенный и незаменимый общий педагогический смысл. А именно, оно имеет значение содействия трудному делу раскрытия человеческой души навстречу Богу, духовного просветления и преображения человека.
Первое, чему нас непосредственно учит опыт, есть помощь, которую оказывает нашей духовной жизни законченная, незыблемо-твердая форма религиозного ритуала. Поверхностное, элементарное и рационалистически истолковываемое религиозное сознание склонно воспринимать всякий обряд как мертвую, жесткую форму, стесняющую свободу духа. Это так же поверхностно, как считать свободу вообще тождественной произволу и неоформленности и усматривать во всяком законе, как таковом, нарушение свободы. Совершенно очевидно, напротив, что закон есть единственная и необходимая гарантия свободы (хотя он и может вырождаться в ее деспотическое подавление). Нечто аналогичное этому мы имеем в отношении между установленным церковным ритуалом и потребностью индивидуальной человеческой души свободно переживать и изливать свое религиозное чувство. Религиозное сознание, будучи, как указано, творчеством, требует формы для своего выражения. Но все, что глубоко переживается, что свершается в глубинах духа, и тем более такой, выходящий за пределы чисто человеческой душевной стихии богочеловеческий процесс, как общение души с Богом, нуждаясь в выражении, в излиянии вовне, вместе с тем остается для единичного человека по общему правилу несказанным, невыразимым. Только поэты, композиторы, художники кисти и резца в состоянии найти полное удовлетворение своему творческому порыву, истинно выразить себя. Гёте говорит, что человек немеет в страдании и что только поэту дано его выразить «Und wo der Mensch in seiner Qual verstummt, mir gab ein Gott zu sagen, was ich leide».[22 - «Где человек умолкает в страдании, там Бог дарует мне способность сказать о своей боли» (нем.).] Еще в большей мере невыразимо блаженство духовного просветления души, общения с Богом. При этом человеку, который неспособен сам достойно славословить Бога, вообще не остается ничего иного, как найти исход своему чувству, вложившись в выработанную коллективным религиозно-художественным опытом верующего человечества, фиксированную форму религиозного ритуала. С одной стороны, он не может надеяться личным усилием найти лучшую, более совершенную художественную форму, более адекватные слова для своего чувства, чем то, что здесь ему дается в готовом виде, как плод соборного религиозного творчества и притом величайших религиозных гениев, и, с другой стороны, даже если не все в этом ему понятно и сродно его душе, самый факт, что ему здесь открыто готовое русло для излияния чувств, неспособных найти самостоятельное выражение, – что здесь в силу навыка устанавливается некий автоматизм выражения, – есть для него огромная помощь, избавляющая его от мук бессилия выразить несказанное. (Само собой ясно, что здесь, как во всяком влиянии на душу чистой формы, вместе с тем содержится опасность вырождения в формализм, в господство опустошенной от содержания формы – опасность, против которой человеческий дух должен быть всегда настороже.) Ценность богослужебного ритуала совпадает в этом отношении с общей ценностью в человеческой жизни традиции, консерватизма, использования сложившихся, установленных форм. Никакое человеческое творчество не есть творчество из ничего, творение абсолютно новой формы из чистого хаоса бесформенности. Величайшие художники и мыслители должны в своем творчестве примыкать к какой-то традиции, пройти ее школу, как бы родиться из ее недр; наиболее яркий и убедительный пример этому есть то, что художник слова не может сам сотворить язык, но должен пользоваться многовековым художественным гением и мудростью народа, воплощенными в словах и формах языка, и может только, насквозь пропитавшись этими традиционными достижениями словесного творчества, развивать и совершенствовать их. В конечном итоге это вытекает из органической соборности человеческого духа – из того, что индивидуальность, личность по самому ее существу мыслима только как ветвь или отросток древа национальности или человечества, – о чем подробнее ниже, в другой связи. Здесь я ограничиваюсь только указанием, что готовая, сложившаяся, привычная форма молитвенной жизни, обрамляя и тем оформляя индивидуально невыразимую религиозную жизнь, в гораздо большей мере оплодотворяет ее, дает ей свободный выход, чем ее стесняет и ограничивает. А так как во всяком творчестве его выражение, его воплощение в чувственно-воспринимаемых формах, его излияние вовне не есть акт, извне присоединяющийся к его внутреннему существу, как бы только увенчивающий его, а есть необходимый элемент его внутренней успешности и плодотворности (так что, например, мысль только тогда подлинно рождена, подлинно ясна самой себе, когда она нашла себе адекватное выражение в слове), то и религиозная жизнь подлинно оформляется, укрепляется и просто сполна осуществляется, только найдя форму своего выражения. В этом состоит основной религиозно-воспитательный смысл уставного богослужения как естественного питания религиозной жизни, оформляющей силой кристаллизованных продуктов коллективного религиозного творчества.
Эта оформляющая и тем оплодотворяющая сила богослужебного ритуала имеет, конечно, как только что мельком уже указано выше в общей форме, и свою обратную, отрицательную сторону, поскольку форма имеет часто тенденцию стать чем-то самодовлеющим и тем заслонить собой само религиозное содержание. Навык к определенной религиозной форме психологически почти неизбежно ведет к перемещению самого религиозного сознания – чувства благоговения – с его реального объекта – Бога и Его правды – на форму молитвенного служения. Литургические традиции по общему правилу даже гораздо сильнее традиций догматических. Склонность к привычной литургической форме легко ведет к острому чувству чуждости, неприемлемости, даже кощунственности других форм, по существу столь же правомерных, что есть итог бессмысленного впитывания в себя самой формы, как таковой, некого мертвящего дух опьянения ею. Спор из-за той или иной литургической формы легко вырождается в бессмысленное и неразрешимое столкновение двух идолопоклонств, этим часто в религиозной истории разнуздывались демонические силы не только взаимной отчужденности, но и ненависти, из-за этого забывалось и попиралось иногда самое главное, именно сознание, что Бог есть любовь и что вне взаимного уважения, понимания, терпимости – вне чуткого братолюбия – великая спасающая сила религиозной жизни исчезает из человеческих душ и заменяется своей противоположностью – адской силой зла. И точно так же уставно-литургическая форма религиозной жизни может иногда настолько заполнить религиозное сознание, как бы противоестественно разрастаясь в нем, что она иногда вытесняет все нравственно-человеческое содержание религии; умиленное церковное благочестие, как известно, иногда сочетается с бессердечием и безлюбовностью, как и с моральной распущенностью. Но эта роковая, почти неизбежная печальная возможность злоупотребления так же мало противоречит ценности и необходимости нормального пользования религиозной формой, как мало вообще мертвящий бессодержательный формализм опровергает необходимость, ценность, положительный смысл формы, как таковой, – это выражение божественного, творческого начала, упорядочивающего хаос.
Это подводит нас к общему вопросу о значении уставности, правил, закона в молитвенной и вообще в духовной жизни (темы, имеющей очевидную связь с темой общих соображений, намеченных в предыдущей главе). По своему основному существу и высшему осуществлению, правда предполагает свободу и возможна только в свободе. Правда есть жизнь; а жизнь и свобода, спонтанное, извне не определимое и неограниченное творчество, совпадают между собой. «Бог есть Дух; и где Дух Господень, там и свобода». Если это так, то и осуществление веры или правды, движение души навстречу Богу возможно только в свободе. Путь – или движение по пути – не отличается здесь от цели; ибо на каждой стадии пути мы уже в большей или меньшей мере владеем целью; как я уже говорил, Богообщение и стремление к Нему суть нераздельно, взаимно пронизывающие друг друга моменты духовной жизни. В этом смысле Христово понятие истины как «пути в жизни», имеет значение абсолютно точного определения. Но истина, как путь и жизнь, есть истина, как свобода. Свобода, конечно, не есть анархия или бесформенность; будучи творчеством, она есть стремление к форме и осуществление формы: все совершенное оформлено. Но эта форма есть форма индивидуальная, спонтанно изнутри творимая, и никогда не есть общая, для всех одинаково обязательная, извне налагаемая форма. В некотором, более глубоком смысле всякая вера абсолютно индивидуальна, в каждом человеке – иная; так что, строго говоря, есть столько же религий, столько же вероисповеданий, сколько есть личностей – совершенно так же, как есть столько же форм любви, сколько есть на свете любящих людей. И, с другой стороны, самый процесс искания или осуществления формы – процесс творчества – необходимо содержит момент бесформенности: вольное, ничем извне не ограниченное блуждание, движение по всем направлениям есть необходимое условие отыскания истинного пути, подлинного достижения правды. Праведность, как и правда вообще, только тогда истинно достигнута, когда она достигнута изнутри, через свободное искание, когда она прошла через муки борения, сомнений, заблуждений. Не только момент формы, ясности, определенности, но и момент бесформенности, хаоса, движения наугад в темноте входит в состав свободы как основоположного богочеловеческого существа человеческого духа. «Узкий путь», ведущий в Царство Божие, есть необходимо путь, которым идешь до известной степени наугад среди тьмы и с риском заблудиться. Даже сам Христос прошел через мучительные искушения дьявола и осуществил, актуализировал в себе свою божественную природу, только свободно, изнутри самого себя, преодолев эти искушения. В человеке же искушение, блуждание, есть непрекращающийся, необходимый момент его духовной жизни.
Из этого следует, что форма духовной жизни, определенная уставностью, правилами, законом, не выражает сполна самого ее существа, не адекватна ему, а есть скорее некая внешняя его оболочка. Но из этого не следует, что она сама по себе имеет отрицательную ценность. Абсолютная правда есть свободная правда благодати, а не правда закона; но благодать не отменяет и не отвергает закона, а его восполняет. Вместе и одновременно со свободой закон есть необходимое средство и путь к достижению благодатной правды. Общий смысл уставности, закона в духовной жизни заключается в их дисциплинарно-воспитательном значении. Духовная жизнь, как уже говорилось, предполагает момент самопреодоления – т. е. преодоления высшим, духовным, богочеловеческим началом человеческой души ее низшей, плотской, темной и косной природы. В состав этого процесса самопреодоления входит наложение на себя узды в форме подчинения себя неким общим правилам; и человек в своей беспомощности нуждается в том, чтобы эти правила были наложены на него авторитетом, наставником, более опытным и сведущим, чем сам воспитываемый; момент свободы сохраняется при этом в том, что само подчинение авторитету и наложенным им правилам совершается свободно, через внутреннее доверие к компетентности наставника и пользе установленных им правил. Искусство молитвенной и духовной жизни так же нуждается в технических навыках, как и всякое художественное творчество. Человеческая душа по самой своей природе нуждается в воспитании – душа взрослого не менее, чем душа ребенка; вся наша жизнь есть воспитание и самовоспитание. Воспитание же дается через дисциплину, т. е. через подчинение себя общим правилам. Соблюдение закона, формируя душу, открывает путь к свободе. Приучая себя соблюдать определенные правила молитвенной жизни или правила, ограничивающие хаотический произвол наших страстей и вожделений, мы этим постепенно освобождаемся от рабства перед темными, слепыми, стихийными и губительными силами нашей плотской, низшей, животной природы
.
Но этим определены и границы значения закона в духовной жизни, в духовном осуществлении веры и правды. Как уже указано, абсолютная правда есть по самому ее существу правда благодатная, т. е. свободная, и потому не вмещается в форму закона, устава, общего правила. Педагогически-дисциплинарным значением закона и исчерпывается его смысл в духовной жизни. Правда, будучи общей для всех, вместе с тем конкретна и потому индивидуальна. Уже в области права Аристотель мудро указывал, что закон в силу своей отвлеченной общности не достигает адекватной справедливости, которая требует учета индивидуальных особенностей частного случая и осуществима только через конкретную меру, достигающую «уместного, подходящего» (epieikes). Тем более, в области нравственной, духовной, религиозной жизни всякий опытный наставник и воспитатель знает, что нужно варьировать, видоизменять, смягчать закон или делать их него исключения, чтобы он соответствовал неповторимо-индивидуальному, конкретному положению или нужде именно данной, единственной и самобытной личности. Но даже самый мудрый наставник не может достигнуть последней глубины той таинственной богочеловеческой реальности, которая есть человеческая личность. Поэтому никакое подчинение закону или вообще чужому наставлению не может быть слепым и безграничным – и не должно быть таковым. Я уже говорил в другом месте о великой христианской хартии вольности, по которой человек, будучи в своей последней глубине открыт только Богу и – при достаточной зоркости – самому себе, подчинен в этой своей глубине только своей собственной совести и ему одному слышимому, к нему непосредственно обращенному голосу Божию. При всем необходимом уважении к началу общего и общеобязательного закона в духовно-нравственной жизни, при всей остроте сознания, что нужно быть неукоснительно строгим к самому себе, смиренным в оценке своих духовных сил и своего понимания требований духовной жизни, готовым прислушиваться к наставлениям людей, более мудрых, чем мы сами, и стойким в борьбе с соблазнами анархической свободы, – человек имеет не только право, но и обязанность блюсти верховную свободу своего духа в том, что есть в нем богоподобного и богосродного. Вольное подчинение авторитету не должно вырождаться в идолопоклонническое обожествление какой-либо человеческой инстанции, в безусловное и безграничное, рабское подчинение ей – не только в слепое повиновение сану, власти, внешнему авторитету, но и в признании непогрешимости инстанции внутренне-авторитетной. Всякая уставность, всякое подчинение авторитету есть всегда только путь – и притом только один из путей или часть пути, – а не цель и не существо духовной жизни. Через закон и авторитет, как указано, человек осуществляет свою свободу – высшее достояние и священное благо, ему дарованное Богом, единственную стихию, в которой в конечном счете возможно его реальное соприкосновение и общение с Богом. Поэтому где закон и авторитет оказываются все же неадекватны этой свободе – этой высшей подлинно духовной, богосродной свободе, – человек обязан блюсти ее против закона и авторитета; ибо – как отвечают апостолы синедриону – «должно повиноваться больше Богу, нежели человекам» (Деян 5:29).
Осуществление веры в духовной жизни протекает, таким образом, одновременно в двух слоях – внешнем и внутреннем, педагогическом и сущностном. Как в жизни растения, здесь совершается таинственная творческая жизнь зерна под оболочкой скорлупы, которую оно само себе создает для охранения и оформления своего творчества. Различие между истиной и ложью, благотворностью или зловредностью определено здесь только соблюдением или нарушением правильной меры, пропорции, надлежащего равновесия. Голое зерно, не защищенное твердой оболочкой, легко может увянуть, быть поглощено и разложено враждебными силами природы; но и гипертрофия скорлупы может задавить и задушить жизнь зерна; и в творческой жизни зерна наступает момент, когда оно должно прорвать толщу скорлупы. Так осуществление веры в духовной жизни, будучи по существу таинственным процессом свободного творчества, должно для своего оформления, для охраны своего равновесия творить себе внешнюю оболочку привычной уставной формы; эта форма – сама пронизанная творческими силами, ее создавшими, и приспособленная к своей задаче – ценна и благотворна, поскольку она педагогически помогает неустанному напряженному пульсированию под ней духовной жизни. Она становится вредной, поскольку, напротив, под ее давлением начинает замирать эта незримая внутренняя жизнь. И сама эта внешняя форма только относительно неподвижна; ее консерватизм есть только одна – хотя и необходимая – сторона ее бытия; под творческим воздействием скрытой под ней жизни она сама должна видоизменяться и развиваться; и поскольку это развитие есть преодоление старой формы, оно необходимо сопровождается органическим нарастанием новой формы, новой защитной оболочки. Духовная жизнь, как и всякая жизнь вообще, есть беспрерывное творчество, рождение нового и преодоление старого; где этого нет, там наступает омертвение и смерть. Но сама непрерывность творчества – а это значит: само реальное его осуществление – требует, чтобы новое рождалось из лона старого, под охраной и защитой старого, уже установленного и оформленного. И как консерватизм и творчество – сохранение в себе прошлого, память не как сознание, а как реальная действенная сила прошлого, и преодоление этого прошлого новым, совершающееся через творческую устремленность, но еще не существующее, – суть два соотносительных, неразрывно слитых момента того, что называется жизнью, – так и вольное подчинение уже сложившейся, охраняющей общей форме, и не ведающая никакого внешнего стеснения и умаления работа индивидуального, внутренне духовного осуществления веры должны пребывать в гармоническом сочетании, в некоем естественном равновесии – хотя всегда нарушаемом, но и всегда вновь восстанавливаемом.
3. ИДЕЯ ЦЕРКВИ И АНТИНОМИЗМ ЕЕ ДВУХ ПОНЯТИЙ
Я рассматривал до сих пор (за исключением одного краткого указания в прошлой главе) веру, Богообщение и его творческое осуществление как явление и задачу индивидуального духа. Этот аспект имеет, конечно, первостепенное значение в составе религиозной жизни. Бог непосредственно обращен к личности, к живой индивидуальной человеческой душе; и личность есть именно та инстанция бытия, которая имеет и ищет Бога – и наслаждается радостью обладания Им, и полна творческого борения, чтобы сквозь толщу тьмы пробить себе путь для интимного сближения с Ним. Но при всем основоположном значении этого момента, не следует забывать, что он есть именно только один из моментов религиозной жизни и что наряду с ним есть еще иной момент, о котором легко забывает наша индивидуалистическая эпоха. Этот момент есть связь между Богом и соборным единством человечества – в конечном счете связь между Богом и творением, как целым. Понятие личности как обособленной, замкнутой в себе «монады», как некого самодовлеющего мира, отношение которого к другим, подобным ему личным существам есть только отношение внешней встречи или даже безразличного соседства, – это понятие, столь укорененное в нашем нынешнем жизнечувствии, искажает даже само существо личности. Личность есть, правда, «монада», но такая монада, которая не только – в противоположность утверждению Лейбница – имеет «окна», но и имеет точку опоры своего бытия вовсе не в самой себе, а вне себя. Именно из органической связи и сопринадлежности между Богом и человеком – из того, что основа человеческого бытия есть его богочеловечность, вместе с тем из того, что Бог мыслим только как источник и средоточие «царства Божия», – следует, что личность – и именно в том моменте, который конституирует ее как личность, – есть член царства духов, лист на древе духовного бытия. Жизненный сок, ее питающий и образующий как бы субстанцию самого ее существа, есть сок, пронизывающий древо человечества, как целое; как лист, оторванный от дерева, уже не живет, а есть омертвевший останок живого листа, так и личность есть живая личность (все равно, сознает ли она это сама или нет), поскольку она живет и растет, как член соборного единства человечества. Жизнь личности имеет, конечно, абсолютную ценность в самой себе; ибо именно личность есть образ и подобие Божие. Но именно в этом своем качестве она есть жизнь в составе общечеловеческой жизни; голос ее обретает осмысленность только как участник хора голосов – хора человечества и всего творения, через который звучит голос самого Бога.
В этом соотношении состоит реальность церкви. Напомню еще раз, что Бог не есть мой Отец, а «наш Отец», или что, имея Отца, я тем самым имею братьев, есмь член семьи. Самосознание верующего человека, будучи острым восприятием личных глубин бытия – восприятием той таинственной реальности, которая выражается в слове «я», – есть одновременно восприятие «я» как члена «мы». Неповторимо-единственная реальность моего «я» только тогда сознает свою последнюю глубину и значительность, когда она ощущает себя укорененной в лоне «мы» и произрастающей из него. И если я вправе сознавать, в моем интимно-личном отношении к Христу, что Христос пришел, чтобы спасти меня, то я должен одновременно сознавать, что спасти меня он может не иначе, как спасая весь мир. Самое имя, которым верующие обозначали Богочеловека, Спасителя, – «Христос» («Помазанник»), что есть греческое обозначение для еврейского слова Мессия, – означает посланника и избранника Божия, призванного спасти не ту или иную отдельную личность, и даже не просто многих людей, а «Израиль» – народ Божий, и если первоначально этот народ мыслился как отдельное, определенное племя, то уже отчасти у пророков, а тем более у Христа и Его учеников, он понимается как зачаток всеобъемлющего единства человечества, и «спасение Израиля» расширилось до «спасения мира». Церковь и есть этот «новый Израиль», объемлющий все человечество – человечество, стремящееся к спасению и спасаемое – всеобъемлющий Богочеловеческий организм. Поэтому осуществление веры – или, что то же, – осуществление христианской правды есть не спасение поодиночке, вроде спасения погибающих с тонущего корабля, когда раздается лозунг «спасайся, кто может», и каждый думает только о себе и забывает о других, а спасение именно всего тонущего корабля, как целого, – солидарное спасение всех в их нераздельно-общей судьбе. Осуществление веры есть спасение и возрождение творения, преображение мира, наступление царства Божия, как всеобъемлющего единства просветленного бытия, когда Бог будет все во всем.
Та реальность, которая называется «церковь», есть по своему истинному существу именно зачаток, потенция этого единства просветленного, преображенного бытия в составе несовершенного бытия мира, зародыш в нем Царства Божия – то «горчичное зерно», которое имеет назначение вырасти в огромное – всеобъемлющее – дерево. Но в связи с уяснившейся нам двойственностью путей или форм осуществления веры церковь имеет двойственную природу или два весьма разнородных аспекта. Их обычно обозначают как церковь «невидимую» и «видимую». Это обозначение довольно смутно и ведет к ряду недоразумений. Я предпочитаю поэтому говорить о церкви «сущностно-мистической» и «эмпирически-реальной».
В понимании смысла этих двух аспектов и соотношения между ними господствует существенное разногласие. По мысли людей, особенно дорожащих церковью как эмпирической реальностью и опасающихся уклонения от нее, не существует вообще двух понятий церкви или двух разных реальностей, обозначаемых этим именем, а существуют только два отвлеченно мыслимых момента или признака, совместно и гармонически сочетающихся в единой, конкретно воплощенной реальности церкви вообще, как единства, союза, организации человечества, объединенного верой в Христа и хранящего в своем лоне силу и реальность самого Христа. Точнее говоря, для этого понимания «сущностно-мистическая» церковь есть только отвлеченный момент, входящий в состав конкретно-эмпирической, человеческой реальности церкви. Церковь есть в этом смысле по своему существу социальный организм, коллективная социологическая реальность, наподобие государства или семьи, с той только разницей, что она имеет мистический фундамент, покоится на божественном основании (что, впрочем, в иной форме и в некоторой мере присуще также и семье, и нации, и государству). Напротив, люди и религиозные направления, остро сознающие несовершенство церкви как эмпирической социологической реальности, резко противопоставляют друг другу эти два аспекта как две совершенно разных реальности: «истинная» церковь Христова есть для них только церковь сущностно-мистическая, тогда как то, что называется церковью в эмпирически-историческом смысле этого слова – церковь, как коллектив или организация, есть в лучшем случае только несовершенное приближение к мистической реальности церкви и по большей части ощущается далее как измена истинной церкви, как ее подмена неким грешным, фальшивым ее подобием.
Из того, что было сказано выше об имманентно необходимой двойственности путей и форм осуществления веры, уже само собой следует, что эти два крайних воззрения представляются мне односторонними и, в этом смысле, неправильными. Первое воззрение несомненно право в том отношении, что церковь сущностно-мистическая и церковь эмпирически-реальная образуют совместно некое двуединство, или что к составу церкви необходимо принадлежит момент ее вотощения в конкретно-эмпирической человеческой реальности. Но оно не право, признавая «мистическую» церковь только отвлеченным признаком «эмпирически-реальной» церкви; напротив, сущностно-мистическая церковь есть сама совершенно конкретная, субстанциальная реальность, хотя и незримая – реальность, очертания и границы которой нельзя точно установить ни чувственным восприятием, ни рациональной мыслью. И так как сущностно-мистическая церковь есть подлинная реальность, то между нею и эмпирически-реальной церковью существует сложное отношение одновременно и солидарности, близости, частичного совпадения, и постоянного различия и противоборства. С другой стороны, в понимании основоположного значения реальности сущностно-мистической церкви и в указании на возможность и даже неизбежность несовпадения и противоборства между нею и церковью эмпирически-реальной состоит правда второго воззрения. Но оно не право, оценивая эмпирически-реальную церковь по самому ее существу только как искажение истинной церкви и уклонение от нее и не понимая необходимости и положительного значения самой задачи эмпирически-человеческого воплощения церкви.
Но обратимся к обсуждению темы по существу. Сторонники «эмпирически-реальной» церкви – будем называть их отныне людьми церковного образа мысли или, короче, «церковниками» – толкуют некоторые места Нового Завета так, что усматривают в них свидетельство, что сам Иисус Христос неким умышленным актом воли «основал», «учредил» ту социальную организацию, которая именуется церковью, и тем навеки освятил ее, снабдил божественно-непререкаемой авторитетностью. Я не нахожу таких мест писания, из которых с однозначной ясностью следовал бы такой вывод; и, что еще важнее, мне совершенно очевидно, что он противоречит самому духу Христа и Его правды. Так как Христос возвестил и явил религию не закона, а благодати, то Он никак и ни в каком смысле не мог ничего «учреждать», быть «законодателем». Христос только открыл миру, влил в мир неиссякаемый источник «живой воды», запас божественных благодатных сил; этим Он оплодотворил мир, положил начало органическому росту и созреванию в мире реальности, преображающей мир и ведущей к осуществлению «Царства Божия». Человечество получило через Христа некое безмерное сокровище, некий капитал, который оно может и должно пустить в оборот, целесообразно употребить для обогащения и обновления своей жизни. Более того: так как Христос вечно жив и пребывает с нами «во все дни до скончания века», так как Он среди нас всюду, где хоть двое или трое собрались во имя Его, то Он и не перестает помогать человечеству разумно и плодотворно употреблять этот дарованный Им капитал. И все же – какое употребление мы делаем из этого капитала, в какой мере мы – послушные и разумные «соработники у Бога», строим ли мы здание царства Божия, на основе живой силы Христа, «из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы» (1 Кор 3:12) – это зависит от нас самих, и за это ответственны мы сами.
Так обнаруживаются две неразделимые, но и неслиянные реальности церкви: ее богочеловеческое основание, тот ее слой, в котором ее жизнь есть органическое развитие семени, заложенного Христом, – и ее чисто человеческое строение, в котором она есть дело, осуществляемое организационно-механически, умышленной и свободной человеческой волей. Надлежит прежде всего отчетливо осознать всю глубину различия между этими двумя слоями. Начнем с уяснения существа церкви как мистической реальности.
В своем богочеловеческом основании, в котором в ней живет и действует сам Христос – или ниспосланный Им от Бога Святой Дух – церковь прежде всего сверхвременна. Это значит, во-первых, все сменяющиеся поколения христианского человечества не только одно за другим во времени были, есть и будут участниками единой общей церкви, но все они сразу – и уже отшедшие, и ныне живущие – совместно и солидарно в ней соучаствуют, так что уже в этом смысле церковь есть не земное учреждение, а всеобъемлющая небесно-земная реальность. Это значит, далее, что откровение и подвиг Христовы искупили, спасли человечество вовсе не только с того момента, когда они произошли, так что все предшествовавшие этому событию поколения людей остались исключенными из спасения. Так как искупительная жертва Христова есть жертва заместительная, то нет никакого основания отрицать ее действие на прошлое, так же как и на будущее; Божий взор – и Божья любовь – объемлет сразу все время – прошлое, настоящее и будущее. Поэтому все искавшие правды и спасения, т. е. в этом смысле предугадывавшие реальность Христа, бывшие ее потенциальными причастниками до исторического момента Его воплощения, включены в богочеловеческий организм сущностно-мистической церкви, не менее тех, кому дано было видать Христа или кого достигла весть о Нем, Его живой образ. Наивные средневековые представления, еще доселе не преодоленные, согласно которым даже величайшие религиозные мудрецы и праведники античного мира – и отчасти и ветхозаветные – исключены из спасения в силу только того случайного обстоятельства, что они жили до Христа, явно противоречат существу всеобъемлющей правды Христовой, они забывают простую великую истину, высказанную Христом о самом себе: «Истинно говорю вам, прежде, нежели был Авраам, Я есмь» (Ин 8:58). Древние отцы церкви уже понимали, что, по крайней мере, такие личности, как Гераклит, Сократ, Платон, были «христианами до Христа». Все ищущее и предугадывающее правду Христову человечество на протяжении всего времени человеческой истории в этом смысле объемлется сущностно-мистической церковью Христовой.
Но церковь «кафолична», т. е. всеобъемлюща, не только в измерении времени, но и во всех других измерениях. Я уже не говорю о том, что она предназначена для всех людей, народов и культур мира, так как ее цель есть обновление и спасение всего творения. Это ясно само собой. Но и по своему актуальному составу мистическая церковь всеобъемлюща в том смысле, что она не имеет никаких эмпирически-зримых или определенных границ, она есть единство всего ищущего спасения, а потому и спасаемого человечества. Ни таинство крещения – в смысле эмпирически-совершенного согласно определенным правилам акта, – ни исповедание веры – в смысле явно выраженного рационального признания ее истин – не есть необходимый признак «христианина», члена мистической церкви Христовой; этим признаком является только не зримое никем, кроме самого Бога, неустановимое причастие человеческой души правде и реальности Христа. Даже уставные правила эмпирической церкви признают в принципе возможность принадлежности к церкви людей, не подходящих под обычные внешние признаки, определяющие формальное принятие в церковь. Будучи живым организмом, а не организацией, мистическая церковь объемлет всю реальность, в которой действует живая божественная сила Христа; и человеческому уму не дано видеть, докуда распространяется действие этой силы; здесь можно сказать только одно: оно распространяется на все души, сознательно или даже только бессознательно открывающиеся для Его восприятия. Наконец, церковь кафолична, всеобъемлюща и в качественном отношении. Она объемлет не только сферу жизни, которая в обычном специфическом смысле называется «религиозной», в отличие от всех других сфер человеческой жизни и активности: она предназначена обнимать и пронизывать всю человеческую душу во всех областях проявления ее активности – и нравственную, и умственную, и эстетическую жизнь, и всю личную жизнь, и всю социальную жизнь, политическую и хозяйственную. Свет Христовой правды пронизывает или должен пронизывать всю без исключения сферу мирской жизни и культуры человечества – и личные отношения между людьми, и профессиональную деятельность художника, ученого, политика, промышленника, инженера, купца, земледельца, рабочего, ремесленника, солдата. Во всех этих мирских слоях своей жизни человек, поскольку он приобщен правде Христовой, есть член мистической церкви, объемлется ею.
Другой необходимый признак сущностно-мистической церкви есть ее органическое, а потому абсолютно неразрушимое единство. Святой животворящий Дух, конституирующий ее существо, не может расколоться на части, отчужденные друг от друга и потому борющиеся, и церковь, Им живущая, так же сущностно едина, как едина всякая личность. Сколько бы расколов и раздроблений ни происходило в эмпирически-реальной церкви, они не затрагивают единства сущностно-мистической церкви, они суть раздирания на куски ризы Христовой, но не реальное распадение на части живого мистического тела Христова. Как сказал один мудрый русский христианский пастырь: перегородки, разделяющие исповедания, не доходят до неба; это значит: они не проникают до нераздельного единства сущностно-мистической церкви. Церковь, конечно, может и должна быть многообразна и многочленна, как это присуще всякому живому организму; но это многообразие, эта многочленность объемлется и насквозь пронизывается органическим единством. И все современные попытки вновь объединить исповедания были бы не только бессильны, но даже кощунственны, если бы дело шло о том, чтобы человеческими усилиями вновь слепить саму, развалившуюся на части живую церковь, как богочеловеческий организм: эта церковь основана не людьми, а Богом, точнее, рождена из Бога и никогда не могла бы быть воскрешена людьми, если бы она сама распалась, т. е. погибла. Все эти попытки имеют, напротив, смысл только как стремления восстановить в эмпирии церковной жизни единство, соответствующее неразрушимому сущностному единству мистической церкви – построить единый, открытый для всех верующих душ храм, как символ, выражение и зримую обитель вечно единого Бога и Его вечно единой богочеловеческой церкви.
И, наконец, третий необходимый признак сущностно-мистической церкви есть ее святость. Это положение есть, в сущности, даже тавтология. Церковь, будучи самим Святым Духом, поскольку Он имманентно присутствует и действует в человечестве, – тем самым есть вочеловечившаяся Святыня. Церковь свята совсем не в том смысле, что ее чисто человеческий элемент или материал, как таковой, свят и безгрешен. Мы увидим сейчас же ниже, что он, напротив, несовершенен и грешен. Она свята потому, что она и есть не что иное, как освященный, просветленный пронизанный святостью слой человеческой жизни. Как в душе даже самого грешного и преступного человека есть тот глубинный слой, который конституирует ее как личность, составляет ее богочеловеческий корень и тем самым есть священное и святое в ней, так и в соборной душе человечества и в общечеловеческой жизни есть слой, в котором она есть Богочеловечество, т. е. пронизана присутствием в ней Святого Духа. Что эта святая церковь непогрешима – это есть также тавтология, и притом, по смутности этого понятия, даже вредная; ибо атрибут непогрешимости, упоминание которого просто излишне в отношении самой святыни мистической церкви, легко переносится ошибочно на эмпирически-человеческую реальность церкви; но эта эмпирически-реальная церковь не только не непогрешима, а, напротив, фактически всегда обременена греховностью. Она «непогрешима» только постольку, поскольку она остается верна своей сущностно-мистической основе; однако один из существенных признаков ее эмпирически-человеческой природы в том именно и состоит, что она не всегда ей верна, или даже, вернее, всегда в лучшем случае только отчасти ей верна. Единственное, что верно в этом, легко вводящем в заблуждение понятии есть мысль, что святыня мистической церкви, хранимая в лоне эмпирической церкви – или эмпирических церквей – (как и за их пределами в сознании человечества вообще), будучи обнаружением божественной реальности и силы, неодолима («врата адовы не одолеют ее»). Раз вочеловечившись, она, несмотря на всю человеческую греховность, не может быть до конца искоренена и истреблена в человечестве, не может быть до конца им потеряна, а навсегда, до скончания веков, продолжает жить и обнаруживаться и в эмпирии человеческого бытия, т. е. сызнова возрождать и освящать эмпирическую реальность церкви или церквей – совершенно так же, как голос Божий, слышимый в человеческой совести, не может быть всегда заглушён и окончательно вытеснен даже в самой грешной человеческой душе. Церковь часто называют общением или общиной святых. Точнее следовало бы определить ее как общение в святости. Если мистическая церковь, как мы только что видели, всеобъемлюща, то, с другой стороны, ее незримые границы совпадают с границами святости, живущей в человеческих душах. Все люди и во всех областях своей жизни суть члены церкви, объемлются мистической церковью; но они суть ее члены и объемлются ею именно постольку, поскольку они приобщены святости, – поскольку они «водимые Духом Божиим» и «суть сыны Божии» (Рим 8:14) – поскольку в них живет тот «внутренний человек», который «находит удовольствие в законе Божием» (Рим 7:22); поскольку же они «пленники закона греховного», они находятся уже вне мистической церкви, суть «от мира сего», который не знает Духа истины (Ин 8:23; 14:17).
Я упоминаю здесь коротко еще один вывод из понятия святости сущностно-мистической церкви: он состоит в признании начала всеобщего священства христиан, членов мистической церкви. Это начало не есть только догмат, опирающийся на авторитет писания или предания: оно с непосредственной очевидностью вытекает из самого существа христианской церкви. Быть христианином и означает не что иное, как быть священнослужителем в буквальном смысле этого слова: ибо всякий причастник Святыни есть тем самым ее служитель. Он стоит прямо перед лицом Божиим, общается с Богом, служит Ему, и притом не только как отдельная изолированная личность и в заботе о своем собственном спасении. В силу того что Бог есть любовь, и освященное человечество есть нераздельно-органическое всеединство, каждый верующий представляет перед лицом Божиим всю церковь, служит Богу за нее, от ее имени и для нее. Конечно, церковь, будучи организмом, предполагает различные функции и служения. Но многообразие определено здесь только многообразием призваний, «даров Духа», и то или иное служение есть выполнение полномочия и обязанности, возложенных от самого Бога, а никак не правилами или назначением от какой-либо земной власти, не зависит от дарованных людьми сана или должности; и все виды служения суть именно разные виды священнослужения. Все различие между «духовными лицами» и «мирянами», как и различие между рангами или санами «духовных лиц», существует всецело – пользуясь традиционными каноническими терминами – jure humano, а не jure divino
; это значит: оно имеет силу и основание только в церкви эмпирически-человеческой, как необходимый момент ее организации, а не в сущностно-мистической церкви. В последней вообще нет «мирян», а есть только «духовные лица», ибо христианин по самому своему существу «не от мира сего», а «от Духа». Последний грешник или невежда, как и младенец, раз в нем хотя бы еле мерцает искра Духа, в этом отношении не отличается от епископа или первосвященника. Понятие священства в этом смысле слова имеет, конечно, именно указанное широкое общее значение. Его широту я хотел бы еще подчеркнуть указанием, что принцип всеобщего священства включает в себя и принцип всеобщего пророчества. Конечно, не всякий призван возвещать миру громогласно волю Божию, вести мир по пути, указанному Богом. Но каждому человеку Бог говорит нечто новое, что еще не было сказано другим. И в состав священнослужения – служения Богу – входит обязанность каждого человека прислушиваться к этому тихому, неслышному для мира голосу, исполнять его веление, исповедовать узнанную от самого Бога правду и обличать неправду. Если и нужно благоговейно хранить истину древнего, общепризнанного откровения, то душа, живущая только им одним, но глухая к зову Божию, обращенному к ней лично, была бы уже непокорна Богу, уже не исполняла бы служении, к которому она призвана.
Обратимся теперь к другому соотносительному началу или слою церкви – к церкви эмпирически-реальной, человечески-исторической. Ибо церковь – как, впрочем, и всякая духовная реальность или даже всякая конкретная реальность вообще – не конституируется одним началом, а есть противоборствующая сопряженность, антиномистическое единство двух противоположных начал
. В церкви – и вообще в религиозной жизни – эти два начала суть Божеское и человеческое. Действие божественных благодатных сил предполагает свободное сотрудничество, свободное движение им навстречу сил человеческой души, т. е. умышленную свободную активность самого человека. Не углубляясь здесь по существу в трудную – до конца вообще рационально не разрешимую – проблему соотношения между «благодатью» и «свободой», я ограничиваюсь указанием одного частного момента этого соотношения. Осуществление коллективной богочеловечности, воплощения Духа в реальности общечеловеческой жизни, предполагает соучастие в нем умышленного, планомерного человеческого строительства. Это строительство носит характер организации, подчинения жизни неким общим правилам, ее упорядочения и, тем самым, создания и поддержания в ней иерархической структуры власти и подчинения, как и планомерного разделения труда. Общая функция этой организации – дисциплинарно-педагогическая: преодоление несовершенной, плотской, греховно-земной природы человека требует именно некой школьной дисциплины, подчинения жизни правилам, закону; только на этом пути, как мы уже знаем, человек воспитывается к свободе, и свобода не вырождается в свою противоположность – порабощающую духовную анархию. И вместе с тем всякая земная коллективная активность требует для своей успешности порядка, умышленной согласованности действий, системы власти и подчинения. Если сущностная христианская жизнь есть жизнь благодатная, а не жизнь, подчиненная закону и власти, то для того чтобы она могла укрепиться в чисто земной, еще не преображенной ею природе человека, ей надо подготовлять почву, что возможно только через подчинение закону и упорядочивающей, планомерно действующей власти. В этом – смысл церкви как организации, как подчиненного уставу союза верующих. Эта, эмпирически-реальная церковь не только живет и действует на земле, но и сама есть реальность чисто земного, человеческого порядка, хотя и ее внутренняя основа – сила, на которую она опирается и которая ей помогает, и ее конечная цель – надмирного, благодатного порядка. Ее задача – подготовка путей – земных путей – Богу.
В силу этого ее природа определена признаками иными и отчасти даже прямо противоположными признакам сущностно-мистической церкви. Она не всеобъемлюща, а ограничена во всех тех направлениях, в которых мистическая церковь всеобъемлюща. Она, во-первых, не всеобъемлюща во времени, а, будучи, как все земное, подчинена времени, реально действует только в ныне живущем поколении, считаясь со всеми условиями настоящего времени, и только хранит непрерывную связь с прошлым; она не объемлет и все человечество настоящего времени а, будучи точно оформлена, отличает по определенным внешним признакам своих членов от чужих – тех, кто к ней принадлежит, от тех, кто стоит вне ее; она не объемлет и всей жизни человека, а, осуществляя свою определенную цель, сосуществует на одном уровне с другими организациями, преследующими другие цели, – государством, семьей, школой, экономическими организациями и всякого рода союзами; поэтому она должна постоянно вступать в отношения с ними и налаживать эти отношения – то сотрудничая с этими организациями, то борясь с ними там, где они ей противодействуют. Словом, в отличие от мистической церкви, которая подобно душе в теле, распространяется на все, все пронизывает и животворит, церковь эмпирически-реальная есть только одна из многих частей или областей человеческой жизни. Далее, в отличие от мистической церкви, она не обладает сущностным, неразделимым и неразрушимым единством. В лучшем случае она обладает организационным единством, которое, будучи делом человеческим, непрочно и, как, к несчастью, показывает исторический опыт, легко может распадаться. Живя и действуя на земле, она неизбежно должна приспособляться к многообразию земной жизни, в известной мере отражать на себе раздробленность культур, национальностей, языков, принимать различные облики и формы действия в зависимости от различных государственных и общественных порядков и культурных условий среды, в которой она действует; поэтому, помимо естественного и законного и в мистической церкви многообразия частных духовных обликов, соответствующих многообразию духовных призваний разных культур и народов, она подчинена чисто внешнему действию на нее всех земных различий и односторонностей, ограничивающих универсальность человеческого духа. И если распадения на совершенно обособленные и враждующие между собой исповедания – не говоря уже об отношениях земной борьбы, в особенности насильственной между ними, – есть прямой грех эмпирической церкви, измена ее истинному назначению, свидетельство победы в ней «плоти» над «духом» – нечто, что церковь должна стремиться преодолеть, – то ее единство даже в лучшем случае может быть только единством организационным, подобным верховной власти в империи, объединяющей многие народы и культуры, и здесь можно только примирять, но нельзя сущностно преодолеть неизбежные трения между отдельными частями, вытекающие из их человеческого несовершенства. И наконец – и это, быть может, самое важное, – эта эмпирически-реальная церковь, как это ясно уже из всего сказанного, не свята, а, напротив, как все чисто эмпирически-земное, обременена греховностью. Как я подробно говорил в первом размышлении, не существует такой внешней, эмпирической инстанции вообще, которая была бы, как таковая, непогрешима; эмпирическая церковь есть так же, как мир и человек вообще, место борьбы между добром и злом, святостью и греховностью – «поле битвы между Богом и дьяволом», как говорил Достоевский о человеческом сердце. Все попытки и формы признания безусловной, непогрешимой авторитетности какой бы то ни было инстанции эмпирической церкви (включая сюда даже протестантское признание непогрешимой авторитетности буквального, принятого церковью, текста Писания) суть виды идолопоклонства, обличенного Христом греха, перенесения святости Бога и Его правды на человеческое предание или установление.
Но там, где нет места для безусловной внутренней авторитетности, т. е. для сущностного действия самой правды, имманентно удостоверяющей саму себя, – ее функцию необходимо должна брать на себя внешняя авторитетность, т. е. принудительность власти и права. Если сущностно-мистическая церковь по самому своему существу исключает моменты власти и права, то эмпирически-реальная церковь, как всякая человеческая организация, напротив, не может обойтись без них. Ибо упорядоченная и целесообразная коллективная жизнь, в силу греховной анархичности человеческой природы, невозможна без безапелляционного повиновения закону и распоряжениям власти; естественное право критики, вытекающее из неотъемлемого права личности на свободу и даже из обязанности блюсти свободу, не может здесь приводить к праву на неповиновение (за исключением, конечно, крайнего случая, когда повиновение сознается как абсолютный «смертный» грех). Иначе наступила бы анархия, разложение церковной организации, и открыт был бы простор для подчинения церкви интересам других, уже чисто мирских организаций – государства или национальной ограниченности, печальные примеры чему так часты и в протестантизме и в православии (и в католической церкви в эпохи кризиса ее власти, например в XIV веке и начале XV века). Воинствующая церковь – и притом воинствующая в порядке ограждения мира от зла – должна, подобно всякой армии, иметь и неукоснительно действующий воинский устав и верховного главнокомандующего. Каковы бы ни были при этом возможные и ? la longue
даже неизбежные злоупотребления, ссылка на них не опровергает необходимости и благотворности права и власти. Таков истинный и благотворный смысл католического догмата папской «непогрешимости»; правомерность этого «догмата» ограничена только оговоркой, что он имеет силу jure humano, а не jure divino. Несмотря на все, иногда ужасные злоупотребления и грехи, в которые впадала церковная власть в католицизме, беспристрастное суждение должно признать, что католическая церковь – именно в силу строгости и безапелляционного действия в ней, в ее сверхнациональном единстве, в ее служении религиозным целям, началам права и власти – сделала больше для христианского воспитания человечества, для утверждения и охраны христианских начал жизни, чем какое бы то ни было иное христианское исповедание. И в наши смутные и тяжкие дни, когда мир снова ополчился против христианства, единственной земной инстанцией, на которую можно возлагать надежды в деле спасения христианской культуры, остается римско-католическая церковь, в неукоснительной твердости действующей в ней церковной дисциплины и власти. Точно так же очевидно, что исполнение задачи эмпирической церкви требует строгого блюдения в ней уставного порядка, и притом во всех ее функциях. Руководство литургической жизнью, включая совершение таинств, должно быть вверено определенным, законно назначенным, компетентным лицам, и сама эта жизнь должна совершаться по определенным правилам. В этом – основной смысл сана «духовных лиц» в эмпирической церкви. Точно так же эмпирическая церковь не может существовать без канонического права, объемлющего все ее функции без расчленения на должности и звания, вступление в которые и права и обязанности которых точно нормированы. И нравственная жизнь членов церкви нормируется также точными каноническими правилами, т. е. совершается через подчинение общим нормам нравственного закона.
Но из сказанного следует, что эти два слоя церкви – сущностно-мистический и эмпирически-реальный, или церковь как богочеловеческий организм и церковь как человеческая организация – находятся в состоянии рационально-непреодолимого, антиномистического противоборства, хотя одновременно и в неразрывной сопряженности. Если богочеловеческое существо Христа было точно выражено в догмате о неслиянном и нераздельном единстве в нем двух природ – Божеской и человеческой – то и о богочеловеческом существе церкви следует сказать то же самое, однако с тем в высшей степени важным различием, что «неслиянность» доходит здесь до отношения противоборства. Ибо, в отличие от Христа, человеческая природа церкви не безгрешна, а, напротив, несовершенна и греховна; эта несовершенность, эта греховность должны в ней постоянно преодолеваться; церковь должна – подобно человеческой личности – находиться в беспрерывном – и в пределе мирового эона, «века сего», никогда не завершимом состоянии внутренней борьбы Христова начала, Святого Духа, против несовершенства и греховности ее чисто человеческого начала. Это противоборство нельзя устранить; напротив, именно его острота есть свидетельство силы в церкви ее божественно-благодатного начала, и всякое ее ослабление есть свидетельство возрастающей ее греховности – совершенно так же, как духовное борение, напряженность покаянного сознания есть решающий показатель религиозной просветленности отдельной личности. Нераздельное единство двух природ церкви – богочеловеческой и чисто человеческой – есть, как говорил древний мудрец Гераклит о гармонии вообще, противоборствующая согласованность – «как в натянутом луке или в лире». Как я уже мимоходом напоминал выше в иной связи, то, в чем нуждается церковь, есть не «реформация», которая есть всегда попытка осуществить несбыточную цель, именно найти человеческую форму и организацию, безусловно адекватную сущностно-мистической природе церкви, а неустанное внутреннее реформирование в смысле самоисправления, совершенствования, борющегося воздействия незримого богочеловеческого начала на несовершенство эмпирически-человеческого, организационного его выражения. То, что здесь необходимо, есть неустанное, непрекращающееся следование завету апостола: «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь (metamorphousthe, reformamini) обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная» (Рим 12:2).
Задача этого непрестанного внутреннего самосовершенствования не может при этом состоять в установлении таких порядков, которые с полной адекватностью выражали бы всю полноту Христовой правды; другими словами, она не может состоять в преодолении самого различия, самой двойственности между сущностно-мистической и эмпирически-реальной церковью. Мыслить так эту задачу значило бы, с одной стороны, веровать в возможность безгрешной святости человеческой природы в пределах этого мира – что было бы величайшей ересью – и одновременно мнить, что благодатная и потому безусловно свободная правда Христова может быть адекватно осуществлена в форме некоего совершенного порядка, т. е. закона, – что противоречит самому существу этой правды. Между благодатной свободой и свободно действующей благодатью и нормированностью через закон и подчинением власти существует принципиальное, никогда и ничем не преодолимое различие и противоборство. Задача заключается здесь не в невозможном устранении этого различия, т. е. самой двойственности указанных двух слоев церкви, а только в установлении максимальной возможной гармонии, равновесия, соответствия между ними. И эта задача правильно осуществляется совсем не на пути даже только возможно большего сглаживания этого различия, а, напротив, лишь через стремление к разумному равновесию и согласованию этих двух начал именно в их полярной противоположности. Это значит: осуществление одного не должно идти за счет умаления другого; свобода не должна состоять в ослаблении и расшатывании строгого порядка, и порядок должен осуществляться без подавления абсолютной внутренней, сущностной свободы. Необходимое равновесие между этими двумя началами должно состоять не в компромиссе, взаимных уступках, частичном отказе от существа каждого из них, а в согласовании именно между максимально полным и напряженным осуществлением обоих. Это равновесие по существу антиномистично, т. е. не допускает никакого окончательного, рационального разрешения: оно фактически осуществляется только в форме борьбы и трения между этими двумя разнородными началами. Эмпирически-реальная церковь – совсем наподобие государства – наиболее совершенна лишь при сочетании в ней строжайшего порядка и дисциплины с полной внутренней свободой. Строгость и точность догматического сознания должна сочетаться с безусловной свободой религиозной мысли, подчинение церковной власти – с неотъемлемым правом и обязанностью личности свободно искать свой единственный путь к Богу, неукоснительное исполнение нравственного закона – с верой, что спасает не закон, а только благодатное внутреннее просветление, даруемое покаянному и уповающему сознанию, и что подлинная нравственная правда всегда индивидуальна, конкретна и потому зрима только самой душе и Богу. Найти форму или формулу, которая раз навсегда сделала бы такое сочетание возможным и обеспеченным, как указано, невозможно, ибо эти два начата формально противоречат друг другу, и пути к их осуществлению как бы перекрещиваются. В сфере человеческой, эмпирической, умышленной активности их можно осуществлять только как бы поочередно, переходя с одного пути на другой, в беспрерывном колебании, наподобие маятника, по обе стороны линии идеального равновесия. Как я уже сказал, гармония возможна здесь только в форме равновесия противоборствующих моментов, есть concordia discors
.
Здесь, как и всюду в религиозной жизни, надо помнить, что «невозможное человекам возможно Богу», т. е. надо стремиться, тяготеть к тому, что рационально неосуществимо, – через посредство некоего инстинкта или чутья руководиться, как путеводной звездой, недостижимым идеалом. Ибо обратная сторона неизбежной двойственности между сущностно-мистической и эмпирически-реальной церковью есть не только их нераздельная сопринадлежность, но их внутреннее органическое единство – единство церкви, как таковой, т. е. как конкретного – всегда несовершенного – воплощения в сфере свободного человеческого коллективного бытия совершенной, идеальной Богочеловечности Христа. Церковь как таинственный Богочеловеческий организм или как незримый органический процесс прорастания в мире царства Божия и церковь как умышленное, чисто человеческое земное строительство и организация суть все же лишь два слоя единой церкви в полноте этого понятия. И притом истинный смысл и назначение второго слоя – церкви, как эмпирически-человеческой реальности – состоит в ее подчинении первому, в ее функции как орудия и человеческого выражения первого слоя – церкви сущностно-мистической. Именно поэтому церковь эмпирически-реальная должна, как указано, жить в состоянии или процессе непрерывного покаяния и самоисправления, стремиться к совершенству и святости сущностно-мистической церкви, как воплощенного в человечестве Святого Духа – должна жить так, чтобы не посрамлять своего назначения быть достойным зачатком на земле того обетованного состояния, в котором «Бог будет во всем».
Церковь, будучи таким зачатком совершенного богочеловечества, есть одновременно педагогическое учреждение – коллективная инстанция, цель которой есть воспитание, совершенствование человечества – человеческой души, человеческого поведения, общего порядка человеческой жизни. Ниже я попытаюсь подробнее изложить содержание этой внутренней задачи церкви в отношении мира. Здесь я ограничиваюсь лишь одним общим указанием, необходимым для более точного уяснения самого понятия церкви. Воспитательная деятельность церкви направлена на «мир» – в том евангельском смысле этого понятия, в котором «мир» есть совокупность и сфера греховного, еще не просветленного бытия и в котором он поэтому противостоит «церкви», стоит вне ее. Но церковь, которая при этом имеется в виду, есть именно церковь сущностно-мистическая, как сфера уже облагодатствованного, просветленного, святого человеческого бытия. Грань между «церковью» и «миром» в этом смысле обоих понятий есть, как мы знаем, грань незримая, проходящая через доступные одному только Богу глубины человеческих сердец. Напротив, церковь эмпирически-реальная, будучи выражением мистической церкви в стихии несовершенного человеческого бытия, содержит поэтому «мир» и в самой себе. В силу этого задача христианского воспитания мира есть для нее одновременно – и в первую очередь! – задача собственного христианского самовоспитания. Поскольку «мир» и, тем самым, эмпирическо-реальная церковь – именно в силу их несовершенства – вынуждены осуществлять правду в форме закона, отношение между законом и благодатью, несмотря на противоположность между формами их действия, есть отношение между средством и целью, т. е. отношение внутренней подчиненности закона благодатным божественным силам. Антиномизм, уяснившийся нам выше, состоит, таким образом, только в том, что закон, будучи нравственной формой, противоположной благодати, должен быть одновременно проводником и каналом для притока благодатных сил; и он правомерен, лишь поскольку он успешно выполняет эту функцию. Отсюда следует, что весь смысл эмпирически-реальной церкви – церкви как организации и системы умышленной человеческой активности – состоит в том, что она есть человеческое орудие на службе у церкви сущностно-мистической, некая человеческая ее оболочка, которая, существенно отличаясь от самого ядра, призвана его охранять, сама пропитываться его силами и быть проводником их воздействия на окружающий мир. Всюду, где эмпирически-реальная церковь изменяет этому своему назначению – не только там, где она пленена силами чистого зла, но и там, где она по недоразумению отождествляет сама себя с сущностно-мистической церковью, – она впадает в греховное искажение своего существа; тогда она теряет свою внутреннюю силу и влиятельность, свою авторитетность, и ее функции берут на себя силы и инстанции человеческого бытия, находящиеся за ее пределами. Эти силы исполняют ее функции всегда плохо и неумело, не понимая сами того, что они делают, и впадая при этом в опасные заблуждения, в особенности смешивая задачу духовного просветления мира с задачами чисто земными; они действуют как бы на ощупь, ибо не подготовлены к этому делу; но они все же его выполняют. Так в новой европейской истории проводниками великих христианских начал свободы личности, равенства и братства между людьми оказались внецерковные и антицерковные общественные силы. Но исторический опыт одновременно оправдывает обетование, что врата адовы не одолеют церкви; церковь эмпирически-реальная, при всех ее греховных уклонениях от своего истинного назначения, ? la longue не может забыть о нем и, подобно блудному сыну, постоянно вновь возвращается к своему истинному основанию, к своей богочеловеческой почве. Этим эмпирически подтверждается нераздельное и неразрывное, хотя и неслиянное, часто слабеющее и временно теряемое двуединство церкви в конкретной полноте ее существа, как человеческого осуществления богочеловече-ского органического процесса преображения мира – процесса, основанного на нераздельном сотрудничестве благодати и человеческой свободы.
4. НРАВСТВЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВЕРЫ. ХРИСТИАНСКАЯ АКТИВНОСТЬ В МИРЕ
Я возвращаюсь теперь к тому, из чего я исходил в начале этого размышления. «Вера без дел мертва». Если первое и основное «дело» верующего есть, как мы видели, активность внутренней духовной жизни, работа по укреплению своей веры, по очищению и просветлению своей собственной души – в согласии со словом Христа, который на вопрос: «Что нам делать, чтобы творить дела Божии?» – отвечал: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, кого Он послал» (Ин 6:28–29), – то, так как Бог есть любовь, вера должна одновременно выражаться в умонастроении и делах любви. Напомню еще раз слова апостолов Павла и Иоанна: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая, или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание, и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто» (1 Кор 13:1–2). «Дети Божии и дети дьявола узнаются так: всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего». «И пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем… Кто говорит: я люблю Бога, а брата своего ненавидит; тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего» (1 Ин 3:10, 4:20–21).
Внутреннее духовное совершенствование есть тем самым накопление сил любви, а значит, и ее излучение вовне. Пребывание в Боге без излучения любви в мир так же невозможно, как немыслим источник света, ничего не освещающий, не испускающий лучей света. А это значит: в состав осуществления веры необходимо входит и нравственное ее осуществление, творение нравственной правды.
В чем заключается нравственная правда? Она заключается в делах любви, т. е. в действенной помощи людям, в утолении их нужды. А в чем заключается эта нужда? Верующий, зная это по личному опыту, никогда, конечно, не забудет, что главная, основная нужда человеческой души есть нужда духовная, удовлетворение ее тоски – тоски по Богу, как реальности, в которой она только и может найти успокоение и радость. Он знает, что «не единым хлебом жив человек», и никогда не поверит тем мирским человеколюбцам и спасителям человечества, которые думают, что достаточно насытить человека, чтобы избавить его от мучений, удовлетворить и осчастливить его. Он знает, что даже искание земной обеспеченности и земного богатства выражает, в сущности, только искание духовных благ или их условий – таких благ, как независимость, досуг, освобождение от гнетущих забот, – и, только вырождаясь, превращается в искание чувственных наслаждений или в стремление удовлетворить похоть власти или гордыни. Но, зная и любя духовную глубину живой человеческой души, понимая, что человеку нет пользы приобрести даже весь мир, если он при этом потеряет свою душу и станет рабом мира и мирских похотей, верующий вместе с тем знает, что эта великая драгоценность – живая человеческая душа – нуждается в земных условиях своего товарного существа – и в пище, и в питье, в крове и одеянии, в телесном здоровье. Потому его любовь будет необходимо посвящена служению и этим земным нуждам человека. Он не забудет слов Христа, что накормивший алчущего, напоивший жаждущего, одевший нагого, приютивший бездомного, посетивший больного осуществляет этим свою любовь к самому Богу.
Как ни проста и очевидна эта истина, она не только по человеческой греховности слишком часто не выполняется и на практике предается забвению, но – что особенно поразительно – часто ускользает и от самой религиозной мысли. Только так можно объяснить, что церковь – христианская церковь! – часто понимается, как учреждение или союз людей, имеющий своей единственной целью удовлетворение религиозных нужд верующих. Церковь в такой ее форме – к сожалению, весьма распространенной – есть, напротив, только собрание неверующих – или ложно верующих – и фарисеев. Нельзя внимать с умилением словам Евангелия и вместе с тем думать, что материальная нужда моего брата, даже самая насущная, меня не касается, или что забота о ней есть дело иных, «земных» инстанций, а не церкви. Вечный образец истинной церкви есть, напротив, церковь первохристианская, где «все верующие были вместе, имели все общее. И продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого» (Деяния Апостолов, 2:44–45). Как свидетельствует рассказанная там же (гл. 5) история Анании и Сапфиры, это не было, конечно, принудительным коммунизмом, принципиальной отменой частной собственности; это было просто добровольное преодоление любовью человеческого эгоизма и корысти. Это была забота о том, чтобы никто не имел нужды, чтобы было настоящее «единодушие» и общение любви (Деян 2:46).
При уяснении нравственного осуществления веры – задачи нравственной активности – никогда не следует забывать того, уже упомянутого в иной связи основоположного факта, что вера, будучи присутствием и действием Бога в человеческой душе, по самому своему существу универсальна, должна пронизывать все бытие человека и потому не ведает никаких границ для области своего практического действия, для сферы, в которой она может и должна совершенствовать жизнь. Если обетовано, что вера может передвигать горы, то тем более ясно, что она может все изменять в человеческой жизни и не имеет права отказываться от совершенствующего, исправляющего воздействия на все без исключения ее сферы. Христианская церковь в эпохи своей полноты и своего расцвета всегда это понимала и практиковала; так это было в т. наз. «темные века» раннего средневековья, когда церковь была центральной инстанцией нравственного и культурного возрождения варварской Европы, и на вершине средневековья, в XII-ХШ веках, и в эпоху реформационного движения (одинаково и в кальвинизме, и в тридентинском католичестве, единственное исключение здесь есть немецкая лютеранская церковь, о чем сейчас же ниже); и это сознание вновь пробуждается в современном движении возрождения христианской веры (о чем подробнее – в следующей главе). Его в принципе никогда не теряла католическая церковь.
Этот принципиальный универсализм нравственной активности христианской церкви, конечно, вполне совместим с умышленным, так сказать, тактическим ее самоограничением и сосредоточением на немногом основном и наиболее существенном – в эпохи, когда это вынуждено соотношением между церковью и силами «мира сего». Так, первохристианская церковь, образуя меньшинство в составе античного мира, отчасти осуществляла свою нравственную активность в форме обособления себя самой от языческого мира, отчасти ограничивала ее самым главным своим делом – религиозно-нравственным воздействием на индивидуальные души и на личный быт людей. – отказываясь от прямого воздействия на государственный и общественный порядок. В борьбе света с тьмой, как во всякой другой вообще войне и борьбе, неизбежны такие периоды умышленного ограничения форм борьбы – так сказать, размера военных действий, – посвящения себя главным образом задаче внутреннего накопления сил. С другой стороны, такое самоограничение может быть выражением религиозного, упадка, ослабления религиозного самосознания, потери сознания универсального смысла и назначения веры. Таков был в последние века итог действия на само христианское церковное самосознание секуляризации жизни, попытка устроить жизнь на основании ином, чем вера: это движение в некоторой мере приучило саму церковь мыслить свою задачу совершенствования мира ограниченной – в худшем случае сводить ее к задаче только «религиозного» воспитания и удовлетворения «религиозных» нужд, терпя при этом и признавая законным существование внерелигиозных нравов, понятий и порядков, и отчасти даже понятий и порядков, прямо противоположных христианской правде. Это самоумаление, самоуничижение христианского самосознания началось уже в лютеранской церкви; вынужденные сначала тактически, в борьбе против папства и клерикализма, опереться на светскую власть, Лютер и его сторонники легко соскользнули в духовный провинциализм (отчасти вообще соответствующий германской душе, в религиозной сфере более склонной к внутренней духовной активности, чем к активности ответственного нравственного совершенствования жизни) и тем стали родоначальниками того религиозного дефэтизма, для которого христианская вера распространяется только на личную, а не на общественно-государственную жизнь (как будто последняя не часть и выражение личной жизни, и государство, народ, общество есть нечто иное, чем большая семья человека). Тем более позднейший секуляризм, который, по существу есть не что иное, как отпадение от христианской веры, в известной мере сумел внушить самим верующим, самой церкви, что «религия есть частное дело». Конечно, поскольку этот лозунг есть только смутное выражение принципа свободы совести, отрицания всякого принуждения в области веры, он не только правилен, он есть элементарная аксиома христианского и вообще подлинного религиозного сознания (к несчастью, часто предававшаяся забвению); но поскольку под ним разумеется утверждение, что религиозная вера должна храниться «под спудом», в глубине души отдельных людей, не воздействуя на порядки и условия совместной жизни людей, которые при этом отдаются во власть иной, нерелигиозной или даже антирелигиозной веры, – такая проповедь запирания Бога в замкнутую обитель души есть призыв к непослушанию заветам Божиим, к отпадению от Бога. Этот призыв имел некоторый успех и среди религиозных людей, действовал на саму церковь и привел к упомянутому уродству религиозного дефэтизма, противоречащему самому существу религиозной веры – к противоестественному отказу от реального нравственного осуществления веры. Это гибельное заблуждение отчасти питается тем недоразумением, что универсализм осуществления религиозной веры отождествляется либо с клерикализмом – с политическим господством «духовного сословия», либо с насаждением веры мерами государственного принуждения. Но церковь есть не духовенство, а единство верующего человечества; и ее нравственное действие на мир есть по самому ее существу не принуждение, а свободное излучение сил любви, апеллирование к свободной душе человека. А это излучение любви не только позволительно – оно обязательно для человека; и сфера его действия, по самому существу любви, совпадающему с существом Бога, абсолютно безгранична.
Это истинное существо церкви как единства верующего человечества, в конечном счете, как сущностно-мистической церкви, т. е. как единства человечества, жаждущего спасения, а потому и спасаемого, – не следует упускать из виду при оценке не только должного в области нравственного осуществления веры, но и уже осуществленного в ней. Как я уже указывал, все нравственные достижения человеческого духа суть итог – сознательный или бессознательный – христианской веры, дело основной движущей силы церкви, – именно церкви сущностно-мистической, процесс самовоспитания человечества, т. е. реального воплощения в нем его богочеловеческого существа. Гуманитарный прогресс последних веков в этом смысле есть не в меньшей мере дело христианской церкви, чем христианизация Европы в средние века. При этом ответственно мыслящие христиане не могут, конечно, отрицать, что на эмпирически-реальной церкви или, по крайней мере, на ее господствующей части лежит тяжкий многовековой грех измены церкви сущностно-мистической – именно нравственный индифферентизм в отношении общих порядков человеческой жизни – иногда даже еще более тяжкий грех одобрения зла в этих порядках, тактирования с богатыми, сильными, жестокими мира сего. И, как уже было указано, гуманитаризм нового времени только потому принял облик неверия и противоцерковности, что церковь впала в этот великий грех. Как справедливо говорит один из самых благородных верующих христиан последних десятилетий, Charles Pеguy, никакой рационализм, никакая философия, проповедующая безбожие, не имели бы успеха, не нанесли бы церкви ни малейшего ущерба, если бы церковь противопоставила им истинный дух Христов – действенную любовь, заботу о нуждающихся и обремененных. Но для более широкого религиозного кругозора этот профанный атеистический гуманитаризм, повторяю, есть сам не что иное, как суррогат и заместитель эмпирической церкви, поскольку она не выполнила одной из главных своих задач – обходный, не всегда чистый и благотворный канал, через который притекали в человеческую жизнь силы Христовой правды, действовала реальность сущностно-мистической церкви. Все борцы против земной неправды и насилия – первые возвестители начал свободы, равенства и братства, или первые гуманитарные социалисты, – несмотря на свои, отчасти страшно гибельные заблуждения, были, против своей воли и своего сознания, лучшими, более верными христианами, чем равнодушные к страданиям и нуждам людей официальные представители церкви. Это значит: они были (именно в том, что было правого и праведного в их стремлениях) невольным орудием и медиумом того Святого Духа, который «дышит, где хочет». Задача церкви здесь – в том, чтобы, соревнуясь в любви с этими бессознательными ее представителями, помочь им понять самих себя как членов Христовой церкви, воспринять правду Христову во всей ее полноте и чистоте.
Не следует, с другой стороны, забывать, что и в составе эмпирической церкви никогда не умирал этот дух подлинной правды Христовой. Не следует забывать, что, например, христианское монашество и миссионерство, несмотря на все его грехи, никогда – с самого своего возникновения и до наших дней – не переставало творить дела любви и иметь мучеников любви. Свободу совести провозгласили до Вольтера и энциклопедистов верующие пуритане – переселенцы в Америку – «Pilgrim Fathers» в XVII веке, и еще 200 лет до них – мало кому известный русский святой отшельник и старец XV века Нил Сорский; «христианский социализм» был не только осуществлен в первохристианской церкви, но и практиковался общежительными монастырями на востоке IV века, а на западе с VI века, был представлен и голландскими «братьями совместной жизни» и моравскими «братскими общинами» начиная с XV века, т. е. гораздо раньше возникновения какого-либо профанного социализма; и, наконец, «христианский социализм», даже как доктрина общественной реформы, проповедовался еще Иоанном Златоустом в IV веке и существует, как общее течение христианской мысли, с того самого момента, как так называемый «социальный вопрос» начал мучить человеческую совесть; разумные, здравые начала его осуществления провозглашены обязательными для христиан в известных современных папских энцикликах Льва XIII и Пия XI. Сами гуманитарные общественные реформы были, по крайней мере отчасти, осуществлены верующими христианами, членами церкви, и продиктованы их христианской совестью. Справедливо говорит об этом современный христианский писатель: «Надо помнить, что церковь может действовать только через своих индивидуальных членов. Почему – спрашивают – церковь ничего не делала, чтобы протестовать против неправды работорговли? На это надо ответить: она сделала гораздо больше, чем протест, – она отменила работорговлю, именно в лице Wilberforce’a. Как церковь могла оставаться спокойной и пассивной, когда стоны жертв рудников и фабрик вопияли к Богу? Ответ на это гласит: церковь услышала эти стоны и освободила жертвы – в лице лорда Shaftesbury (инициатора первого фабричного закона). И доселе можно справедливо утверждать, что всюду, где действует созидательное усилие по социальному и личному возрождению, в девяти случаях из десяти вы найдете позади него христианское вдохновение».[28 - F. Barry. «Failures and Opportunities», статья в прекрасном сборнике «Christianity and the Crisis». London, 1933.]
В согласии с тем, что уже было сказано в главе о задаче и путях осуществления веры, мы должны здесь снова подчеркнуть, что есть два основных пути нравственного осуществления веры, нравственной активности в мире. Существует путь непосредственного свободного излучения в мир сил любви – путь «благотворения» в широком смысле этого слова, осуществляемого отчасти каждым человеком в отдельности, личностью, как таковой, отчасти же объединенным усилием коллективных организаций и союзов (благотворительных обществ, монашеских орденов, поскольку они посвящены делам любви, и т. п.); и существует путь нравственной реформы через совершенствование общих условий жизни, ее правового строя, принудительно действующих в ней законодательных норм. Современный неверующий человек склонен пренебрежительно относиться к первому пути и безмерно преувеличивать значение второго, возлагать все свои надежды на него; он мало верит в творческую силу любви и часто безгранично уповает на силу принудительных законодательных реформ. Он исходит из допущения, что человек по своей природе эгоист и что в широком масштабе успешное преодоление эгоизма и неправды может быть достигнуто только через принудительное их подавление. Более того, он исходит из мысли, что угнетенные и страдающие люди вовсе не нуждаются в любви и требуют только ограждения и защиты своих прав и интересов. Самое крайнее выражение эта установка находит в учении о классовой борьбе, в необходимости для угнетенных заставить угнетателей считаться с их интересами. Такая установка, будучи выражением неверия, в корне неправильна.
Основной, царственный путь христианской нравственной активности есть, напротив, всегда путь излучения в мире личных сил любви, путь прямого личного благотворения. Совершенно неверно, будто эти силы ограничены и могут иметь только ничтожное действие. Если они фактически ограничены по греховности человеческой природы, то в принципе они совершенно безграничны и всемогущи, ибо это суть силы благодатного порядка, действующая в нас сила самого Бога. Amor omnia vincit
. Они, прежде всего, безграничны по сфере своего приложения; нет такого положения, такой области совместной человеческой жизни, в которых было бы принципиально невозможно благотворное, смягчающее страдания, преодолевающее неправду действие любви. Социально-экономические отношения между классами, политические отношения между партиями, отношения между отдельными национальностями в пределах одного государства, международные отношения – все это может быть совершенствуемо, конфликты могут быть здесь всюду смягчаемы и преодолеваемы силой любви, человечного отношения между людьми – не в меньшей мере, чем в области чисто личных отношений. Точно так же нет никакого принципиального предела для напряженности, интенсивности и потому действенной влиятельности сил любви; подлинная горячая любовь может через индивидуальные и коллективные свои обнаружения творить истинные чудеса. Только потому, что любовь умалена, перестает гореть в сердцах, она оказывается бессильной или слабосильной. Мир держится, по существу, подвижнической любовью – силой Христовой любви в человеческих сердцах. Последние десятилетия опытно научили нас, какие огромные перевороты жизни может совершать напряженная фанатическая свободная воля даже отдельного человека или ничтожного меньшинства, – воля, одержимая, например, властолюбием. Только от нас самих зависит показать, что горение человеческого сердца силой божественной любви может, по меньшей мере, быть столь же влиятельным и могущественным в жизни. Некоторые явления современной жизни, как, например, христианские рабочие союзы или движение Action Catholique, уже начинают в известной мере об этом свидетельствовать. То, что нам в этом отношении насущно необходимо, есть возрождение вольных союзов по типу монашеских орденов, посвященных любовной помощи людям, исцелению жизни через свободную активность любви.
Далее, господствующая в современном неверующем человечестве установка забывает тот простой и бесспорный факт, что никакие, даже с лучшими замыслами задуманные законодательные реформы не могут сами быть реально осуществлены, конкретно воплощены в жизни, если за ними не стоит, ими не движет свободная воля исполнителей – человеческих личностей, охотно и добровольно готовых разумно и добросовестно их выполнять. Принуждение может чисто механически в лучшем случае ограждать жизнь от наиболее внешних и извне уловимых действий злой воли, но в отношении более скрытых ее форм оно бессильно, если за ним не стоит свободное послушание, определяемое мотивами справедливости и любви к людям. При отсутствии внутренней нравственной просветленности душ принудительные реформы, задуманные с самыми лучшими намерениями, легко вырождаются в пустую форму, через которую фактически осуществляется неправда, произвол, мертвящий бюрократизм. Истинным базисом внешних законодательных реформ, социальных и политических, служит сфера свободно, непроизвольно слагающихся нравов, нравственных привычек и понятий; это есть сфера как бы промежуточная между областью принудительного закона и областью свободного нравственного действия любви в человеческом сердце; через эту промежуточную сферу благодатная сила любви как бы просачивается в слой общих порядков жизни. Само право держится свободными нравственными силами. И, наконец, неукоснительная строгость закона, необходимая для внешнего обуздания злой воли, но всегда тяжкая для человека и, в силу абстрактной общности закона, в частных случаях несправедливая и ненужно жестокая, может и должна смягчаться и тем самым достигать своей подлинной цели, только если исполнительная и судебная власть, применяющая закон, и общественное мнение, следящее за его применением, сами руководимы конкретным нравственным тактом, чутьем к конкретной правде, т. е. в конечном итоге если применение закона само пронизано и смягчено человечностью, т. е. любовью.
Этим положен некий имманентный предел благотворному действию закона и общих порядков в человеческой жизни. Не нужно, конечно, преуменьшать их значение – не нужно забывать, что нравственная воля должна стремиться совершенствовать жизнь и через их посредство, что христианин морально обязан заботиться и о законодательной реформе порядков жизни в духе их приближения к христианской правде. Но, не говоря уже о том, что полнота христианской правды не вместима в форму закона (как мы уже это видели выше), сила самого закона только тогда истинно прочна и плодотворна, когда она не просто извне, механически воздействует на жизнь (в этой форме она способна, как указано, в лучшем случае только обуздывать наиболее явные вредные действия злой воли), а сама создает внешние условия, благоприятствующие нравственному воспитанию изнутри человеческой воли, например в форме законодательства о воспитании и обучении, семье, условиях труда и всякого законодательства, открывающего простор для нравственной самодеятельности людей и поощряющего ее. Именно поэтому медленное эволюционное, законодательное совершенствование жизни, действующее через воспитание людей, по общему правилу предпочтительнее резких внезапных перемен (не говоря уже о разнуздывающих злые, хаотические страсти революционных переворотах). Такие резкие и внезапные реформы, непосредственно обуздывающие волю через механически-внешнее действие запрещений и приказов, уместны только в крайних случаях, как противодействие вопиющим злоупотреблениям, и могут быть подлинно плодотворны лишь в ограниченной сфере.
Но этим дело еще не исчерпывается. Господствующее в протестантских исповеданиях представление о храмовом богослужении как простой совместной молитве верующих, неадекватна более глубокому мистическому смыслу того религиозного общения души с окружающей ее внешней сферой, которое есть и естественное выражение, и естественная форма общения души с Богом. Богослужение, как совместная молитва верующих, само по себе может означать и часто означает только то, что многие люди одновременно и в одном месте – но все же каждый сам по себе, в отдельности, – устремлены к Богу. Но истинное молитвенное общение предполагает нечто большее – именно некое реальное присутствие святыни Бога как общей всем реальности, сразу для всех и во всех, охваченность объединяющим, сливающим всех воедино объектом веры. Для этого необходимо, чтобы храм и храмовое, литургическое богослужение испытывалось как место или сфера, в которых реально наличествует, присутствует сам Бог. Здесь религиозное общение между верующими сочетается с совместным восприятием священного, божественного начала во внешнем, зримом облике вещей и действий – с указанным выше восприятием плоти мира, как символического обнаружения Божества, и совершается через посредство этого восприятия. Архитектурная красота храма, зримые образы Христа и святых, огни свечей, благоухание ладана, музыкальная и поэтическая красота богослужебных гимнов – все это есть естественные пособники человеческого духа в его сближении с Богом, и человеческая душа по непроизвольному, безошибочному религиозному инстинкту прибегает к этим внешним, плотским формам, помогающим ей сосредоточиться на таинственном, незримом и сверхмирном существе божественной реальности. Более того, все это испытывается, как формы реального, земного воплощения святыни Божией; во всем этом реально веет и касается человеческой души дух Божий. Отказ от пользования этими проводниками сверхмирной реальности из одностороннего утверждения абсолютной трансцендентности и незримости Бога ведет по общему правилу не к обогащению, а к обеднению религиозной жизни. Не подлежит ни малейшему сомнению, что – несмотря на всю глубину и напряженность субъективного религиозного духа в протестантизме – протестантское иконоборчество (в широком смысле этого понятия), протестантское стремление ограничить богослужение простой совместной молитвой, исключив из него все, что носит характер реального ощущения присутствия Бога в выражающих его символах, привело не к расцвету и обогащению, а к засыханию и обеднению религиозной жизни. Еще более бесспорно, что обычный, рационально столь убедительный аргумент против богослужебной жизни: «Зачем ходить в церковь, когда можно молиться Богу наедине в своей комнате?» – в девяти случаях из десяти есть просто лицемерное оправдание полной утраты религиозной жизни. Святой отшельник может, конечно, общаться с Богом в пустыне или в своей келье интимнее и напряженнее, чем прихожане – в церкви; но обычный, средний человек, не ходящий в церковь, по общему правилу, перестает молиться и дома.
В этой связи свободной религиозной интуиции открывается и сущность таинства. Таинство в общем, основоположном смысле этого понятия имеет место всюду, где благодатная сила Божия касается человеческой души, притекает в душу через восприятие какой-либо внешней, чувственно-данной реальности. Греческий язык (и восточная церковь) обозначает таинство в этом смысле вполне адекватным словом мистерии. И так как Бог вездесущ, присутствует незримо во всем творении, то таинство в принципе может испытываться и совершаться при встрече с любой реальностью во всяком акте нашей жизни; строго говоря, вполне зрячая, религиозно открытая душа должна сознавать все в мире и всю нашу жизнь как таинство; таинство в этом смысле есть необходимый, постоянный элемент нашей религиозной жизни. Чуткое к религиозному восприятию сознание фактически испытывает, по меньшей мере, такие существенные явления, как рождение нового человеческого существа, умирание и смерть, облегчение души при покаянии, эротическую любовь, брачную и семейную связь, нравственный подвиг, всякую встречу с красотой, как подлинное таинство. Поэтому, в противоположность обычной рационалистической или отвлеченно-спиритуалистической установке, основной вопрос в отношении церковно-фиксированных «таинств» (sacramenta) должен заключаться не в том, как можно поверить, что определенные внешние акты или приобщение к вещественным реальностям могут быть проводником благодатных сил, а лишь в том, почему такое действие приурочено только к этим, литургически фиксированным, актам и реальностям. Если для современного, прозаического, обезбоженного сознания вся чувственная реальность мирового бытия есть нечто ничтожное, бессмысленное, грубо материальное, так что вера в возможность приобщения через нее благодатных сил представляется иллюзией, первобытным суеверием, «фетишизмом», то религиозно открытое и чуткое сознание, напротив, с трепетным благоговением воспринимает всю жизнь, чувствует присутствие силы Божией, величия Божия во всем и через все, так что возможное недоумение здесь направлено не на признание, таинства вообще, а, напротив, на ограничение сферы таинства небольшой, заранее фиксированной группой явлений. Общий ответ на это недоумение состоит в том, что хотя Бог присутствует во всем бытии, мы сильнее, явственнее испытываем Его реальность, и она фактически вливается в нас или, по крайней мере, полнее вливается в нас при некоторых определенных условиях, в некоторых специфических положениях. Можно сознавать присутствие Бога в каждой полевой былинке, ощущать Его среди природы, и все же при входе в храм нас охватывает исключительно острое чувство близости Бога, Его живого присутствия именно здесь. Это двойственное сознание возвышенно и проникновенно выражено в Ветхом Завете в молитве Соломона при освещении построенного им храма: «Бога, которого не может вместить все небо, и небеса всех небес, тем более не может вместить дом, построенный Соломоном; но да снизойдет Бог на эту обитель, да услышит молитву, которую Его раб возносит в ней» (3 Цар 8:27–30). И в составе литургического общения с Богом через зримые, чувственно воспринимаемые символы есть акты и реальности, в которых сознание этого общения достигает как бы кульминационного пункта, душа в максимальной мере открывается Богу, и потому благодатная сила в максимальной мере вливается в нас. При определении того, каковы именно эти акты и реальности, мы имеем основание довериться религиозному преданию, связующему нас с древними, исконными человеческими представлениями – с духовной эпохой, когда наивно-детское сознание, открытое для восприятия таинственности и религиозной значительности бытия, понимало это лучше, чем в состоянии понять современный человек. К этому древнему религиозному опыту – который не надо высокомерно презирать, как суеверие, а брать своим наставником – примыкают, очевидно, наставления о таинствах, даваемые Священным писанием и преданием церкви. Так, омовение воспринимается как символ очищения и духовного возрождения, и в этом качестве становится таинством крещения. Так, молитвенно освященное вкушение хлеба и вина заповедано Христом как символ вкушения Его плоти и крови, т. е. реального приобщения Его существу. Рациональные, отвлеченно-богословские объяснения, в чем именно состоит здесь связь между чувственной реальностью телесных вещей и актов и духовной реальностью божественных, благодатных сил, в сущности бесплодны, ибо беспредметны. Спор здесь между «только символическим» пониманием таинств и утверждением реального присутствия в них Бога и Его благодатных сил основан сам на недоразумении, именно на рациональном противопоставлении того, что сверхрационально дано как неразрывное единство. Так, в таинстве причастия дело идет, конечно, не о каком-либо «химическом» превращении хлеба и вина в тело и плоть Христовы, и схоластическое понятие «транссубстанциации» здесь, по меньшей мере, неадекватно в силу своей рационалистичности; но это таинство (как и всякое другое) не есть просто «символ» или «аллегория» в номиналистическом смысле простого условного знака, не имеющего реальной связи с тем, что оно означает. Это есть то и другое одновременно – не пустой символ чужеродной реальности и не сама реальность в адекватном ее существе, а именно символизованная реальность – реальность, подлинно присутствующая, просвечивающая и проникающая в нас через чувственный символ. Существенно здесь только одно – чтобы мы ощущали саму божественную реальность, имели живое восприятие ее присутствия; в противном случае таинство превратилось бы в условный обряд и тем самым потеряло бы свою живую силу, свой подлинный религиозный смысл.
Для свободного, непредвзятого и достаточно углубленного религиозного сознания совершенно очевидно сразу двоякое: и то, что в церковном учении о таинствах содержится глубокий, сущностно-реально оправданный и благотворный смысл, и то, что твердые церковные правила о числе, характере, порядке и условиях таинств имеют лишь относительное, именно дисциплинарно-воспитательное значение. Истинно благоговейное восприятие божественной реальности в молитвенном приобщении к ней несовместимо с анархическим его осуществлением и требует оформления в точном порядке. И вместе с тем церковная фиксация таинств есть некая концентрация и локализация универсального начала таинства как притока благодатных сил через каналы чувственной реальности; такая концентрация и локализация, противодействуя тенденции человеческого сознания к небрежному, равнодушному, нерелигиозному восприятию реальности, имеет, очевидно, огромное религиозно-воспитательное значение. Церковь сама косвенно признает это широкое, свободно религиозное понимание существа таинства, с одной стороны, признавая, наряду с таинствами (sacramenta) в узком, специфическом смысле этого понятия, еще неопределенное множество «таинственных актов» (sacramentalia), и, с другой стороны, допуская, что при некоторых обстоятельствах подлинные таинства совершаются вне обычного, твердо регламентированного порядка. Намеченное понимание положительного смысла таинства, чуждое всякой идолопоклоннической идеализации или абсолютизации внешних форм, очевидно, вполне совместимо с возвещенным в Евангелии Иоанна принципом, что истинное поклонение Богу есть поклонение «в духе и истине».
То же можно сказать о значении литургически-молитвенного осуществления веры вообще. Кульминируя в опыте таинства – реального притока благодатных сил, оно имеет сущностный смысл, именно есть живая встреча, через чувственные символы, с реальностью Бога и слияние человеческих душ через совместное, солидарное приобщение к этой реальности. И одновременно литургическое делание имеет в духовно-молитвенной жизни – в связи с тем, что уяснилось нам в конце прошлой главы, – существенный и незаменимый общий педагогический смысл. А именно, оно имеет значение содействия трудному делу раскрытия человеческой души навстречу Богу, духовного просветления и преображения человека.
Первое, чему нас непосредственно учит опыт, есть помощь, которую оказывает нашей духовной жизни законченная, незыблемо-твердая форма религиозного ритуала. Поверхностное, элементарное и рационалистически истолковываемое религиозное сознание склонно воспринимать всякий обряд как мертвую, жесткую форму, стесняющую свободу духа. Это так же поверхностно, как считать свободу вообще тождественной произволу и неоформленности и усматривать во всяком законе, как таковом, нарушение свободы. Совершенно очевидно, напротив, что закон есть единственная и необходимая гарантия свободы (хотя он и может вырождаться в ее деспотическое подавление). Нечто аналогичное этому мы имеем в отношении между установленным церковным ритуалом и потребностью индивидуальной человеческой души свободно переживать и изливать свое религиозное чувство. Религиозное сознание, будучи, как указано, творчеством, требует формы для своего выражения. Но все, что глубоко переживается, что свершается в глубинах духа, и тем более такой, выходящий за пределы чисто человеческой душевной стихии богочеловеческий процесс, как общение души с Богом, нуждаясь в выражении, в излиянии вовне, вместе с тем остается для единичного человека по общему правилу несказанным, невыразимым. Только поэты, композиторы, художники кисти и резца в состоянии найти полное удовлетворение своему творческому порыву, истинно выразить себя. Гёте говорит, что человек немеет в страдании и что только поэту дано его выразить «Und wo der Mensch in seiner Qual verstummt, mir gab ein Gott zu sagen, was ich leide».[22 - «Где человек умолкает в страдании, там Бог дарует мне способность сказать о своей боли» (нем.).] Еще в большей мере невыразимо блаженство духовного просветления души, общения с Богом. При этом человеку, который неспособен сам достойно славословить Бога, вообще не остается ничего иного, как найти исход своему чувству, вложившись в выработанную коллективным религиозно-художественным опытом верующего человечества, фиксированную форму религиозного ритуала. С одной стороны, он не может надеяться личным усилием найти лучшую, более совершенную художественную форму, более адекватные слова для своего чувства, чем то, что здесь ему дается в готовом виде, как плод соборного религиозного творчества и притом величайших религиозных гениев, и, с другой стороны, даже если не все в этом ему понятно и сродно его душе, самый факт, что ему здесь открыто готовое русло для излияния чувств, неспособных найти самостоятельное выражение, – что здесь в силу навыка устанавливается некий автоматизм выражения, – есть для него огромная помощь, избавляющая его от мук бессилия выразить несказанное. (Само собой ясно, что здесь, как во всяком влиянии на душу чистой формы, вместе с тем содержится опасность вырождения в формализм, в господство опустошенной от содержания формы – опасность, против которой человеческий дух должен быть всегда настороже.) Ценность богослужебного ритуала совпадает в этом отношении с общей ценностью в человеческой жизни традиции, консерватизма, использования сложившихся, установленных форм. Никакое человеческое творчество не есть творчество из ничего, творение абсолютно новой формы из чистого хаоса бесформенности. Величайшие художники и мыслители должны в своем творчестве примыкать к какой-то традиции, пройти ее школу, как бы родиться из ее недр; наиболее яркий и убедительный пример этому есть то, что художник слова не может сам сотворить язык, но должен пользоваться многовековым художественным гением и мудростью народа, воплощенными в словах и формах языка, и может только, насквозь пропитавшись этими традиционными достижениями словесного творчества, развивать и совершенствовать их. В конечном итоге это вытекает из органической соборности человеческого духа – из того, что индивидуальность, личность по самому ее существу мыслима только как ветвь или отросток древа национальности или человечества, – о чем подробнее ниже, в другой связи. Здесь я ограничиваюсь только указанием, что готовая, сложившаяся, привычная форма молитвенной жизни, обрамляя и тем оформляя индивидуально невыразимую религиозную жизнь, в гораздо большей мере оплодотворяет ее, дает ей свободный выход, чем ее стесняет и ограничивает. А так как во всяком творчестве его выражение, его воплощение в чувственно-воспринимаемых формах, его излияние вовне не есть акт, извне присоединяющийся к его внутреннему существу, как бы только увенчивающий его, а есть необходимый элемент его внутренней успешности и плодотворности (так что, например, мысль только тогда подлинно рождена, подлинно ясна самой себе, когда она нашла себе адекватное выражение в слове), то и религиозная жизнь подлинно оформляется, укрепляется и просто сполна осуществляется, только найдя форму своего выражения. В этом состоит основной религиозно-воспитательный смысл уставного богослужения как естественного питания религиозной жизни, оформляющей силой кристаллизованных продуктов коллективного религиозного творчества.
Эта оформляющая и тем оплодотворяющая сила богослужебного ритуала имеет, конечно, как только что мельком уже указано выше в общей форме, и свою обратную, отрицательную сторону, поскольку форма имеет часто тенденцию стать чем-то самодовлеющим и тем заслонить собой само религиозное содержание. Навык к определенной религиозной форме психологически почти неизбежно ведет к перемещению самого религиозного сознания – чувства благоговения – с его реального объекта – Бога и Его правды – на форму молитвенного служения. Литургические традиции по общему правилу даже гораздо сильнее традиций догматических. Склонность к привычной литургической форме легко ведет к острому чувству чуждости, неприемлемости, даже кощунственности других форм, по существу столь же правомерных, что есть итог бессмысленного впитывания в себя самой формы, как таковой, некого мертвящего дух опьянения ею. Спор из-за той или иной литургической формы легко вырождается в бессмысленное и неразрешимое столкновение двух идолопоклонств, этим часто в религиозной истории разнуздывались демонические силы не только взаимной отчужденности, но и ненависти, из-за этого забывалось и попиралось иногда самое главное, именно сознание, что Бог есть любовь и что вне взаимного уважения, понимания, терпимости – вне чуткого братолюбия – великая спасающая сила религиозной жизни исчезает из человеческих душ и заменяется своей противоположностью – адской силой зла. И точно так же уставно-литургическая форма религиозной жизни может иногда настолько заполнить религиозное сознание, как бы противоестественно разрастаясь в нем, что она иногда вытесняет все нравственно-человеческое содержание религии; умиленное церковное благочестие, как известно, иногда сочетается с бессердечием и безлюбовностью, как и с моральной распущенностью. Но эта роковая, почти неизбежная печальная возможность злоупотребления так же мало противоречит ценности и необходимости нормального пользования религиозной формой, как мало вообще мертвящий бессодержательный формализм опровергает необходимость, ценность, положительный смысл формы, как таковой, – это выражение божественного, творческого начала, упорядочивающего хаос.
Это подводит нас к общему вопросу о значении уставности, правил, закона в молитвенной и вообще в духовной жизни (темы, имеющей очевидную связь с темой общих соображений, намеченных в предыдущей главе). По своему основному существу и высшему осуществлению, правда предполагает свободу и возможна только в свободе. Правда есть жизнь; а жизнь и свобода, спонтанное, извне не определимое и неограниченное творчество, совпадают между собой. «Бог есть Дух; и где Дух Господень, там и свобода». Если это так, то и осуществление веры или правды, движение души навстречу Богу возможно только в свободе. Путь – или движение по пути – не отличается здесь от цели; ибо на каждой стадии пути мы уже в большей или меньшей мере владеем целью; как я уже говорил, Богообщение и стремление к Нему суть нераздельно, взаимно пронизывающие друг друга моменты духовной жизни. В этом смысле Христово понятие истины как «пути в жизни», имеет значение абсолютно точного определения. Но истина, как путь и жизнь, есть истина, как свобода. Свобода, конечно, не есть анархия или бесформенность; будучи творчеством, она есть стремление к форме и осуществление формы: все совершенное оформлено. Но эта форма есть форма индивидуальная, спонтанно изнутри творимая, и никогда не есть общая, для всех одинаково обязательная, извне налагаемая форма. В некотором, более глубоком смысле всякая вера абсолютно индивидуальна, в каждом человеке – иная; так что, строго говоря, есть столько же религий, столько же вероисповеданий, сколько есть личностей – совершенно так же, как есть столько же форм любви, сколько есть на свете любящих людей. И, с другой стороны, самый процесс искания или осуществления формы – процесс творчества – необходимо содержит момент бесформенности: вольное, ничем извне не ограниченное блуждание, движение по всем направлениям есть необходимое условие отыскания истинного пути, подлинного достижения правды. Праведность, как и правда вообще, только тогда истинно достигнута, когда она достигнута изнутри, через свободное искание, когда она прошла через муки борения, сомнений, заблуждений. Не только момент формы, ясности, определенности, но и момент бесформенности, хаоса, движения наугад в темноте входит в состав свободы как основоположного богочеловеческого существа человеческого духа. «Узкий путь», ведущий в Царство Божие, есть необходимо путь, которым идешь до известной степени наугад среди тьмы и с риском заблудиться. Даже сам Христос прошел через мучительные искушения дьявола и осуществил, актуализировал в себе свою божественную природу, только свободно, изнутри самого себя, преодолев эти искушения. В человеке же искушение, блуждание, есть непрекращающийся, необходимый момент его духовной жизни.
Из этого следует, что форма духовной жизни, определенная уставностью, правилами, законом, не выражает сполна самого ее существа, не адекватна ему, а есть скорее некая внешняя его оболочка. Но из этого не следует, что она сама по себе имеет отрицательную ценность. Абсолютная правда есть свободная правда благодати, а не правда закона; но благодать не отменяет и не отвергает закона, а его восполняет. Вместе и одновременно со свободой закон есть необходимое средство и путь к достижению благодатной правды. Общий смысл уставности, закона в духовной жизни заключается в их дисциплинарно-воспитательном значении. Духовная жизнь, как уже говорилось, предполагает момент самопреодоления – т. е. преодоления высшим, духовным, богочеловеческим началом человеческой души ее низшей, плотской, темной и косной природы. В состав этого процесса самопреодоления входит наложение на себя узды в форме подчинения себя неким общим правилам; и человек в своей беспомощности нуждается в том, чтобы эти правила были наложены на него авторитетом, наставником, более опытным и сведущим, чем сам воспитываемый; момент свободы сохраняется при этом в том, что само подчинение авторитету и наложенным им правилам совершается свободно, через внутреннее доверие к компетентности наставника и пользе установленных им правил. Искусство молитвенной и духовной жизни так же нуждается в технических навыках, как и всякое художественное творчество. Человеческая душа по самой своей природе нуждается в воспитании – душа взрослого не менее, чем душа ребенка; вся наша жизнь есть воспитание и самовоспитание. Воспитание же дается через дисциплину, т. е. через подчинение себя общим правилам. Соблюдение закона, формируя душу, открывает путь к свободе. Приучая себя соблюдать определенные правила молитвенной жизни или правила, ограничивающие хаотический произвол наших страстей и вожделений, мы этим постепенно освобождаемся от рабства перед темными, слепыми, стихийными и губительными силами нашей плотской, низшей, животной природы
.
Но этим определены и границы значения закона в духовной жизни, в духовном осуществлении веры и правды. Как уже указано, абсолютная правда есть по самому ее существу правда благодатная, т. е. свободная, и потому не вмещается в форму закона, устава, общего правила. Педагогически-дисциплинарным значением закона и исчерпывается его смысл в духовной жизни. Правда, будучи общей для всех, вместе с тем конкретна и потому индивидуальна. Уже в области права Аристотель мудро указывал, что закон в силу своей отвлеченной общности не достигает адекватной справедливости, которая требует учета индивидуальных особенностей частного случая и осуществима только через конкретную меру, достигающую «уместного, подходящего» (epieikes). Тем более, в области нравственной, духовной, религиозной жизни всякий опытный наставник и воспитатель знает, что нужно варьировать, видоизменять, смягчать закон или делать их него исключения, чтобы он соответствовал неповторимо-индивидуальному, конкретному положению или нужде именно данной, единственной и самобытной личности. Но даже самый мудрый наставник не может достигнуть последней глубины той таинственной богочеловеческой реальности, которая есть человеческая личность. Поэтому никакое подчинение закону или вообще чужому наставлению не может быть слепым и безграничным – и не должно быть таковым. Я уже говорил в другом месте о великой христианской хартии вольности, по которой человек, будучи в своей последней глубине открыт только Богу и – при достаточной зоркости – самому себе, подчинен в этой своей глубине только своей собственной совести и ему одному слышимому, к нему непосредственно обращенному голосу Божию. При всем необходимом уважении к началу общего и общеобязательного закона в духовно-нравственной жизни, при всей остроте сознания, что нужно быть неукоснительно строгим к самому себе, смиренным в оценке своих духовных сил и своего понимания требований духовной жизни, готовым прислушиваться к наставлениям людей, более мудрых, чем мы сами, и стойким в борьбе с соблазнами анархической свободы, – человек имеет не только право, но и обязанность блюсти верховную свободу своего духа в том, что есть в нем богоподобного и богосродного. Вольное подчинение авторитету не должно вырождаться в идолопоклонническое обожествление какой-либо человеческой инстанции, в безусловное и безграничное, рабское подчинение ей – не только в слепое повиновение сану, власти, внешнему авторитету, но и в признании непогрешимости инстанции внутренне-авторитетной. Всякая уставность, всякое подчинение авторитету есть всегда только путь – и притом только один из путей или часть пути, – а не цель и не существо духовной жизни. Через закон и авторитет, как указано, человек осуществляет свою свободу – высшее достояние и священное благо, ему дарованное Богом, единственную стихию, в которой в конечном счете возможно его реальное соприкосновение и общение с Богом. Поэтому где закон и авторитет оказываются все же неадекватны этой свободе – этой высшей подлинно духовной, богосродной свободе, – человек обязан блюсти ее против закона и авторитета; ибо – как отвечают апостолы синедриону – «должно повиноваться больше Богу, нежели человекам» (Деян 5:29).
Осуществление веры в духовной жизни протекает, таким образом, одновременно в двух слоях – внешнем и внутреннем, педагогическом и сущностном. Как в жизни растения, здесь совершается таинственная творческая жизнь зерна под оболочкой скорлупы, которую оно само себе создает для охранения и оформления своего творчества. Различие между истиной и ложью, благотворностью или зловредностью определено здесь только соблюдением или нарушением правильной меры, пропорции, надлежащего равновесия. Голое зерно, не защищенное твердой оболочкой, легко может увянуть, быть поглощено и разложено враждебными силами природы; но и гипертрофия скорлупы может задавить и задушить жизнь зерна; и в творческой жизни зерна наступает момент, когда оно должно прорвать толщу скорлупы. Так осуществление веры в духовной жизни, будучи по существу таинственным процессом свободного творчества, должно для своего оформления, для охраны своего равновесия творить себе внешнюю оболочку привычной уставной формы; эта форма – сама пронизанная творческими силами, ее создавшими, и приспособленная к своей задаче – ценна и благотворна, поскольку она педагогически помогает неустанному напряженному пульсированию под ней духовной жизни. Она становится вредной, поскольку, напротив, под ее давлением начинает замирать эта незримая внутренняя жизнь. И сама эта внешняя форма только относительно неподвижна; ее консерватизм есть только одна – хотя и необходимая – сторона ее бытия; под творческим воздействием скрытой под ней жизни она сама должна видоизменяться и развиваться; и поскольку это развитие есть преодоление старой формы, оно необходимо сопровождается органическим нарастанием новой формы, новой защитной оболочки. Духовная жизнь, как и всякая жизнь вообще, есть беспрерывное творчество, рождение нового и преодоление старого; где этого нет, там наступает омертвение и смерть. Но сама непрерывность творчества – а это значит: само реальное его осуществление – требует, чтобы новое рождалось из лона старого, под охраной и защитой старого, уже установленного и оформленного. И как консерватизм и творчество – сохранение в себе прошлого, память не как сознание, а как реальная действенная сила прошлого, и преодоление этого прошлого новым, совершающееся через творческую устремленность, но еще не существующее, – суть два соотносительных, неразрывно слитых момента того, что называется жизнью, – так и вольное подчинение уже сложившейся, охраняющей общей форме, и не ведающая никакого внешнего стеснения и умаления работа индивидуального, внутренне духовного осуществления веры должны пребывать в гармоническом сочетании, в некоем естественном равновесии – хотя всегда нарушаемом, но и всегда вновь восстанавливаемом.
3. ИДЕЯ ЦЕРКВИ И АНТИНОМИЗМ ЕЕ ДВУХ ПОНЯТИЙ
Я рассматривал до сих пор (за исключением одного краткого указания в прошлой главе) веру, Богообщение и его творческое осуществление как явление и задачу индивидуального духа. Этот аспект имеет, конечно, первостепенное значение в составе религиозной жизни. Бог непосредственно обращен к личности, к живой индивидуальной человеческой душе; и личность есть именно та инстанция бытия, которая имеет и ищет Бога – и наслаждается радостью обладания Им, и полна творческого борения, чтобы сквозь толщу тьмы пробить себе путь для интимного сближения с Ним. Но при всем основоположном значении этого момента, не следует забывать, что он есть именно только один из моментов религиозной жизни и что наряду с ним есть еще иной момент, о котором легко забывает наша индивидуалистическая эпоха. Этот момент есть связь между Богом и соборным единством человечества – в конечном счете связь между Богом и творением, как целым. Понятие личности как обособленной, замкнутой в себе «монады», как некого самодовлеющего мира, отношение которого к другим, подобным ему личным существам есть только отношение внешней встречи или даже безразличного соседства, – это понятие, столь укорененное в нашем нынешнем жизнечувствии, искажает даже само существо личности. Личность есть, правда, «монада», но такая монада, которая не только – в противоположность утверждению Лейбница – имеет «окна», но и имеет точку опоры своего бытия вовсе не в самой себе, а вне себя. Именно из органической связи и сопринадлежности между Богом и человеком – из того, что основа человеческого бытия есть его богочеловечность, вместе с тем из того, что Бог мыслим только как источник и средоточие «царства Божия», – следует, что личность – и именно в том моменте, который конституирует ее как личность, – есть член царства духов, лист на древе духовного бытия. Жизненный сок, ее питающий и образующий как бы субстанцию самого ее существа, есть сок, пронизывающий древо человечества, как целое; как лист, оторванный от дерева, уже не живет, а есть омертвевший останок живого листа, так и личность есть живая личность (все равно, сознает ли она это сама или нет), поскольку она живет и растет, как член соборного единства человечества. Жизнь личности имеет, конечно, абсолютную ценность в самой себе; ибо именно личность есть образ и подобие Божие. Но именно в этом своем качестве она есть жизнь в составе общечеловеческой жизни; голос ее обретает осмысленность только как участник хора голосов – хора человечества и всего творения, через который звучит голос самого Бога.
В этом соотношении состоит реальность церкви. Напомню еще раз, что Бог не есть мой Отец, а «наш Отец», или что, имея Отца, я тем самым имею братьев, есмь член семьи. Самосознание верующего человека, будучи острым восприятием личных глубин бытия – восприятием той таинственной реальности, которая выражается в слове «я», – есть одновременно восприятие «я» как члена «мы». Неповторимо-единственная реальность моего «я» только тогда сознает свою последнюю глубину и значительность, когда она ощущает себя укорененной в лоне «мы» и произрастающей из него. И если я вправе сознавать, в моем интимно-личном отношении к Христу, что Христос пришел, чтобы спасти меня, то я должен одновременно сознавать, что спасти меня он может не иначе, как спасая весь мир. Самое имя, которым верующие обозначали Богочеловека, Спасителя, – «Христос» («Помазанник»), что есть греческое обозначение для еврейского слова Мессия, – означает посланника и избранника Божия, призванного спасти не ту или иную отдельную личность, и даже не просто многих людей, а «Израиль» – народ Божий, и если первоначально этот народ мыслился как отдельное, определенное племя, то уже отчасти у пророков, а тем более у Христа и Его учеников, он понимается как зачаток всеобъемлющего единства человечества, и «спасение Израиля» расширилось до «спасения мира». Церковь и есть этот «новый Израиль», объемлющий все человечество – человечество, стремящееся к спасению и спасаемое – всеобъемлющий Богочеловеческий организм. Поэтому осуществление веры – или, что то же, – осуществление христианской правды есть не спасение поодиночке, вроде спасения погибающих с тонущего корабля, когда раздается лозунг «спасайся, кто может», и каждый думает только о себе и забывает о других, а спасение именно всего тонущего корабля, как целого, – солидарное спасение всех в их нераздельно-общей судьбе. Осуществление веры есть спасение и возрождение творения, преображение мира, наступление царства Божия, как всеобъемлющего единства просветленного бытия, когда Бог будет все во всем.
Та реальность, которая называется «церковь», есть по своему истинному существу именно зачаток, потенция этого единства просветленного, преображенного бытия в составе несовершенного бытия мира, зародыш в нем Царства Божия – то «горчичное зерно», которое имеет назначение вырасти в огромное – всеобъемлющее – дерево. Но в связи с уяснившейся нам двойственностью путей или форм осуществления веры церковь имеет двойственную природу или два весьма разнородных аспекта. Их обычно обозначают как церковь «невидимую» и «видимую». Это обозначение довольно смутно и ведет к ряду недоразумений. Я предпочитаю поэтому говорить о церкви «сущностно-мистической» и «эмпирически-реальной».
В понимании смысла этих двух аспектов и соотношения между ними господствует существенное разногласие. По мысли людей, особенно дорожащих церковью как эмпирической реальностью и опасающихся уклонения от нее, не существует вообще двух понятий церкви или двух разных реальностей, обозначаемых этим именем, а существуют только два отвлеченно мыслимых момента или признака, совместно и гармонически сочетающихся в единой, конкретно воплощенной реальности церкви вообще, как единства, союза, организации человечества, объединенного верой в Христа и хранящего в своем лоне силу и реальность самого Христа. Точнее говоря, для этого понимания «сущностно-мистическая» церковь есть только отвлеченный момент, входящий в состав конкретно-эмпирической, человеческой реальности церкви. Церковь есть в этом смысле по своему существу социальный организм, коллективная социологическая реальность, наподобие государства или семьи, с той только разницей, что она имеет мистический фундамент, покоится на божественном основании (что, впрочем, в иной форме и в некоторой мере присуще также и семье, и нации, и государству). Напротив, люди и религиозные направления, остро сознающие несовершенство церкви как эмпирической социологической реальности, резко противопоставляют друг другу эти два аспекта как две совершенно разных реальности: «истинная» церковь Христова есть для них только церковь сущностно-мистическая, тогда как то, что называется церковью в эмпирически-историческом смысле этого слова – церковь, как коллектив или организация, есть в лучшем случае только несовершенное приближение к мистической реальности церкви и по большей части ощущается далее как измена истинной церкви, как ее подмена неким грешным, фальшивым ее подобием.
Из того, что было сказано выше об имманентно необходимой двойственности путей и форм осуществления веры, уже само собой следует, что эти два крайних воззрения представляются мне односторонними и, в этом смысле, неправильными. Первое воззрение несомненно право в том отношении, что церковь сущностно-мистическая и церковь эмпирически-реальная образуют совместно некое двуединство, или что к составу церкви необходимо принадлежит момент ее вотощения в конкретно-эмпирической человеческой реальности. Но оно не право, признавая «мистическую» церковь только отвлеченным признаком «эмпирически-реальной» церкви; напротив, сущностно-мистическая церковь есть сама совершенно конкретная, субстанциальная реальность, хотя и незримая – реальность, очертания и границы которой нельзя точно установить ни чувственным восприятием, ни рациональной мыслью. И так как сущностно-мистическая церковь есть подлинная реальность, то между нею и эмпирически-реальной церковью существует сложное отношение одновременно и солидарности, близости, частичного совпадения, и постоянного различия и противоборства. С другой стороны, в понимании основоположного значения реальности сущностно-мистической церкви и в указании на возможность и даже неизбежность несовпадения и противоборства между нею и церковью эмпирически-реальной состоит правда второго воззрения. Но оно не право, оценивая эмпирически-реальную церковь по самому ее существу только как искажение истинной церкви и уклонение от нее и не понимая необходимости и положительного значения самой задачи эмпирически-человеческого воплощения церкви.
Но обратимся к обсуждению темы по существу. Сторонники «эмпирически-реальной» церкви – будем называть их отныне людьми церковного образа мысли или, короче, «церковниками» – толкуют некоторые места Нового Завета так, что усматривают в них свидетельство, что сам Иисус Христос неким умышленным актом воли «основал», «учредил» ту социальную организацию, которая именуется церковью, и тем навеки освятил ее, снабдил божественно-непререкаемой авторитетностью. Я не нахожу таких мест писания, из которых с однозначной ясностью следовал бы такой вывод; и, что еще важнее, мне совершенно очевидно, что он противоречит самому духу Христа и Его правды. Так как Христос возвестил и явил религию не закона, а благодати, то Он никак и ни в каком смысле не мог ничего «учреждать», быть «законодателем». Христос только открыл миру, влил в мир неиссякаемый источник «живой воды», запас божественных благодатных сил; этим Он оплодотворил мир, положил начало органическому росту и созреванию в мире реальности, преображающей мир и ведущей к осуществлению «Царства Божия». Человечество получило через Христа некое безмерное сокровище, некий капитал, который оно может и должно пустить в оборот, целесообразно употребить для обогащения и обновления своей жизни. Более того: так как Христос вечно жив и пребывает с нами «во все дни до скончания века», так как Он среди нас всюду, где хоть двое или трое собрались во имя Его, то Он и не перестает помогать человечеству разумно и плодотворно употреблять этот дарованный Им капитал. И все же – какое употребление мы делаем из этого капитала, в какой мере мы – послушные и разумные «соработники у Бога», строим ли мы здание царства Божия, на основе живой силы Христа, «из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы» (1 Кор 3:12) – это зависит от нас самих, и за это ответственны мы сами.
Так обнаруживаются две неразделимые, но и неслиянные реальности церкви: ее богочеловеческое основание, тот ее слой, в котором ее жизнь есть органическое развитие семени, заложенного Христом, – и ее чисто человеческое строение, в котором она есть дело, осуществляемое организационно-механически, умышленной и свободной человеческой волей. Надлежит прежде всего отчетливо осознать всю глубину различия между этими двумя слоями. Начнем с уяснения существа церкви как мистической реальности.
В своем богочеловеческом основании, в котором в ней живет и действует сам Христос – или ниспосланный Им от Бога Святой Дух – церковь прежде всего сверхвременна. Это значит, во-первых, все сменяющиеся поколения христианского человечества не только одно за другим во времени были, есть и будут участниками единой общей церкви, но все они сразу – и уже отшедшие, и ныне живущие – совместно и солидарно в ней соучаствуют, так что уже в этом смысле церковь есть не земное учреждение, а всеобъемлющая небесно-земная реальность. Это значит, далее, что откровение и подвиг Христовы искупили, спасли человечество вовсе не только с того момента, когда они произошли, так что все предшествовавшие этому событию поколения людей остались исключенными из спасения. Так как искупительная жертва Христова есть жертва заместительная, то нет никакого основания отрицать ее действие на прошлое, так же как и на будущее; Божий взор – и Божья любовь – объемлет сразу все время – прошлое, настоящее и будущее. Поэтому все искавшие правды и спасения, т. е. в этом смысле предугадывавшие реальность Христа, бывшие ее потенциальными причастниками до исторического момента Его воплощения, включены в богочеловеческий организм сущностно-мистической церкви, не менее тех, кому дано было видать Христа или кого достигла весть о Нем, Его живой образ. Наивные средневековые представления, еще доселе не преодоленные, согласно которым даже величайшие религиозные мудрецы и праведники античного мира – и отчасти и ветхозаветные – исключены из спасения в силу только того случайного обстоятельства, что они жили до Христа, явно противоречат существу всеобъемлющей правды Христовой, они забывают простую великую истину, высказанную Христом о самом себе: «Истинно говорю вам, прежде, нежели был Авраам, Я есмь» (Ин 8:58). Древние отцы церкви уже понимали, что, по крайней мере, такие личности, как Гераклит, Сократ, Платон, были «христианами до Христа». Все ищущее и предугадывающее правду Христову человечество на протяжении всего времени человеческой истории в этом смысле объемлется сущностно-мистической церковью Христовой.
Но церковь «кафолична», т. е. всеобъемлюща, не только в измерении времени, но и во всех других измерениях. Я уже не говорю о том, что она предназначена для всех людей, народов и культур мира, так как ее цель есть обновление и спасение всего творения. Это ясно само собой. Но и по своему актуальному составу мистическая церковь всеобъемлюща в том смысле, что она не имеет никаких эмпирически-зримых или определенных границ, она есть единство всего ищущего спасения, а потому и спасаемого человечества. Ни таинство крещения – в смысле эмпирически-совершенного согласно определенным правилам акта, – ни исповедание веры – в смысле явно выраженного рационального признания ее истин – не есть необходимый признак «христианина», члена мистической церкви Христовой; этим признаком является только не зримое никем, кроме самого Бога, неустановимое причастие человеческой души правде и реальности Христа. Даже уставные правила эмпирической церкви признают в принципе возможность принадлежности к церкви людей, не подходящих под обычные внешние признаки, определяющие формальное принятие в церковь. Будучи живым организмом, а не организацией, мистическая церковь объемлет всю реальность, в которой действует живая божественная сила Христа; и человеческому уму не дано видеть, докуда распространяется действие этой силы; здесь можно сказать только одно: оно распространяется на все души, сознательно или даже только бессознательно открывающиеся для Его восприятия. Наконец, церковь кафолична, всеобъемлюща и в качественном отношении. Она объемлет не только сферу жизни, которая в обычном специфическом смысле называется «религиозной», в отличие от всех других сфер человеческой жизни и активности: она предназначена обнимать и пронизывать всю человеческую душу во всех областях проявления ее активности – и нравственную, и умственную, и эстетическую жизнь, и всю личную жизнь, и всю социальную жизнь, политическую и хозяйственную. Свет Христовой правды пронизывает или должен пронизывать всю без исключения сферу мирской жизни и культуры человечества – и личные отношения между людьми, и профессиональную деятельность художника, ученого, политика, промышленника, инженера, купца, земледельца, рабочего, ремесленника, солдата. Во всех этих мирских слоях своей жизни человек, поскольку он приобщен правде Христовой, есть член мистической церкви, объемлется ею.
Другой необходимый признак сущностно-мистической церкви есть ее органическое, а потому абсолютно неразрушимое единство. Святой животворящий Дух, конституирующий ее существо, не может расколоться на части, отчужденные друг от друга и потому борющиеся, и церковь, Им живущая, так же сущностно едина, как едина всякая личность. Сколько бы расколов и раздроблений ни происходило в эмпирически-реальной церкви, они не затрагивают единства сущностно-мистической церкви, они суть раздирания на куски ризы Христовой, но не реальное распадение на части живого мистического тела Христова. Как сказал один мудрый русский христианский пастырь: перегородки, разделяющие исповедания, не доходят до неба; это значит: они не проникают до нераздельного единства сущностно-мистической церкви. Церковь, конечно, может и должна быть многообразна и многочленна, как это присуще всякому живому организму; но это многообразие, эта многочленность объемлется и насквозь пронизывается органическим единством. И все современные попытки вновь объединить исповедания были бы не только бессильны, но даже кощунственны, если бы дело шло о том, чтобы человеческими усилиями вновь слепить саму, развалившуюся на части живую церковь, как богочеловеческий организм: эта церковь основана не людьми, а Богом, точнее, рождена из Бога и никогда не могла бы быть воскрешена людьми, если бы она сама распалась, т. е. погибла. Все эти попытки имеют, напротив, смысл только как стремления восстановить в эмпирии церковной жизни единство, соответствующее неразрушимому сущностному единству мистической церкви – построить единый, открытый для всех верующих душ храм, как символ, выражение и зримую обитель вечно единого Бога и Его вечно единой богочеловеческой церкви.
И, наконец, третий необходимый признак сущностно-мистической церкви есть ее святость. Это положение есть, в сущности, даже тавтология. Церковь, будучи самим Святым Духом, поскольку Он имманентно присутствует и действует в человечестве, – тем самым есть вочеловечившаяся Святыня. Церковь свята совсем не в том смысле, что ее чисто человеческий элемент или материал, как таковой, свят и безгрешен. Мы увидим сейчас же ниже, что он, напротив, несовершенен и грешен. Она свята потому, что она и есть не что иное, как освященный, просветленный пронизанный святостью слой человеческой жизни. Как в душе даже самого грешного и преступного человека есть тот глубинный слой, который конституирует ее как личность, составляет ее богочеловеческий корень и тем самым есть священное и святое в ней, так и в соборной душе человечества и в общечеловеческой жизни есть слой, в котором она есть Богочеловечество, т. е. пронизана присутствием в ней Святого Духа. Что эта святая церковь непогрешима – это есть также тавтология, и притом, по смутности этого понятия, даже вредная; ибо атрибут непогрешимости, упоминание которого просто излишне в отношении самой святыни мистической церкви, легко переносится ошибочно на эмпирически-человеческую реальность церкви; но эта эмпирически-реальная церковь не только не непогрешима, а, напротив, фактически всегда обременена греховностью. Она «непогрешима» только постольку, поскольку она остается верна своей сущностно-мистической основе; однако один из существенных признаков ее эмпирически-человеческой природы в том именно и состоит, что она не всегда ей верна, или даже, вернее, всегда в лучшем случае только отчасти ей верна. Единственное, что верно в этом, легко вводящем в заблуждение понятии есть мысль, что святыня мистической церкви, хранимая в лоне эмпирической церкви – или эмпирических церквей – (как и за их пределами в сознании человечества вообще), будучи обнаружением божественной реальности и силы, неодолима («врата адовы не одолеют ее»). Раз вочеловечившись, она, несмотря на всю человеческую греховность, не может быть до конца искоренена и истреблена в человечестве, не может быть до конца им потеряна, а навсегда, до скончания веков, продолжает жить и обнаруживаться и в эмпирии человеческого бытия, т. е. сызнова возрождать и освящать эмпирическую реальность церкви или церквей – совершенно так же, как голос Божий, слышимый в человеческой совести, не может быть всегда заглушён и окончательно вытеснен даже в самой грешной человеческой душе. Церковь часто называют общением или общиной святых. Точнее следовало бы определить ее как общение в святости. Если мистическая церковь, как мы только что видели, всеобъемлюща, то, с другой стороны, ее незримые границы совпадают с границами святости, живущей в человеческих душах. Все люди и во всех областях своей жизни суть члены церкви, объемлются мистической церковью; но они суть ее члены и объемлются ею именно постольку, поскольку они приобщены святости, – поскольку они «водимые Духом Божиим» и «суть сыны Божии» (Рим 8:14) – поскольку в них живет тот «внутренний человек», который «находит удовольствие в законе Божием» (Рим 7:22); поскольку же они «пленники закона греховного», они находятся уже вне мистической церкви, суть «от мира сего», который не знает Духа истины (Ин 8:23; 14:17).
Я упоминаю здесь коротко еще один вывод из понятия святости сущностно-мистической церкви: он состоит в признании начала всеобщего священства христиан, членов мистической церкви. Это начало не есть только догмат, опирающийся на авторитет писания или предания: оно с непосредственной очевидностью вытекает из самого существа христианской церкви. Быть христианином и означает не что иное, как быть священнослужителем в буквальном смысле этого слова: ибо всякий причастник Святыни есть тем самым ее служитель. Он стоит прямо перед лицом Божиим, общается с Богом, служит Ему, и притом не только как отдельная изолированная личность и в заботе о своем собственном спасении. В силу того что Бог есть любовь, и освященное человечество есть нераздельно-органическое всеединство, каждый верующий представляет перед лицом Божиим всю церковь, служит Богу за нее, от ее имени и для нее. Конечно, церковь, будучи организмом, предполагает различные функции и служения. Но многообразие определено здесь только многообразием призваний, «даров Духа», и то или иное служение есть выполнение полномочия и обязанности, возложенных от самого Бога, а никак не правилами или назначением от какой-либо земной власти, не зависит от дарованных людьми сана или должности; и все виды служения суть именно разные виды священнослужения. Все различие между «духовными лицами» и «мирянами», как и различие между рангами или санами «духовных лиц», существует всецело – пользуясь традиционными каноническими терминами – jure humano, а не jure divino
; это значит: оно имеет силу и основание только в церкви эмпирически-человеческой, как необходимый момент ее организации, а не в сущностно-мистической церкви. В последней вообще нет «мирян», а есть только «духовные лица», ибо христианин по самому своему существу «не от мира сего», а «от Духа». Последний грешник или невежда, как и младенец, раз в нем хотя бы еле мерцает искра Духа, в этом отношении не отличается от епископа или первосвященника. Понятие священства в этом смысле слова имеет, конечно, именно указанное широкое общее значение. Его широту я хотел бы еще подчеркнуть указанием, что принцип всеобщего священства включает в себя и принцип всеобщего пророчества. Конечно, не всякий призван возвещать миру громогласно волю Божию, вести мир по пути, указанному Богом. Но каждому человеку Бог говорит нечто новое, что еще не было сказано другим. И в состав священнослужения – служения Богу – входит обязанность каждого человека прислушиваться к этому тихому, неслышному для мира голосу, исполнять его веление, исповедовать узнанную от самого Бога правду и обличать неправду. Если и нужно благоговейно хранить истину древнего, общепризнанного откровения, то душа, живущая только им одним, но глухая к зову Божию, обращенному к ней лично, была бы уже непокорна Богу, уже не исполняла бы служении, к которому она призвана.
Обратимся теперь к другому соотносительному началу или слою церкви – к церкви эмпирически-реальной, человечески-исторической. Ибо церковь – как, впрочем, и всякая духовная реальность или даже всякая конкретная реальность вообще – не конституируется одним началом, а есть противоборствующая сопряженность, антиномистическое единство двух противоположных начал
. В церкви – и вообще в религиозной жизни – эти два начала суть Божеское и человеческое. Действие божественных благодатных сил предполагает свободное сотрудничество, свободное движение им навстречу сил человеческой души, т. е. умышленную свободную активность самого человека. Не углубляясь здесь по существу в трудную – до конца вообще рационально не разрешимую – проблему соотношения между «благодатью» и «свободой», я ограничиваюсь указанием одного частного момента этого соотношения. Осуществление коллективной богочеловечности, воплощения Духа в реальности общечеловеческой жизни, предполагает соучастие в нем умышленного, планомерного человеческого строительства. Это строительство носит характер организации, подчинения жизни неким общим правилам, ее упорядочения и, тем самым, создания и поддержания в ней иерархической структуры власти и подчинения, как и планомерного разделения труда. Общая функция этой организации – дисциплинарно-педагогическая: преодоление несовершенной, плотской, греховно-земной природы человека требует именно некой школьной дисциплины, подчинения жизни правилам, закону; только на этом пути, как мы уже знаем, человек воспитывается к свободе, и свобода не вырождается в свою противоположность – порабощающую духовную анархию. И вместе с тем всякая земная коллективная активность требует для своей успешности порядка, умышленной согласованности действий, системы власти и подчинения. Если сущностная христианская жизнь есть жизнь благодатная, а не жизнь, подчиненная закону и власти, то для того чтобы она могла укрепиться в чисто земной, еще не преображенной ею природе человека, ей надо подготовлять почву, что возможно только через подчинение закону и упорядочивающей, планомерно действующей власти. В этом – смысл церкви как организации, как подчиненного уставу союза верующих. Эта, эмпирически-реальная церковь не только живет и действует на земле, но и сама есть реальность чисто земного, человеческого порядка, хотя и ее внутренняя основа – сила, на которую она опирается и которая ей помогает, и ее конечная цель – надмирного, благодатного порядка. Ее задача – подготовка путей – земных путей – Богу.
В силу этого ее природа определена признаками иными и отчасти даже прямо противоположными признакам сущностно-мистической церкви. Она не всеобъемлюща, а ограничена во всех тех направлениях, в которых мистическая церковь всеобъемлюща. Она, во-первых, не всеобъемлюща во времени, а, будучи, как все земное, подчинена времени, реально действует только в ныне живущем поколении, считаясь со всеми условиями настоящего времени, и только хранит непрерывную связь с прошлым; она не объемлет и все человечество настоящего времени а, будучи точно оформлена, отличает по определенным внешним признакам своих членов от чужих – тех, кто к ней принадлежит, от тех, кто стоит вне ее; она не объемлет и всей жизни человека, а, осуществляя свою определенную цель, сосуществует на одном уровне с другими организациями, преследующими другие цели, – государством, семьей, школой, экономическими организациями и всякого рода союзами; поэтому она должна постоянно вступать в отношения с ними и налаживать эти отношения – то сотрудничая с этими организациями, то борясь с ними там, где они ей противодействуют. Словом, в отличие от мистической церкви, которая подобно душе в теле, распространяется на все, все пронизывает и животворит, церковь эмпирически-реальная есть только одна из многих частей или областей человеческой жизни. Далее, в отличие от мистической церкви, она не обладает сущностным, неразделимым и неразрушимым единством. В лучшем случае она обладает организационным единством, которое, будучи делом человеческим, непрочно и, как, к несчастью, показывает исторический опыт, легко может распадаться. Живя и действуя на земле, она неизбежно должна приспособляться к многообразию земной жизни, в известной мере отражать на себе раздробленность культур, национальностей, языков, принимать различные облики и формы действия в зависимости от различных государственных и общественных порядков и культурных условий среды, в которой она действует; поэтому, помимо естественного и законного и в мистической церкви многообразия частных духовных обликов, соответствующих многообразию духовных призваний разных культур и народов, она подчинена чисто внешнему действию на нее всех земных различий и односторонностей, ограничивающих универсальность человеческого духа. И если распадения на совершенно обособленные и враждующие между собой исповедания – не говоря уже об отношениях земной борьбы, в особенности насильственной между ними, – есть прямой грех эмпирической церкви, измена ее истинному назначению, свидетельство победы в ней «плоти» над «духом» – нечто, что церковь должна стремиться преодолеть, – то ее единство даже в лучшем случае может быть только единством организационным, подобным верховной власти в империи, объединяющей многие народы и культуры, и здесь можно только примирять, но нельзя сущностно преодолеть неизбежные трения между отдельными частями, вытекающие из их человеческого несовершенства. И наконец – и это, быть может, самое важное, – эта эмпирически-реальная церковь, как это ясно уже из всего сказанного, не свята, а, напротив, как все чисто эмпирически-земное, обременена греховностью. Как я подробно говорил в первом размышлении, не существует такой внешней, эмпирической инстанции вообще, которая была бы, как таковая, непогрешима; эмпирическая церковь есть так же, как мир и человек вообще, место борьбы между добром и злом, святостью и греховностью – «поле битвы между Богом и дьяволом», как говорил Достоевский о человеческом сердце. Все попытки и формы признания безусловной, непогрешимой авторитетности какой бы то ни было инстанции эмпирической церкви (включая сюда даже протестантское признание непогрешимой авторитетности буквального, принятого церковью, текста Писания) суть виды идолопоклонства, обличенного Христом греха, перенесения святости Бога и Его правды на человеческое предание или установление.
Но там, где нет места для безусловной внутренней авторитетности, т. е. для сущностного действия самой правды, имманентно удостоверяющей саму себя, – ее функцию необходимо должна брать на себя внешняя авторитетность, т. е. принудительность власти и права. Если сущностно-мистическая церковь по самому своему существу исключает моменты власти и права, то эмпирически-реальная церковь, как всякая человеческая организация, напротив, не может обойтись без них. Ибо упорядоченная и целесообразная коллективная жизнь, в силу греховной анархичности человеческой природы, невозможна без безапелляционного повиновения закону и распоряжениям власти; естественное право критики, вытекающее из неотъемлемого права личности на свободу и даже из обязанности блюсти свободу, не может здесь приводить к праву на неповиновение (за исключением, конечно, крайнего случая, когда повиновение сознается как абсолютный «смертный» грех). Иначе наступила бы анархия, разложение церковной организации, и открыт был бы простор для подчинения церкви интересам других, уже чисто мирских организаций – государства или национальной ограниченности, печальные примеры чему так часты и в протестантизме и в православии (и в католической церкви в эпохи кризиса ее власти, например в XIV веке и начале XV века). Воинствующая церковь – и притом воинствующая в порядке ограждения мира от зла – должна, подобно всякой армии, иметь и неукоснительно действующий воинский устав и верховного главнокомандующего. Каковы бы ни были при этом возможные и ? la longue
даже неизбежные злоупотребления, ссылка на них не опровергает необходимости и благотворности права и власти. Таков истинный и благотворный смысл католического догмата папской «непогрешимости»; правомерность этого «догмата» ограничена только оговоркой, что он имеет силу jure humano, а не jure divino. Несмотря на все, иногда ужасные злоупотребления и грехи, в которые впадала церковная власть в католицизме, беспристрастное суждение должно признать, что католическая церковь – именно в силу строгости и безапелляционного действия в ней, в ее сверхнациональном единстве, в ее служении религиозным целям, началам права и власти – сделала больше для христианского воспитания человечества, для утверждения и охраны христианских начал жизни, чем какое бы то ни было иное христианское исповедание. И в наши смутные и тяжкие дни, когда мир снова ополчился против христианства, единственной земной инстанцией, на которую можно возлагать надежды в деле спасения христианской культуры, остается римско-католическая церковь, в неукоснительной твердости действующей в ней церковной дисциплины и власти. Точно так же очевидно, что исполнение задачи эмпирической церкви требует строгого блюдения в ней уставного порядка, и притом во всех ее функциях. Руководство литургической жизнью, включая совершение таинств, должно быть вверено определенным, законно назначенным, компетентным лицам, и сама эта жизнь должна совершаться по определенным правилам. В этом – основной смысл сана «духовных лиц» в эмпирической церкви. Точно так же эмпирическая церковь не может существовать без канонического права, объемлющего все ее функции без расчленения на должности и звания, вступление в которые и права и обязанности которых точно нормированы. И нравственная жизнь членов церкви нормируется также точными каноническими правилами, т. е. совершается через подчинение общим нормам нравственного закона.
Но из сказанного следует, что эти два слоя церкви – сущностно-мистический и эмпирически-реальный, или церковь как богочеловеческий организм и церковь как человеческая организация – находятся в состоянии рационально-непреодолимого, антиномистического противоборства, хотя одновременно и в неразрывной сопряженности. Если богочеловеческое существо Христа было точно выражено в догмате о неслиянном и нераздельном единстве в нем двух природ – Божеской и человеческой – то и о богочеловеческом существе церкви следует сказать то же самое, однако с тем в высшей степени важным различием, что «неслиянность» доходит здесь до отношения противоборства. Ибо, в отличие от Христа, человеческая природа церкви не безгрешна, а, напротив, несовершенна и греховна; эта несовершенность, эта греховность должны в ней постоянно преодолеваться; церковь должна – подобно человеческой личности – находиться в беспрерывном – и в пределе мирового эона, «века сего», никогда не завершимом состоянии внутренней борьбы Христова начала, Святого Духа, против несовершенства и греховности ее чисто человеческого начала. Это противоборство нельзя устранить; напротив, именно его острота есть свидетельство силы в церкви ее божественно-благодатного начала, и всякое ее ослабление есть свидетельство возрастающей ее греховности – совершенно так же, как духовное борение, напряженность покаянного сознания есть решающий показатель религиозной просветленности отдельной личности. Нераздельное единство двух природ церкви – богочеловеческой и чисто человеческой – есть, как говорил древний мудрец Гераклит о гармонии вообще, противоборствующая согласованность – «как в натянутом луке или в лире». Как я уже мимоходом напоминал выше в иной связи, то, в чем нуждается церковь, есть не «реформация», которая есть всегда попытка осуществить несбыточную цель, именно найти человеческую форму и организацию, безусловно адекватную сущностно-мистической природе церкви, а неустанное внутреннее реформирование в смысле самоисправления, совершенствования, борющегося воздействия незримого богочеловеческого начала на несовершенство эмпирически-человеческого, организационного его выражения. То, что здесь необходимо, есть неустанное, непрекращающееся следование завету апостола: «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь (metamorphousthe, reformamini) обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная» (Рим 12:2).
Задача этого непрестанного внутреннего самосовершенствования не может при этом состоять в установлении таких порядков, которые с полной адекватностью выражали бы всю полноту Христовой правды; другими словами, она не может состоять в преодолении самого различия, самой двойственности между сущностно-мистической и эмпирически-реальной церковью. Мыслить так эту задачу значило бы, с одной стороны, веровать в возможность безгрешной святости человеческой природы в пределах этого мира – что было бы величайшей ересью – и одновременно мнить, что благодатная и потому безусловно свободная правда Христова может быть адекватно осуществлена в форме некоего совершенного порядка, т. е. закона, – что противоречит самому существу этой правды. Между благодатной свободой и свободно действующей благодатью и нормированностью через закон и подчинением власти существует принципиальное, никогда и ничем не преодолимое различие и противоборство. Задача заключается здесь не в невозможном устранении этого различия, т. е. самой двойственности указанных двух слоев церкви, а только в установлении максимальной возможной гармонии, равновесия, соответствия между ними. И эта задача правильно осуществляется совсем не на пути даже только возможно большего сглаживания этого различия, а, напротив, лишь через стремление к разумному равновесию и согласованию этих двух начал именно в их полярной противоположности. Это значит: осуществление одного не должно идти за счет умаления другого; свобода не должна состоять в ослаблении и расшатывании строгого порядка, и порядок должен осуществляться без подавления абсолютной внутренней, сущностной свободы. Необходимое равновесие между этими двумя началами должно состоять не в компромиссе, взаимных уступках, частичном отказе от существа каждого из них, а в согласовании именно между максимально полным и напряженным осуществлением обоих. Это равновесие по существу антиномистично, т. е. не допускает никакого окончательного, рационального разрешения: оно фактически осуществляется только в форме борьбы и трения между этими двумя разнородными началами. Эмпирически-реальная церковь – совсем наподобие государства – наиболее совершенна лишь при сочетании в ней строжайшего порядка и дисциплины с полной внутренней свободой. Строгость и точность догматического сознания должна сочетаться с безусловной свободой религиозной мысли, подчинение церковной власти – с неотъемлемым правом и обязанностью личности свободно искать свой единственный путь к Богу, неукоснительное исполнение нравственного закона – с верой, что спасает не закон, а только благодатное внутреннее просветление, даруемое покаянному и уповающему сознанию, и что подлинная нравственная правда всегда индивидуальна, конкретна и потому зрима только самой душе и Богу. Найти форму или формулу, которая раз навсегда сделала бы такое сочетание возможным и обеспеченным, как указано, невозможно, ибо эти два начата формально противоречат друг другу, и пути к их осуществлению как бы перекрещиваются. В сфере человеческой, эмпирической, умышленной активности их можно осуществлять только как бы поочередно, переходя с одного пути на другой, в беспрерывном колебании, наподобие маятника, по обе стороны линии идеального равновесия. Как я уже сказал, гармония возможна здесь только в форме равновесия противоборствующих моментов, есть concordia discors
.
Здесь, как и всюду в религиозной жизни, надо помнить, что «невозможное человекам возможно Богу», т. е. надо стремиться, тяготеть к тому, что рационально неосуществимо, – через посредство некоего инстинкта или чутья руководиться, как путеводной звездой, недостижимым идеалом. Ибо обратная сторона неизбежной двойственности между сущностно-мистической и эмпирически-реальной церковью есть не только их нераздельная сопринадлежность, но их внутреннее органическое единство – единство церкви, как таковой, т. е. как конкретного – всегда несовершенного – воплощения в сфере свободного человеческого коллективного бытия совершенной, идеальной Богочеловечности Христа. Церковь как таинственный Богочеловеческий организм или как незримый органический процесс прорастания в мире царства Божия и церковь как умышленное, чисто человеческое земное строительство и организация суть все же лишь два слоя единой церкви в полноте этого понятия. И притом истинный смысл и назначение второго слоя – церкви, как эмпирически-человеческой реальности – состоит в ее подчинении первому, в ее функции как орудия и человеческого выражения первого слоя – церкви сущностно-мистической. Именно поэтому церковь эмпирически-реальная должна, как указано, жить в состоянии или процессе непрерывного покаяния и самоисправления, стремиться к совершенству и святости сущностно-мистической церкви, как воплощенного в человечестве Святого Духа – должна жить так, чтобы не посрамлять своего назначения быть достойным зачатком на земле того обетованного состояния, в котором «Бог будет во всем».
Церковь, будучи таким зачатком совершенного богочеловечества, есть одновременно педагогическое учреждение – коллективная инстанция, цель которой есть воспитание, совершенствование человечества – человеческой души, человеческого поведения, общего порядка человеческой жизни. Ниже я попытаюсь подробнее изложить содержание этой внутренней задачи церкви в отношении мира. Здесь я ограничиваюсь лишь одним общим указанием, необходимым для более точного уяснения самого понятия церкви. Воспитательная деятельность церкви направлена на «мир» – в том евангельском смысле этого понятия, в котором «мир» есть совокупность и сфера греховного, еще не просветленного бытия и в котором он поэтому противостоит «церкви», стоит вне ее. Но церковь, которая при этом имеется в виду, есть именно церковь сущностно-мистическая, как сфера уже облагодатствованного, просветленного, святого человеческого бытия. Грань между «церковью» и «миром» в этом смысле обоих понятий есть, как мы знаем, грань незримая, проходящая через доступные одному только Богу глубины человеческих сердец. Напротив, церковь эмпирически-реальная, будучи выражением мистической церкви в стихии несовершенного человеческого бытия, содержит поэтому «мир» и в самой себе. В силу этого задача христианского воспитания мира есть для нее одновременно – и в первую очередь! – задача собственного христианского самовоспитания. Поскольку «мир» и, тем самым, эмпирическо-реальная церковь – именно в силу их несовершенства – вынуждены осуществлять правду в форме закона, отношение между законом и благодатью, несмотря на противоположность между формами их действия, есть отношение между средством и целью, т. е. отношение внутренней подчиненности закона благодатным божественным силам. Антиномизм, уяснившийся нам выше, состоит, таким образом, только в том, что закон, будучи нравственной формой, противоположной благодати, должен быть одновременно проводником и каналом для притока благодатных сил; и он правомерен, лишь поскольку он успешно выполняет эту функцию. Отсюда следует, что весь смысл эмпирически-реальной церкви – церкви как организации и системы умышленной человеческой активности – состоит в том, что она есть человеческое орудие на службе у церкви сущностно-мистической, некая человеческая ее оболочка, которая, существенно отличаясь от самого ядра, призвана его охранять, сама пропитываться его силами и быть проводником их воздействия на окружающий мир. Всюду, где эмпирически-реальная церковь изменяет этому своему назначению – не только там, где она пленена силами чистого зла, но и там, где она по недоразумению отождествляет сама себя с сущностно-мистической церковью, – она впадает в греховное искажение своего существа; тогда она теряет свою внутреннюю силу и влиятельность, свою авторитетность, и ее функции берут на себя силы и инстанции человеческого бытия, находящиеся за ее пределами. Эти силы исполняют ее функции всегда плохо и неумело, не понимая сами того, что они делают, и впадая при этом в опасные заблуждения, в особенности смешивая задачу духовного просветления мира с задачами чисто земными; они действуют как бы на ощупь, ибо не подготовлены к этому делу; но они все же его выполняют. Так в новой европейской истории проводниками великих христианских начал свободы личности, равенства и братства между людьми оказались внецерковные и антицерковные общественные силы. Но исторический опыт одновременно оправдывает обетование, что врата адовы не одолеют церкви; церковь эмпирически-реальная, при всех ее греховных уклонениях от своего истинного назначения, ? la longue не может забыть о нем и, подобно блудному сыну, постоянно вновь возвращается к своему истинному основанию, к своей богочеловеческой почве. Этим эмпирически подтверждается нераздельное и неразрывное, хотя и неслиянное, часто слабеющее и временно теряемое двуединство церкви в конкретной полноте ее существа, как человеческого осуществления богочеловече-ского органического процесса преображения мира – процесса, основанного на нераздельном сотрудничестве благодати и человеческой свободы.
4. НРАВСТВЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВЕРЫ. ХРИСТИАНСКАЯ АКТИВНОСТЬ В МИРЕ
Я возвращаюсь теперь к тому, из чего я исходил в начале этого размышления. «Вера без дел мертва». Если первое и основное «дело» верующего есть, как мы видели, активность внутренней духовной жизни, работа по укреплению своей веры, по очищению и просветлению своей собственной души – в согласии со словом Христа, который на вопрос: «Что нам делать, чтобы творить дела Божии?» – отвечал: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, кого Он послал» (Ин 6:28–29), – то, так как Бог есть любовь, вера должна одновременно выражаться в умонастроении и делах любви. Напомню еще раз слова апостолов Павла и Иоанна: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая, или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание, и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто» (1 Кор 13:1–2). «Дети Божии и дети дьявола узнаются так: всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего». «И пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем… Кто говорит: я люблю Бога, а брата своего ненавидит; тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего» (1 Ин 3:10, 4:20–21).
Внутреннее духовное совершенствование есть тем самым накопление сил любви, а значит, и ее излучение вовне. Пребывание в Боге без излучения любви в мир так же невозможно, как немыслим источник света, ничего не освещающий, не испускающий лучей света. А это значит: в состав осуществления веры необходимо входит и нравственное ее осуществление, творение нравственной правды.
В чем заключается нравственная правда? Она заключается в делах любви, т. е. в действенной помощи людям, в утолении их нужды. А в чем заключается эта нужда? Верующий, зная это по личному опыту, никогда, конечно, не забудет, что главная, основная нужда человеческой души есть нужда духовная, удовлетворение ее тоски – тоски по Богу, как реальности, в которой она только и может найти успокоение и радость. Он знает, что «не единым хлебом жив человек», и никогда не поверит тем мирским человеколюбцам и спасителям человечества, которые думают, что достаточно насытить человека, чтобы избавить его от мучений, удовлетворить и осчастливить его. Он знает, что даже искание земной обеспеченности и земного богатства выражает, в сущности, только искание духовных благ или их условий – таких благ, как независимость, досуг, освобождение от гнетущих забот, – и, только вырождаясь, превращается в искание чувственных наслаждений или в стремление удовлетворить похоть власти или гордыни. Но, зная и любя духовную глубину живой человеческой души, понимая, что человеку нет пользы приобрести даже весь мир, если он при этом потеряет свою душу и станет рабом мира и мирских похотей, верующий вместе с тем знает, что эта великая драгоценность – живая человеческая душа – нуждается в земных условиях своего товарного существа – и в пище, и в питье, в крове и одеянии, в телесном здоровье. Потому его любовь будет необходимо посвящена служению и этим земным нуждам человека. Он не забудет слов Христа, что накормивший алчущего, напоивший жаждущего, одевший нагого, приютивший бездомного, посетивший больного осуществляет этим свою любовь к самому Богу.
Как ни проста и очевидна эта истина, она не только по человеческой греховности слишком часто не выполняется и на практике предается забвению, но – что особенно поразительно – часто ускользает и от самой религиозной мысли. Только так можно объяснить, что церковь – христианская церковь! – часто понимается, как учреждение или союз людей, имеющий своей единственной целью удовлетворение религиозных нужд верующих. Церковь в такой ее форме – к сожалению, весьма распространенной – есть, напротив, только собрание неверующих – или ложно верующих – и фарисеев. Нельзя внимать с умилением словам Евангелия и вместе с тем думать, что материальная нужда моего брата, даже самая насущная, меня не касается, или что забота о ней есть дело иных, «земных» инстанций, а не церкви. Вечный образец истинной церкви есть, напротив, церковь первохристианская, где «все верующие были вместе, имели все общее. И продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого» (Деяния Апостолов, 2:44–45). Как свидетельствует рассказанная там же (гл. 5) история Анании и Сапфиры, это не было, конечно, принудительным коммунизмом, принципиальной отменой частной собственности; это было просто добровольное преодоление любовью человеческого эгоизма и корысти. Это была забота о том, чтобы никто не имел нужды, чтобы было настоящее «единодушие» и общение любви (Деян 2:46).
При уяснении нравственного осуществления веры – задачи нравственной активности – никогда не следует забывать того, уже упомянутого в иной связи основоположного факта, что вера, будучи присутствием и действием Бога в человеческой душе, по самому своему существу универсальна, должна пронизывать все бытие человека и потому не ведает никаких границ для области своего практического действия, для сферы, в которой она может и должна совершенствовать жизнь. Если обетовано, что вера может передвигать горы, то тем более ясно, что она может все изменять в человеческой жизни и не имеет права отказываться от совершенствующего, исправляющего воздействия на все без исключения ее сферы. Христианская церковь в эпохи своей полноты и своего расцвета всегда это понимала и практиковала; так это было в т. наз. «темные века» раннего средневековья, когда церковь была центральной инстанцией нравственного и культурного возрождения варварской Европы, и на вершине средневековья, в XII-ХШ веках, и в эпоху реформационного движения (одинаково и в кальвинизме, и в тридентинском католичестве, единственное исключение здесь есть немецкая лютеранская церковь, о чем сейчас же ниже); и это сознание вновь пробуждается в современном движении возрождения христианской веры (о чем подробнее – в следующей главе). Его в принципе никогда не теряла католическая церковь.
Этот принципиальный универсализм нравственной активности христианской церкви, конечно, вполне совместим с умышленным, так сказать, тактическим ее самоограничением и сосредоточением на немногом основном и наиболее существенном – в эпохи, когда это вынуждено соотношением между церковью и силами «мира сего». Так, первохристианская церковь, образуя меньшинство в составе античного мира, отчасти осуществляла свою нравственную активность в форме обособления себя самой от языческого мира, отчасти ограничивала ее самым главным своим делом – религиозно-нравственным воздействием на индивидуальные души и на личный быт людей. – отказываясь от прямого воздействия на государственный и общественный порядок. В борьбе света с тьмой, как во всякой другой вообще войне и борьбе, неизбежны такие периоды умышленного ограничения форм борьбы – так сказать, размера военных действий, – посвящения себя главным образом задаче внутреннего накопления сил. С другой стороны, такое самоограничение может быть выражением религиозного, упадка, ослабления религиозного самосознания, потери сознания универсального смысла и назначения веры. Таков был в последние века итог действия на само христианское церковное самосознание секуляризации жизни, попытка устроить жизнь на основании ином, чем вера: это движение в некоторой мере приучило саму церковь мыслить свою задачу совершенствования мира ограниченной – в худшем случае сводить ее к задаче только «религиозного» воспитания и удовлетворения «религиозных» нужд, терпя при этом и признавая законным существование внерелигиозных нравов, понятий и порядков, и отчасти даже понятий и порядков, прямо противоположных христианской правде. Это самоумаление, самоуничижение христианского самосознания началось уже в лютеранской церкви; вынужденные сначала тактически, в борьбе против папства и клерикализма, опереться на светскую власть, Лютер и его сторонники легко соскользнули в духовный провинциализм (отчасти вообще соответствующий германской душе, в религиозной сфере более склонной к внутренней духовной активности, чем к активности ответственного нравственного совершенствования жизни) и тем стали родоначальниками того религиозного дефэтизма, для которого христианская вера распространяется только на личную, а не на общественно-государственную жизнь (как будто последняя не часть и выражение личной жизни, и государство, народ, общество есть нечто иное, чем большая семья человека). Тем более позднейший секуляризм, который, по существу есть не что иное, как отпадение от христианской веры, в известной мере сумел внушить самим верующим, самой церкви, что «религия есть частное дело». Конечно, поскольку этот лозунг есть только смутное выражение принципа свободы совести, отрицания всякого принуждения в области веры, он не только правилен, он есть элементарная аксиома христианского и вообще подлинного религиозного сознания (к несчастью, часто предававшаяся забвению); но поскольку под ним разумеется утверждение, что религиозная вера должна храниться «под спудом», в глубине души отдельных людей, не воздействуя на порядки и условия совместной жизни людей, которые при этом отдаются во власть иной, нерелигиозной или даже антирелигиозной веры, – такая проповедь запирания Бога в замкнутую обитель души есть призыв к непослушанию заветам Божиим, к отпадению от Бога. Этот призыв имел некоторый успех и среди религиозных людей, действовал на саму церковь и привел к упомянутому уродству религиозного дефэтизма, противоречащему самому существу религиозной веры – к противоестественному отказу от реального нравственного осуществления веры. Это гибельное заблуждение отчасти питается тем недоразумением, что универсализм осуществления религиозной веры отождествляется либо с клерикализмом – с политическим господством «духовного сословия», либо с насаждением веры мерами государственного принуждения. Но церковь есть не духовенство, а единство верующего человечества; и ее нравственное действие на мир есть по самому ее существу не принуждение, а свободное излучение сил любви, апеллирование к свободной душе человека. А это излучение любви не только позволительно – оно обязательно для человека; и сфера его действия, по самому существу любви, совпадающему с существом Бога, абсолютно безгранична.
Это истинное существо церкви как единства верующего человечества, в конечном счете, как сущностно-мистической церкви, т. е. как единства человечества, жаждущего спасения, а потому и спасаемого, – не следует упускать из виду при оценке не только должного в области нравственного осуществления веры, но и уже осуществленного в ней. Как я уже указывал, все нравственные достижения человеческого духа суть итог – сознательный или бессознательный – христианской веры, дело основной движущей силы церкви, – именно церкви сущностно-мистической, процесс самовоспитания человечества, т. е. реального воплощения в нем его богочеловеческого существа. Гуманитарный прогресс последних веков в этом смысле есть не в меньшей мере дело христианской церкви, чем христианизация Европы в средние века. При этом ответственно мыслящие христиане не могут, конечно, отрицать, что на эмпирически-реальной церкви или, по крайней мере, на ее господствующей части лежит тяжкий многовековой грех измены церкви сущностно-мистической – именно нравственный индифферентизм в отношении общих порядков человеческой жизни – иногда даже еще более тяжкий грех одобрения зла в этих порядках, тактирования с богатыми, сильными, жестокими мира сего. И, как уже было указано, гуманитаризм нового времени только потому принял облик неверия и противоцерковности, что церковь впала в этот великий грех. Как справедливо говорит один из самых благородных верующих христиан последних десятилетий, Charles Pеguy, никакой рационализм, никакая философия, проповедующая безбожие, не имели бы успеха, не нанесли бы церкви ни малейшего ущерба, если бы церковь противопоставила им истинный дух Христов – действенную любовь, заботу о нуждающихся и обремененных. Но для более широкого религиозного кругозора этот профанный атеистический гуманитаризм, повторяю, есть сам не что иное, как суррогат и заместитель эмпирической церкви, поскольку она не выполнила одной из главных своих задач – обходный, не всегда чистый и благотворный канал, через который притекали в человеческую жизнь силы Христовой правды, действовала реальность сущностно-мистической церкви. Все борцы против земной неправды и насилия – первые возвестители начал свободы, равенства и братства, или первые гуманитарные социалисты, – несмотря на свои, отчасти страшно гибельные заблуждения, были, против своей воли и своего сознания, лучшими, более верными христианами, чем равнодушные к страданиям и нуждам людей официальные представители церкви. Это значит: они были (именно в том, что было правого и праведного в их стремлениях) невольным орудием и медиумом того Святого Духа, который «дышит, где хочет». Задача церкви здесь – в том, чтобы, соревнуясь в любви с этими бессознательными ее представителями, помочь им понять самих себя как членов Христовой церкви, воспринять правду Христову во всей ее полноте и чистоте.
Не следует, с другой стороны, забывать, что и в составе эмпирической церкви никогда не умирал этот дух подлинной правды Христовой. Не следует забывать, что, например, христианское монашество и миссионерство, несмотря на все его грехи, никогда – с самого своего возникновения и до наших дней – не переставало творить дела любви и иметь мучеников любви. Свободу совести провозгласили до Вольтера и энциклопедистов верующие пуритане – переселенцы в Америку – «Pilgrim Fathers» в XVII веке, и еще 200 лет до них – мало кому известный русский святой отшельник и старец XV века Нил Сорский; «христианский социализм» был не только осуществлен в первохристианской церкви, но и практиковался общежительными монастырями на востоке IV века, а на западе с VI века, был представлен и голландскими «братьями совместной жизни» и моравскими «братскими общинами» начиная с XV века, т. е. гораздо раньше возникновения какого-либо профанного социализма; и, наконец, «христианский социализм», даже как доктрина общественной реформы, проповедовался еще Иоанном Златоустом в IV веке и существует, как общее течение христианской мысли, с того самого момента, как так называемый «социальный вопрос» начал мучить человеческую совесть; разумные, здравые начала его осуществления провозглашены обязательными для христиан в известных современных папских энцикликах Льва XIII и Пия XI. Сами гуманитарные общественные реформы были, по крайней мере отчасти, осуществлены верующими христианами, членами церкви, и продиктованы их христианской совестью. Справедливо говорит об этом современный христианский писатель: «Надо помнить, что церковь может действовать только через своих индивидуальных членов. Почему – спрашивают – церковь ничего не делала, чтобы протестовать против неправды работорговли? На это надо ответить: она сделала гораздо больше, чем протест, – она отменила работорговлю, именно в лице Wilberforce’a. Как церковь могла оставаться спокойной и пассивной, когда стоны жертв рудников и фабрик вопияли к Богу? Ответ на это гласит: церковь услышала эти стоны и освободила жертвы – в лице лорда Shaftesbury (инициатора первого фабричного закона). И доселе можно справедливо утверждать, что всюду, где действует созидательное усилие по социальному и личному возрождению, в девяти случаях из десяти вы найдете позади него христианское вдохновение».[28 - F. Barry. «Failures and Opportunities», статья в прекрасном сборнике «Christianity and the Crisis». London, 1933.]
В согласии с тем, что уже было сказано в главе о задаче и путях осуществления веры, мы должны здесь снова подчеркнуть, что есть два основных пути нравственного осуществления веры, нравственной активности в мире. Существует путь непосредственного свободного излучения в мир сил любви – путь «благотворения» в широком смысле этого слова, осуществляемого отчасти каждым человеком в отдельности, личностью, как таковой, отчасти же объединенным усилием коллективных организаций и союзов (благотворительных обществ, монашеских орденов, поскольку они посвящены делам любви, и т. п.); и существует путь нравственной реформы через совершенствование общих условий жизни, ее правового строя, принудительно действующих в ней законодательных норм. Современный неверующий человек склонен пренебрежительно относиться к первому пути и безмерно преувеличивать значение второго, возлагать все свои надежды на него; он мало верит в творческую силу любви и часто безгранично уповает на силу принудительных законодательных реформ. Он исходит из допущения, что человек по своей природе эгоист и что в широком масштабе успешное преодоление эгоизма и неправды может быть достигнуто только через принудительное их подавление. Более того, он исходит из мысли, что угнетенные и страдающие люди вовсе не нуждаются в любви и требуют только ограждения и защиты своих прав и интересов. Самое крайнее выражение эта установка находит в учении о классовой борьбе, в необходимости для угнетенных заставить угнетателей считаться с их интересами. Такая установка, будучи выражением неверия, в корне неправильна.
Основной, царственный путь христианской нравственной активности есть, напротив, всегда путь излучения в мире личных сил любви, путь прямого личного благотворения. Совершенно неверно, будто эти силы ограничены и могут иметь только ничтожное действие. Если они фактически ограничены по греховности человеческой природы, то в принципе они совершенно безграничны и всемогущи, ибо это суть силы благодатного порядка, действующая в нас сила самого Бога. Amor omnia vincit
. Они, прежде всего, безграничны по сфере своего приложения; нет такого положения, такой области совместной человеческой жизни, в которых было бы принципиально невозможно благотворное, смягчающее страдания, преодолевающее неправду действие любви. Социально-экономические отношения между классами, политические отношения между партиями, отношения между отдельными национальностями в пределах одного государства, международные отношения – все это может быть совершенствуемо, конфликты могут быть здесь всюду смягчаемы и преодолеваемы силой любви, человечного отношения между людьми – не в меньшей мере, чем в области чисто личных отношений. Точно так же нет никакого принципиального предела для напряженности, интенсивности и потому действенной влиятельности сил любви; подлинная горячая любовь может через индивидуальные и коллективные свои обнаружения творить истинные чудеса. Только потому, что любовь умалена, перестает гореть в сердцах, она оказывается бессильной или слабосильной. Мир держится, по существу, подвижнической любовью – силой Христовой любви в человеческих сердцах. Последние десятилетия опытно научили нас, какие огромные перевороты жизни может совершать напряженная фанатическая свободная воля даже отдельного человека или ничтожного меньшинства, – воля, одержимая, например, властолюбием. Только от нас самих зависит показать, что горение человеческого сердца силой божественной любви может, по меньшей мере, быть столь же влиятельным и могущественным в жизни. Некоторые явления современной жизни, как, например, христианские рабочие союзы или движение Action Catholique, уже начинают в известной мере об этом свидетельствовать. То, что нам в этом отношении насущно необходимо, есть возрождение вольных союзов по типу монашеских орденов, посвященных любовной помощи людям, исцелению жизни через свободную активность любви.
Далее, господствующая в современном неверующем человечестве установка забывает тот простой и бесспорный факт, что никакие, даже с лучшими замыслами задуманные законодательные реформы не могут сами быть реально осуществлены, конкретно воплощены в жизни, если за ними не стоит, ими не движет свободная воля исполнителей – человеческих личностей, охотно и добровольно готовых разумно и добросовестно их выполнять. Принуждение может чисто механически в лучшем случае ограждать жизнь от наиболее внешних и извне уловимых действий злой воли, но в отношении более скрытых ее форм оно бессильно, если за ним не стоит свободное послушание, определяемое мотивами справедливости и любви к людям. При отсутствии внутренней нравственной просветленности душ принудительные реформы, задуманные с самыми лучшими намерениями, легко вырождаются в пустую форму, через которую фактически осуществляется неправда, произвол, мертвящий бюрократизм. Истинным базисом внешних законодательных реформ, социальных и политических, служит сфера свободно, непроизвольно слагающихся нравов, нравственных привычек и понятий; это есть сфера как бы промежуточная между областью принудительного закона и областью свободного нравственного действия любви в человеческом сердце; через эту промежуточную сферу благодатная сила любви как бы просачивается в слой общих порядков жизни. Само право держится свободными нравственными силами. И, наконец, неукоснительная строгость закона, необходимая для внешнего обуздания злой воли, но всегда тяжкая для человека и, в силу абстрактной общности закона, в частных случаях несправедливая и ненужно жестокая, может и должна смягчаться и тем самым достигать своей подлинной цели, только если исполнительная и судебная власть, применяющая закон, и общественное мнение, следящее за его применением, сами руководимы конкретным нравственным тактом, чутьем к конкретной правде, т. е. в конечном итоге если применение закона само пронизано и смягчено человечностью, т. е. любовью.
Этим положен некий имманентный предел благотворному действию закона и общих порядков в человеческой жизни. Не нужно, конечно, преуменьшать их значение – не нужно забывать, что нравственная воля должна стремиться совершенствовать жизнь и через их посредство, что христианин морально обязан заботиться и о законодательной реформе порядков жизни в духе их приближения к христианской правде. Но, не говоря уже о том, что полнота христианской правды не вместима в форму закона (как мы уже это видели выше), сила самого закона только тогда истинно прочна и плодотворна, когда она не просто извне, механически воздействует на жизнь (в этой форме она способна, как указано, в лучшем случае только обуздывать наиболее явные вредные действия злой воли), а сама создает внешние условия, благоприятствующие нравственному воспитанию изнутри человеческой воли, например в форме законодательства о воспитании и обучении, семье, условиях труда и всякого законодательства, открывающего простор для нравственной самодеятельности людей и поощряющего ее. Именно поэтому медленное эволюционное, законодательное совершенствование жизни, действующее через воспитание людей, по общему правилу предпочтительнее резких внезапных перемен (не говоря уже о разнуздывающих злые, хаотические страсти революционных переворотах). Такие резкие и внезапные реформы, непосредственно обуздывающие волю через механически-внешнее действие запрещений и приказов, уместны только в крайних случаях, как противодействие вопиющим злоупотреблениям, и могут быть подлинно плодотворны лишь в ограниченной сфере.
Другие электронные книги автора Семен Франк
Непостижимое




 4.67
4.67