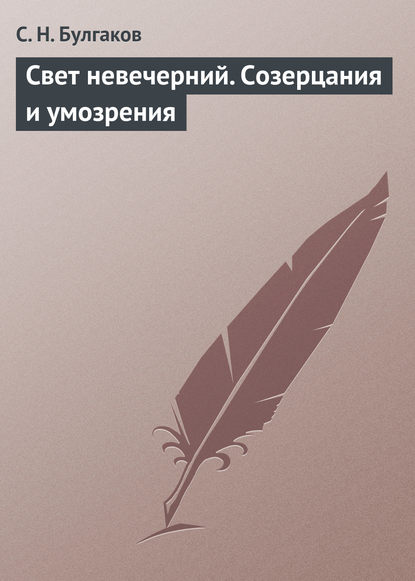По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Свет невечерний. Созерцания и умозрения
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Из кафоличности, как общего качества религиозного сознания, следует, что в религиозном сознании, по самой его, так сказать, трансцендентальной природе, уже задана идея церковности, подобно тому как в гносеологическом сознании задана идея объективности знания. Искание церковности, подлинной кафоличности составляет неустранимую черту религиозного сознания, оно же есть искание истинной Церкви: одно неразрывно связано с другим. Религиозное сознание церковно по своей природе. Идея церкви родилась не в христианстве, она существует и раньше, и вне христианства. Поэтому можно (хотя бы в формальном и, так сказать, религиозно-трансцендентальном смысле) говорить о церкви иудейской, о церкви языческой, буддийской и пр. Каждая религия, как только она становится не достоянием отдельного человека, ее основателя, но сообщается и другим (а сообщаться она стремится неудержимо), организует особую общину; нет религии, нет даже самой ничтожной секты, которая бы не организовалась в ecclesia[174 - В Древней Греции ecclesia означала народное собрание; в христианстве – церковь.] или ecclesiola. Эти положения имеют необыкновенную важность для понимания исторического развития религии. Ими установляется законность и неустранимость церковного предания, этой утверждающейся кафоличности, иначе говоря, намечается путь к положительной церковности: религии не сочиняются по отвлеченным схемам одиноким мыслителем, но представляют собой своеобразный религиозно-исторический монолит или конгломерат, имеющий внутреннюю связность и цельность. Существующие религии являются как бы готовыми уже системами догматов или своеобразными догматическими организмами, живущими своей особой жизнью. Зачинатель новой религии полагает свой личный религиозный опыт в ее основу, затем этот последний обрастает созвучным соборным опытом ее последователей, каждый религиозно живой человек приносит камешек за камешком для этого здания, коллективность перерождается в кафоличность, переплавляется в церковность, возникает религия, «вера». Религиозный опыт каждого отдельного человека не дает ощутить всю полноту религии, однако обычно бывает достаточно живого касания к религиозной реальности, которое дается верою, в одном только месте, и тогда принимается, как постулат, как надежда, как путь, и все остальное содержание религии, все ее обетования. Кто однажды встретил Христа Спасителя на своем личном пути и ощутил Его божественность, тот одновременно принял и все основные христианские догматы – и о рождении от Девы, и о боговоплощении, и о пришествии во славе, и о пришествии Утешителя, и о Св. Троице. Поэтому совершенно нет нужды каждому в своем личном опыте веры иметь все содержание данного религиозного учения, подобно тому как нет необходимости для того, чтобы постигнуть природу науки, пройти весь научный путь человечества в своем личном опыте, достаточно познать ее на любом частном случае.
Сказанное приводит нас к уразумению исторического в религии. Двоякою природой религиозной веры – с одной стороны, ее интимно-индивидуальным характером, в силу которого она может быть пережита лишь в глубочайших недрах личного опыта, и, с другой стороны, пламенным ее стремлением к сверхличной кафоличности – установляется двойственное отношение и к религиозной эмпирии, к исторически-конкретным формам религиозности. Они могут получить жизненное значение лишь после того, как интимное, лично-религиозное переживание откроет их живой смысл, причем кафолическая природа религии побуждает особенно чтить историческое предание. Всякой религии свойственно некоторое старообрядчество, привязанность к старине; произвольно, по личной прихоти или вкусу, без дерзновения пророческого не должна быть изменена «йота от закона»[175 - Имеются в виду слова Иисуса Христа: «… доколе не прейдет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все» (Мф. 5:18).]. Вот почему естественно внушают себе особенное чувство религиозного почтения и трепета старые церкви, старые книги, старая утварь, старые иконы. Старость есть крепость, сила кафоличности, которая как бы сосредоточивается от времени на отдельных объектах.
Потому религия исторична по своей природе, вернее сказать, она возвышает историческое до кафолического, и тот, кто не ведает этого, кто брезгает исторической эмпирией под предлогом свободы вдохновения, тот недоросль в религии. Такими недорослями являются, между прочим, и «просветители», которые выдумывали и продолжают еще ныдумывать «естественную», антиисторическую религию. Они не замечают при этом, что сегодняшняя «естественная религия» завтра станет уже исторической, и даже более того, до известной степени становится уже ею в тот самый момент, когда ощущает себя объективной и кафолической. Также и все гонители традиционного обряда не замечают, что и действительности они вводят только… новый обряд; так квакеры, отвергавшие всякую внешность молитвы, фактически вводили ритуал голых стен молельни и «молчаливые митинги»; так протестантизм, подняв дерзновенную руку на вековой и эстетически прекрасный католический обряд, только заменил его другим, бедным и сухим, прозаичным обрядом, в пределах которого, однако, возможно быть старообрядцем нисколько не меньше, чем при самом пышном ритуале; так наши сектанты божественную красоту православной литургики заменяют скучными и бездарными «псалмами», сухим протестантским обрядом.
«Естественная», абстрактная, внеисторическая религия есть Unding[176 - Бессмыслица (нем.).], нечто не существующее, – отрицательное понятие, не имеющее положительного содержания, но почерпающее его лишь из того, что им отрицается. Это – головное измышление религиозно бездарных эпох, знакомое уже древности с ее «евгемеризмом» и синкретизмом[177 - Евгемеризм – учение о происхождении религии из почитания и обожествления древнейших царей и героев; название произошло от имени Евгемера из Мессины (ок. 340 – ок. 260 до н. э.). Синкретизм – смешение идей и образов различных религий, главным образом путем идентификации богов.]. «Религии вообще» не существует, есть только определенные, конкретные религии.
Особую разновидность естественной религии, или «религии вообще», составляет так наз. теософическая доктрина, согласно которой все религии имеют общее содержание, говорят одно и то же, только разным языком, причем надо отличать эзотерическое учение, ведомое лишь посвященным, и экзотерическое, существующее для profanum vulgus[178 - Непосвященная толпа (лат.) – выражение Горация («Оды», II, 1,1)]; различия символики и обряда, обусловливаемые историческими причинами, существуют только во втором, но не в первом. Это учение опирается на смелые аналогии и отожествления, особенно же на сближения моральных учений, в которых, вообще говоря, легче найти эту близость, нежели в догме и обряде. Таким образом, оригинальные краски исторических религий обесцвечиваются, все конкретное отходит в экзотеризм, а в качестве эзотерического содержания подставляется доктрина теософического общества, столь озабоченного распространением универсального религиозного волапюка[179 - Волапюк (от англ, world – мир и speak – язык) – первый искусственный международный язык, созданный в 1880 г. Иоганном Мартином Шлейером (1831–1912).] (в действительности же под маской религиозного эсперанто, ведущего пропаганду буддизма и вообще индуизма на европейско-христианской почве, однако предпочитающего, вместо открытого выступления и прямой борьбы с христианством, обходную тактику его ассимиляции и нейтрализации).
Конкретные черты религии установляются ее положительным содержанием, точнее – тем откровением, которое она содержит (или, по крайней мере, считает, что содержит). Религия основывается не на смутном и неопределенном ощущении Божества вообще или трансцендентного мира вообще, к чему сводит ее, с одной стороны, адогматическая мистика и Gef?hlstheologie, с другой – рационалистическое просветительство, но на некотором, вполне определенном знании этого мира, самооткровении Божества. Всякая религия догматична, она устансвляет отношение не к Божеству вообще, но к определенному, имеющему свое «имя» Богу. В этом смысле догмат есть интегральная часть религии. Что же такое догмат! Можно различать это понятие в более узком и более обширном смысле. В первом смысле догмат есть формула, кристаллизующая в образах или понятиях религиозное суждение. Логические грани, установляемые такой формулой, обычно имеют практическое происхождение. Их провозглашение чаще всего вызывается потребностью борьбы с какой-либо ересью. Оно есть поэтому не только вероучительное определение Церкви, но и ее действие – осуждение и отсечение ереси (напр., никейская формула имела антиарианский характер, IV собора – против Македонии, VII – антииконоборческого характера и под.)[180 - Никейская формула» или, точнее, Никейский символ веры был принят на I Вселенском соборе в 325 г. в Никее, собор осудил арианство как ересь. III Вселенский собор состоялся в 451 г. в Халкидоне, отменил решения Эфесского собора (см. прим. 137) и осудил как ересь учение Македонка, возглавлявшего так наз. пневматомахов (духоборцев), последователей Ария. VII Вселенский собор (786–787, Константинополь, Никея) осудил иконоборчество – еретическое течение в Византии, возникшее под влиянием иудаизма и ислама, запрещающих изображать Бога.]. Но догматическая формула есть только приблизительная, притом неизбежно односторонняя, в силу указанного своего происхождения, попытка выразить в понятиях религиозное содержание. Не догматическая формула родит догмат, но религиозное содержание, или живой догмат, порождает догматическую формулу (или формулы).
Если божественный мир действительно открывается религиозному сознанию и трансцендентное становится ему имманентно[181 - Ср. Шеллинг: Gott ist nicht, wie viele sich vorstellen, das Transzendente, er ist das Immanente, d. h., zum Inhalt der Vernunft gemachte Transzendente (Sche?ine. Philosophie der Offenbarung, l, 170, WW., 2. III). Бог не есть трансцендентное, как многие себе представляют, он есть имманентное, т. е. трансцендентное, ставшее содержанием разума (нем.).] в некоторой догматической определенности, то, очевидно, должен быть мост, оба мира соединяющий; должны быть письмена, которыми начертываются божественные откровения, и язык, на котором они могут быть высказаны. Но если обычно слова наши служат для понятий этого мира, его предметов и соотношений, то как же могут они оказаться пригодными для содержаний иного, трансцендентного, мира? Эта трансцендентность не влечет ли за собой и неизреченности и недомыслимости для человека? Мы уже достаточно говорили о том, что божественный мир не может быть предметом дискурсивного знания и постигается только верой. Догматы если и возможны, то не в смысле логических и диалектических выводов, но лишь как религиозное ведение. Чтобы подойти к пониманию природы этого ведения, следует вспомнить о рождении художественных образов в искусстве. Художник есть вещун некоей нездешней действительности, которая открывается ему в художественных образах. Носитель религиозного откровения (он может быть и единоличным и коллективным) постигает высшую действительность через посредство религиозных образов, которые сродни с художественными своей непосредственностью, но отличаются от них своим религиозным характером. Их соединяют образность, символизм, но различает содержание этой символики и ее источник.
Религиозные образы, реализующие и выражающие религиозное содержание, представляют собою то, что обычно называют мифом. Мифу в религии принадлежит роль, аналогичная той, какая свойственна понятию или суждению в теоретической философии: от его понимания зависит оценка религиозно-догматического сознания.
Итак, что же такое миф как «трансцендентальная» категория?
6. Природа мифа
Прежде всего следует отстранить распространенное понимание мифа, согласно которому он есть произведение фантазии и вымысла. Сторонникам подобного понимания мифа не приходит даже на мысль такой простой, а вместе с тем и основной вопрос: чем же был миф для самих мифотворцев, в сознании которых он зарождался, что они сами думали о рождающемся в них мифе? Или, быть может, скажут, что они его сознательно выдумывали, чтобы потом обманывать других? Ведь утверждали же серьезно, что жрецы сами выдумали религию и, следовательно, утвердили ее на сознательном и заведомом обмане. Однако в таком случае им пришлось бы прежде всего обманывать и самих себя, ибо сами-то они верили в мифы, придавали объективное значение их содержанию, отнюдь не считая его только порождением поэтической фантазии. Лишь при таком предположении и становится понятна роль мифотворчества в истории человечества, где «Dichtung» мифа нередко объясняет полновесную «Wahrheit»[182 - Вымысел, поэзия, истина, правда (нем.).] истории.
Итак, следует прежде всего признать, что и мифу присуща вся та объективность или кафоличность, какая свойственна вообще «откровению»: в нем, собственно, и выражается содержание откровения, или, другими словами, откровение трансцендентного, высшего мира совершается непосредственно в мифе, он есть те письмена, которыми этот мир начертывается в имманентном сознании, его проекция в образах.
Можно сказать (применяя кантовский термин), что миф есть синтетическое религиозное суждение a priori»[183 - Ср. с высказыванием В. И. Иванова: «Миф есть синтетическое суждение, где сказуемое-глагол присоединено к подлежащему-символу» (Иванов В. Собр. соч. Брюссель, 1974. Т. 2. С. 608).], из которого далее уже аналитически выводятся апостериорные суждения. Зародившийся миф содержит в себе нечто новое, дотоле неизвестное самому мифотворцу, причем это содержание утверждается как самоочевидная истина. Эта самоочевидность порождается именно опытно-интуитивным характером ее происхождения. Мифу присуща своя особая достоверность, которая опирается не на доказательства, но на силу и убедительность непосредственного переживания. В мифе констатируется встреча мира имманентного – человеческого сознания (как бы мы его ни расширяли и ни углубляли), и мира трансцендентного, божественного, причем трансцендентное, сохраняя свою собственную природу, в то же время становится имманентным, а имманентное раскрывается, чувствуя в себе внедрение трансцендентного. Мифу необходимо присуща активность, известная инициатива со стороны трансцендентного, которое хочет этой встречи, и в реальности этой встречи и заключается сила убедительности мифа. В этом и состоит его объективность. Он есть событие, которое совершается на грани двух миров, в нем соприкоснувшихся (Вяч. Иванов). Он есть нечто «благодатное» (беря понятие благодать в общем и формальном смысле). Если же миф есть событие, то и мыслить его надо сугубо реалистически: иначе сказать, в мифе речь идет не об отвлеченных понятиях, но о самих реальностях. Содержание мифа всегда конкретно, речь идет в нем не о боге вообще и человеке вообще, но об определенной форме или случае определенного богоявления Подлежащее мифа, его субъект, может быть обозначено только «собственным», а не «нарицательным», родовым именем. Миф есть, или, вернее, должен быть, поэтому отрицанием всякого субъективизма или психологизма (хотя, конечно, возможны ошибки и иллюзии мифотворческого сознания, а потому и субъективные или ложные мифы). Напротив, сознание, что в человека входит нечеловеческая сила и в нем совершаются превышающие его собственную меру события, одно только и создает жизненную убедительность мифа. Не человек действует или «полагает» («setzt») здесь, как это имеет место в субъективно-идеалистических построениях, но в человеке происходит, полагается, в нем говорят высшие сущности и силы. Стремление оккультистов путем медитации услышать голос самих вещей, как и вера Гегеля, что в мышлении, после того как им, путем философского медитирования, преодолены низшие, феноменологические, ступени самосознания духа и действует уже сам Логос, – формально сродны с «мифотворчеством». В частности, Гегель хотел быть подлинным мифотворцем в логике, ибо стремился к тому, чтобы в ней и чрез нее действовало само логическое, для человека в его субъективности или человечности пребывающее трансцендентным. Пафос логики Гегеля именно и состоит в переживании такой встречи трансцендентного Логоса и имманентного или имманентировании трансцендентного, причем сама логика получает уже явно теургический и несомненно сверхлогический смысл. Этот мифотворческий пафос Гегеля, может быть, лучше всего объясняет, почему он ставил философию выше религии, ибо философское ведение для него ощущалось как подлинный миф, а философия как истинная мифология. Логическое созерцание становится у него оком для постижения ноуменального мира (отсюда понятна вражда Гегеля к кантовскому учению о вещи в себе и ее непознаваемости, вообще резкий и патетический имманентизм его учения). Слабая сторона гегельянства с этой точки зрения сводится к тому, что в мифообразовании у него вся энергия принадлежит человеку – мифотворцу. Философия Гегеля есть самооплодотворение, пародия на бессеменное зачатие, мифотворчество в имманентном (ибо, по Гегелю, достаточно пройти закономерный искус феноменологии и вступить в царство логики, как Логос уже и достигнут). Напротив, в философии Канта, именно в его учении об «идеях» как предельных понятиях, а равно и в учении о различении суждений практического разума от теоретического разума и «силы суждения» заключается implicite[184 - Неявно, в скрытом состоянии (нем.).] целая теория мифотворчества, хотя и отрицательного или агностического содержания. По этой теории, Ding an sich[185 - Вещь в себе (нем.).] хотя и трансцендентна, но все-таки отпечатлевается в сознании в качестве «идей» или предельных понятий. Однако эти идеи отличаются от мифов тем, что они не только свидетельствуют у Канта о реальном присутствии или откровении трансцендентного, но содержат в себе даже меньше реальности, чем опытное познание, суть только схемы, теневые следы, не более. Мы знаем, к каким роковым последствиям приводит этот агностицизм в богословии Канта, где он ко всему мифическому относится не только без всякого понимания, но и с злобным презрением, сам ограничиваясь имманентной моральной теологией. (Ложное понимание природы мифа, связанное с общим иконоборческим устремлением, отличает и Лютера и весь вообще протестантизм с его имманентизмом и рационализмом.)
И тем не менее даже и в этом учении Канта об идеях как имманентных проекциях Ding an sich заключается драгоценное зерно теории мифотворчества: Ding an sich, трансцендентная теоретическому познанию, все же познаваема, и притом своим особым путем, отличным от имманентно-опытного; кантовские постулаты практического разума, его «разумная» вера, есть также не что иное, как мифотворчество. На гносеологическом языке миф и есть познавание того, что является запредельной Ding an sich для разума, и кантовское учение о непознаваемой вещи в себе содержит поэтому некий философский миф агностического содержания. Всегда отмечалась философская противоречивость этого кантовского учения: Ding an sich является одновременно и трансцендентна и имманентна разуму, есть для него зараз и ничто, и нечто. Однако эта противоречивость становится совершенно естественной, если понять кантовское учение в его надлежащем смысле – не как философему, но как миф или религиозное постижение, ибо в противоречивом с точки зрения спекулятивной философии определении трансцендентно-имманентного, Ding an sich, именно и выражается самое существо религиозного переживания.
Религиозное мифотворчество надо отличать от сродных с ним областей постижения. Именно в ближайшем сродстве с ним находится художественное творчество, поскольку оно основывается на подлинном «умном видении»: образы для художника имеют в своем роде такую же объективность и принудительность, как и миф. Образы владеют творческим самосознанием художника, он же должен овладеть ими в своем произведении, творчески закрепить их в имманентном мире. Его задача – надлежащим образом видеть и слышать, а затем воплотить увиденное и услышанное в образе (безразлично каком: красочном, звуковом, словесном, пластическом, архитектурном); истинный художник связан величайшей художественной правдивостью, – он не должен ничего сочинять[186 - Не могу не привести здесь для иллюстрации слышанный мною от Л. Н. Толстого рассказ, как одна пушкинская современница вспоминала, что сам Пушкин в разговоре с ней восхищался Татьяной, так хорошо отделавшей Евгения Онегина при их последней встрече.]. Строго говоря, разницы между художником и мифотворцем по «трансцендентальной» природе их ведения и не существует. Различие здесь установляется их областью или предметом. Мы уже указывали, что трансцендентное, в своей соотносительности имманентному, имеет различные ступени или различную глубину, и, помимо трансцендентного в собственном смысле, т. е. области религиозной, существуют еще многие слои относительно-трансцендентного, открывающегося в им манентном; рассуждая формально-гносеологически, во всех подобных случаях мы имеем наличность мифического прозрения или мифотворчество. Различные природные стихии (лешие, водяные, русалки, эльфы, гномы и т. д.) открывают о себе в мифе, и народные сказки в известной части своей суть такие натуральные мифы, зарождающиеся, конечно, в пору наибольшей непосредственности и чуткости к голосам из области запредельного чувства. Природа в многоголосности своей говорит в темных преданиях и верованиях, в сказке, фольклоре, в «фантазии» художника; иногда она вещает прямо своей мистической глубиной (так возникает мистика природы и в древнее и новое время; к ее представителям относится такой, напр., мыслитель, как Я. Беме, мифотворец природы, которого надлежит поэтому называть не боговдохновенным, но природовдохновенным. Таков поэтический ясновидец «хаоса» Тютчев). Вообще виды «откровения», как и предметы его, могут быть различны: и природные, и божественные, и демонические (так наз. у отцов церковных «прелесть»); оно может исходить из разных миров и иерархий, и само по себе «откровение» с выражающим его мифом, понимаемое в смысле формально-гносеологическом, может иметь различное содержание: и доброе и злое, и истинное и обманное (ибо ведь и сатана принимает вид ангела света), поэтому сам по себе «откровенный» или мистический характер данного учения говорит только об интуитивном способе его получения, но ничего еще не говорит об его качестве. Принципиально возможность заблуждения и обмана здесь вовсе не исключена. В этом-то и заключается опасность прельщения ложными откровениями, принимаемыми за истину только потому, что гносеологически они имеют характер откровения, не дискурсивны, но интуитивны. Откровение, мифотворчество, есть, следовательно, и та форма, в которой совершается также и откровение Св. Духа, но и оно еще не связано само по себе с данной формой, как таковой, ибо вполне возможно, что, при всем формальном подобии «откровения», последнее оказывается пустым и ложным, лишенным подлинно духовного содержания. Поэтому осторожность, проверка, внимательность в мистике и откровении нужны не меньше, если не больше, чем в дискурсивном знании. Необходимо личные интуиции выверять по церковному преданию, раз только Церковь уже опознана как «столп и утверждение истины»[187 - 1 Тим. 3:15.], а не наоборот – поверять церковное предание по личной интуиции. И здесь снова выступает огромное значение уже кристаллизованного, отлившегося в догматы, культ и быт церковного предания, исторической церкви, которая всегда умеряет самозваные притязания от имени «церкви мистической», т. е. нередко от имени своей личной мистики (или же, что бывает еще чаще и особенно в наше время, одной лишь мистической идеологии, принимаемой по скудости мистического опыта за подлинную мистику). Здесь, как и во многих случаях в религиозной жизни, мы наталкиваемся на антиномию: голый историзм, внешняя авторитарность в религии есть окостенение церковности, своевольный же мистицизм есть ее разложение; не нужно ни того, ни другого, а вместе с тем нужно и то, и другое: как церковный авторитет, так и личная мистика. Находить здесь правую меру, для которой нет внешних критериев, а есть только внутренний (так сказать, религиозно-эстетический), и есть задача «духовного художества», руководимого лишь духовным вкусом, чувством духовного такта…
Содержание мифа представляет собой суждение, утверждающее известную связь между подлежащим и сказуемым. На каком же языке высказывается это содержание? Есть ли это язык понятий, подлежащих философской обработке не только в своем значении, но и в самом своем возникновении, или же это суть знаки иной природы и строения, находящиеся в таком же примерно отношении к философским понятиям, как образы искусства: о них можно философствовать дискурсивно, но в наличности своей они даны мышлению. Очевидно, такова природа и образов религиозного мифа, его символика. Содержание мифа выражается в символах. Что же такое религиозный символ? Этот вопрос стал особенно близок новейшей русской литературе (Вяч. Иванов, А. Белый)[188 - Об отношении С. Н. Булгакова к творчеству Андрея Белого см. в его письмах, написанных по поводу романа «Серебряный голубь» в 1910–1911 гг. (Новый мир. 1989. № 10. С. 238–241).]. Символизм может иметь различное значение. Так, символ в рационалистическом применении берется как условный знак, аббревиатура понятия, иногда целой совокупности понятий, конструктивная схема, логический чертеж; он есть условность условностей и в этом смысле нечто не сущее; он прагматичен в своем возникновении и призрачен вне своего прагматизма; он возникает по определенному поводу, цепляется за вещи лишь в предуказанных точках, его реализм частичен, акцидентален. Такова до известной степени символика математики, такова в особенности символика научных понятий. В этом смысле символична вся наука, но символизм этот оказывается синонимом прагматизма, субъективизма и, в последнем счете, скептицизма или иллюзионизма. Будучи прагматичной, наука психологична в своем естестве, вся она есть, огромный психологизм, хотя и имеющий основу в объективной сущности вещей[189 - Ср. характеристику науки в главе о «хозяйственной природе науки» в моей «Философии хозяйства».]. Противоположностью этому символизму условных знаков и прагматических схем является символизм в религии и искусстве, которые одинаково пользуются символом (чем намечается их таинственная близость). Символизм, по известному определению В. Иванова, идет a realibus ad realiora[190 - От реального к реальнейшему (лат.; греч.) – лозунг реалистического символизма. См.: Иванов В. И. По звездам. Опыты философские, эстетические и критические. СПб., 1909. С. 305; см. также: Иванов В. Собр. соч. Брюссель. Т 2. 1974. С. 553, 560, 611, 665.], от ?v к ????? ??,[191 - От «бытия» к «подлинному бытию» (греч.).] поэтому ему чужд психологизм. В отличие от прагматически-условного характера научных понятий, содержание символа объективно и полновесно, в противоположность понятиям – «скорлупам», не имеющим своего содержания, или словам, внутренне чуждым слова. Нельзя художественно солгать, и нельзя мифотворечески покривить душой: не человек создает миф, но миф высказывается чрез человека.
Таково гносеологическое значение мифа: параллельно с дискурсивным мышлением и наукотворчеством, рядом с художественным творчеством стоит религиозное мифотворчество как особая, самозаконная область человеческого духа; миф есть орудие религиозного ведения. Само собою разумеется, то, что отлагается в сознании в форме мифа, вступая в общее человеческое сознание, затрагивает все способности души, может становиться предметом мысли, научного изучения и художественного воспроизведения. Но остов религиозного мифа, существенное его содержание не создается мышлением и не творится воображением, – он рождается в религиозном опыте. Содержание мифа относится к области бытия божественного, на линии соприкосновения с человеческим. Возможно прозрение в божественный мир и чрез оболочку эпирического, изнутри. В таком случае человеческая история, не переставая быть историей, в то же время мифологизируется, ибо постигается не только в эмпирическом, временном выражении своем, но и ноуменальном, сверхвременном существе; так наз. священная история, т. е. история избранного народа Божия, и есть такая мифологизированная история: события жизни еврейского народа раскрываются здесь в своем религиозном значении, история, не переставая быть историей, становится мифом.
Но единственный в своем роде пример такого соединения ноуменального и исторического, мифа и истории, несомненно представляют евангельские события, центром которых является воплотившийся Бог – Слово, Он же есть вместе с тем родившийся при Тиверии и пострадавший при Понтии Пилате человек Иисус: история становится здесь непосредственной и величайшей мистерией, зримой очами веры, история и миф совпадают, сливаются через акт боговоплощения.
Миф возникает из религиозного переживания, почему и мифотворчество предполагает не отвлеченное напряжение мысли, но некоторый выход из себя в область бытия божественного, некое богодейство, – другими словами, миф имеет теургическое происхождение и теургическое значение[192 - По определению В. С. Соловьева, задача «свободной теургии» – «осуществление человеком божественных сил в самом реальном бытии природы» (Соловьев В. С. Соч. М., 1988. Т. 1. С. 743).]. При этом мифотворчество есть не единичный, но многократно повторяющийся акт. По своей теургической природе миф имеет необходимую связь с культом как системой сакральных и теургических действий, богодейством и богослужением. Отсюда первостепенное значение культа для религиозного сознания, и не только практическое, но и теоретическое, даже гносеологическое. Культ есть переживаемый миф, – миф в действии. Отсюда универсальное значение богослужения, культа во всякой религии, ибо его живая, реальная символика есть не только средство для упражнения благочестия, но и сердце религии, и око ее, – активное мифотворчество. Иконоборческие вкусы нашего века, связанные с его абстрактностью и рационализмом, совершенно затемнили для современного человека, привыкшего с горделивым и слепым пренебрежением произносить слово обряд, религиозное и религиозно-гносеологическое значение культа. Это зависит все от того же основного греха в понимании символизма вообще и культа в частности – антропоморфического субъективизма или психологизма. Такое понимание культа приводит к тому, что в его символическом действе видят лишь произвольно установленные аллегорические символы, или театральные жесты, возбуждающие известное настроение или выражающие известную идею (почти такое значение получил обряд и в современном протестантизме, где даже евхаристия понимается как некая символическая аллегория). Богослужение получает при таком понимании значение религиозного спектакля, в котором «представляются» дидактические пьесы (и в изобилии произносятся поучения и проповеди). Утрата вкуса к эстетике культа делает, к тому же, эти «представления» утомительными и непонятными, рационализм объявляет войну культу за его пышность, красоту, мнимую театральность (таковы господствующие настроения всей реформации, особенно кальвинизма, пуританизма, квакерства). В культе видят или театральные церемонии, или же «языческий» магизм, «мистагогию»[193 - В Древней Греции – введение или посвящение в таинство.] (достаточно почитать современных протестантских богословов, напр., хотя бы историю догматов Гарнака). Православие, как церковь литургическая по преимуществу, в этом отношении подвергается особенным нападениям, даже сравнительно с католичеством, имеющим, при большей пышности культа, сравнительно не столь богатую литургику.
Чтобы понять значение культа, нужно принять во внимание его символический реализм, его мифотворческую энергию: для верующих культ не есть совокупность своевольно избранных символов, но совершенно реальное богодейство, переживаемый миф или мифологизирование действительности. Правда, оно ограничено местом (храм, священные места), предметами (святыни) и временем (богослужение, священные времена), оно образует поэтому лишь теургические точки на линии времени, но эта частичность ведь вообще соответствует природе рели
гии: хотя религия стремится иметь Бога как «всяческая во всех», слить трансцендентное и имманентное воедино и тем преодолеть их взаимную полярность, но она и возникает именно из этой напряженности и существует только ею и вместе с нею, и в этом смысле религия есть некоторое переходное состояние – она сама стремится себя преодолеть, сама ощущает себя «ветхим заветом». Когда Бог станет «всяческая во всех», не будет религии в нашем смысле, станет не нужно уже воссоединять (religare) разъединенного, не будет и особого культа, ибо вся жизнь явится богодейственным богослужением. Недаром в Апокалипсисе читаем о Новом Иерусалиме, сошедшем с неба: «Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель – храм его и агнец» (Апок. 21:22). Культ создает предварение и частичное переживание божественного в эмпирическом, притом, как и все в религии, не отвлеченно, не «вообще», но окачествованно, конкретно, в связи с определенным мифом – догматом. Поэтому богослужение, культ есть живая догматика, мифы и догматы в действии, в жизни. Отсюда понятна всеобщая распространенность культа, ибо нет религии без культа, это можно выставить как аксиому; и разнообразию религий соответствует и разнообразие культов, а миграция религий сопровождается и миграцией культов. Вместе с тем культ есть и средство постоянного догматического поучения, оживления догматических истин. Можно сказать, живо и жизненно в религии только то, что есть в культе, а отмирает или нежизнеспособным является то, чего нет в культе.
В центре богослужения, очевидно, стоит молитва, значение которой для мифотворчества ясно из предыдущего. Молитвенная жизнь получает развитие и выражение в литургическом творчестве, в котором церковное предание накопляет драгоценные перлы молитвенной поэзии и воодушевления. Отсюда понятно первостепенное значение вообще литургики – церковных песнопений, молитв, обрядов, для мифотворческого самосознания: такое же значение имеют и другие стороны символики культа, кроме выражаемой в слове. На первое место здесь следует поставить иконографию; помимо религиозного значения иконы, как таковой, этого мифа-вещи, в которой эмпирическая вещность таинственно соединяется с трансцендентной сущностью, она всегда имеет вполне определенное содержание, это есть мифология в красках, камне или мраморе. Отсюда такое первостепенное значение иконографии для развития религиозной жизни и самосознания, одинаково как для христианской, так и для внехристианских религий. Иконоборчество и упадок иконографии большей частью знаменуют собой и упадок религии. Вообще, миф завладевает всеми искусствами для своей реализации, так что писаное слово, книга, есть в действительности лишь одно из многих средств для выражения содержания веры (и здесь выясняется религиозная ограниченность протестантизма, который во всем церковном предании признает только книгу, хочет быть «Buch-Religion»[194 - Книжная религия (нем.).]).
Наряду с литургикой и иконографией следует поставить символические действия, имеющие теургическое значение: чин богослужения, жертвы, таинства. В богослужебном ритуале, естественно возникающем в каждой религии, символически переживается содержание мифа, догмат становится не формулой, но живым религиозным символом. Самое центральное место в культе занимают, конечно, таинства. Таинственный характер, согласно указанному, принадлежит, строго говоря, всему богослужению, однако эта таинственность сгущается и, так сказать, кристаллизуется в отдельных актах, которые и составляют таинства в собственном смысле. Таинство отнюдь не означает собою сообщения каких-либо тайн или секретов и не имеет никакого отношения к «сокровенному знанию», оккультизму и магии. Таинство представляет собой столь же необходимый и даже, можно сказать, гносеологически неустранимый атрибут религии, как и молитва; поэтому, помимо их религиозного постижения, следует понять и этот их гносеологический смысл. Религия вытекает из чувства разрыва между имманентным и трансцендентным и в то же время напряженного к нему влечения: человек в религии неустанно ищет Бога, и небо ответным лобзанием приникает к земле. Чтобы была возможна религия не только как жажда и вопрос, но и как утоление и ответ, необходимо, чтобы эта полярность, эта напряженность иногда уступала место насыщенности, чтобы трансцендентное делалось ощутимым, а не только искомым, приобщало собой имманентную действительность. Таинственный элемент в таинстве и заключается в этом жизненном общении с тем миром, который остается для нас закрытым, причем здешний мир ощущается тогда как вместилище того, другого мира; короче, таинство есть переживание трансцендентного в имманентном, сообщение «благодати» творению в определенных таинственных актах. И поскольку таинству присуща эта черта, очевидно, в общем процессе мифотворчества оно составляет самую интенсивную точку. Понятно все принципиальное различие таинства от «магизма»: магия есть расширенная, утонченная и углубленная мощь человека над природным миром помощью высшего его знания, магия есть то же, что и наука, лишь на иной ступени, с иными методами. Как и она, магизм ограничивается областью имманентного, он космичен и натурален, в нем нет никакой «благодати» в собственном смысле этого слова, помимо естественной, разлитой во всем мире; и он человечен, поскольку он всецело опирается на мощь человека, на его силу и энергию. Напротив, таинство всецело основано на благодати, осуществляется излиянием трансцендентного, сверхприродного начала в мир природный. Этим признаком различаются истинные таинства и ложные, представляющие собою не что иное, как разновидность магизма (природные таинства). Христианину надлежит верить, что в языческом мире хотя и живо ощущалась потребность в таинстве, ибо она не устранима из религии по самому ее существу, и хотя она утолялась по-своему[195 - Об этом см. ниже в отделе III.], но не было таинств истинных, «питающих в жизнь вечную», которые могли явиться лишь в христианстве, после воплощения Бога-Слова, давшего Свою Плоть и Кровь в живот вечный. Их предварения были уже в ветхозаветной церкви Израиля.
Догматическая формула есть попытка высказать содержание религиозного мифа в слове, выразить его в понятиях. Догмат, в смысле формулы, всегда приходит после мифа или из мифа, т. е. он не рождается в формуле и вместе с формулой, а лишь ею фиксируется, вносится в опись. Догматика есть как бы бухгалтерия религиозного творчества, а ее формулы суть продукты рефлексии по поводу религиозной данности. История догматов показывает, что поводом для их установления и провозглашения чаще всего являлись те или иные ереси, т. е. уклонения не только религиозной мысли, но и, прежде всего, религиозной жизни (ведь очевидно же, напр., что арианство есть совершенно иное восприятие христианства, нежели церковно-православное). Догмат, отклоняя лжемудрование, ставит на место его правую формулу, и эта формула есть логическая грань, ограда догмата. Она определяет ту его внешнюю границу, за которую невозможно отклоняться, но она отнюдь не адекватна догмату, не исчерпывает его содержания, и прежде всего потому, что всякая догматическая формула, как уже сказано, есть лишь логическая схема, чертеж целостного религиозного переживания, несовершенный его перевод на язык понятий, а затем еще и потому, что, возникая обычно по поводу ереси, – «разделения» (??????? – разделение), она преследует по преимуществу цели критические и потому имеет иногда даже отрицательный характер: «неслиянно и нераздельно», «одно Божество и три ипостаси», «единица в троице и троица в единице». Omnis definito est negatio[196 - Всякое определение есть отрицание (лат.) – выражение из письма Спинозы к Яриху Йеллесу от 24 июня 1674 г.] – эта формула Спинозы особенно приложима к догматике, ибо здесь поводом к defenitio чаще всего является negatio, высекающая догматы как искры из камня: количество возможных догматических определений в христианстве могло бы быть значительно больше тех, которые формулированы на соборах.
Догматы, рождаясь из спора, имеют характер волевых утверждений. Они отличаются в этом смысле от теоретического познания и психологически сближаются с тем, что носит название «убеждения»[197 - Ср. Schelling. Philosophie der Mythologie, II, 104: «Dogma bedeutet bekanntlich, wie das lateiniche decretum, das ja ebenfalls von Behauptungen, von Lehrs?tzen gebraucht wird, einen Entschluss und dann erst eine Behauptung. Dogma ist etwas, das behauptet werden muss, dass sich also ohne einen Widerspruch (einen Gegensatz) nicht denken l?sst». Как латинский декрет нуждается в доказательствах и научных обоснованиях, так и догмат сначала надо обсудить, а потом утвердить. Догмат есть нечто утвержденное, не допускающее по отношению к себе никакого противоречия (антагонизма).]. Формы, в которые они облекаются, их логические одежды, заимствуются из господствующей философской доктрины: так, напр., – конечно, не без особой воли Божией, – в истории христианской догматики весьма ощутительно и благотворно сказывается влияние эллинской философии. Однако отсюда никоим образом не следует, чтобы они порождались ею (как полагает Гарнак и др). Вера в Воскресение Христа, «эллинам безумие, иудеям соблазн»[198 - 1 Кор. 1:23.], как главная тема христианской проповеди, могла явиться только из полноты религиозного откровения, как «миф» в положительном значении этого слова, и лишь в дальнейшем из этого зерна выросла система догматов учения церкви. Догмат есть имманентизация трансцендентного содержания религии, и это влечет за собой целый ряд ущербов, опасностей, подменов; при этой логической транскрипции мифа неизбежно зарождается схоластика (или «семинарское богословие»), т. е. рационалистическая обработка догматов, приноровление их к рассудочному мышлению, при котором нередко теряется их подлинный вкус и аромат, а «богословие» превращается в «науку как все другие», только с своим особым предметом. Правда, эти другие науки, гордые своим имманентно-опытным происхождением, все время косятся на бедную родственницу, видя в ней приживалку, да и самому богословию не дешево обходится это положение в свете. Нельзя, впрочем, отрицать, что и в этой «научной» работе богословия есть известная польза инвентаризации и своя честность Марфы, которая перестала уже быть Марией[199 - Сестры Лазаря, известные по евангельскому рассказу о посещении Иисусом Христом Вифании. «Мария… села у ног Иисуса и слушала слово Его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: Господи! или Тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? скажи ей, чтобы помогла мне. Иисус же сказал ей в ответ: Марфа! Марфа! ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно; Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее» (Лк. 10:39–42).].
Между живым религиозным мифом-догматом и его догматом-формулой имеется поэтому заведомое несоответствие, подобное тому, какое существует между каталогом художественного хранилища и произведениями, в нем перечисленными, или программой концерта и самим музыкальным исполнением. Несоответствие это есть следствие не только невыразимости в слове полноты религиозного переживания, но и общей неадекватности понятий тому, что они призваны здесь выражать. Ибо понятиями, возникающими в результате применения категории дискурсивного мышления, в предположении пространственности и временности, здесь условно выражаются сущности мира иного. О Боге приходится говорить в числовых, временных, пространственных определениях, принадлежащих нашему эмпирическому миру. Бог – един, Бог – троичен в лицах: единица, три суть числа, подлежащие всей числовой ограниченности (помощью единицы совсем нельзя выразить единого Божества, ибо единица существует лишь во множественности, и три в св. Троице суть совсем не три в смысле счета: раз, два, три или один – один – один, или один – два). Число выражает здесь то, что есть сверхчисло и сверхвеличина, время – то, что есть сверхвремя, вечность, и пространство – то, что сверхпространственно, повсюдно. Для многих эта заведомая неадекватность категорий разума предмету религии служит мотивом догматического агностицизма (Кант и его школа). Но это соображение имело бы силу лишь в том случае, если бы догматические понятия были непосредственным орудием религиозного познания; для такой цели понятия были бы, конечно, негодным средством. Бог недоступен разуму как предмет познания, есть для него Ding an sich, находится вне досягаемости для его категорий. Но догматы и не притязают на это, они лишь констатируют факт откровения, уже совершившегося в религиозном мифе, и только переводят на язык понятий его содержание. Опытное происхождение догмата, своего рода религиозный эмпиризм, делая догмат неуязвимым для критики рассудочного познания, в то же время ведет к тому, что его выражение в понятиях порождает противоречия и нелепицы с точки зрения рассудочного мышления. Не таковы ли почти все основные догматы христианства, и недаром их с таким презрением и негодованием отвергают те, кто рассудочную проверку считают высшим и единственным критерием религиозной истины: пример налицо – Л. Толстой. Его рассудочная критика догматического богословия неотразима, если признать здесь рассудок высшим судьей, но обращается в прискорбное недоразумение, если эту посылку отвергнуть.
Догматика получает от религии сырую массу догматов, которую ей предстоит насколько возможно ассимилировать, классифицировать, систематизировать. Стремление разума к единству, его «архитектонический» стиль, «схоластические» наклонности (ведь схоластика есть в известном смысле добродетель разума, его добросовестность, – разум и должен быть схоластичен) ведут к тому, что этой догматической массе придается та или иная, большей частью внешняя, из потребностей педагогических возникающая система: таким образом получается то, что представляют собой «догматические богословия», «системы догматики», «summae theologiae»[200 - «Сумма теологии» – главный трактат Фомы Аквинского, в котором излагаются основы католической теологии. «Сумма» (от лат. summa – итог) – жанр схоластической философской литературы.]. Однако если именно таково отношение догматики к мифике, то возможно спросить себя, какую же цену имеет такая рассудочная инвентаризация сверхрассудочных откровений? Нужны ли вообще догматика и догматы? Не есть ли догматизирование скорее болезнь религии, ржавчина, на ней образующаяся, и не нужно ли объявить во имя религии войну догмату? Можно ли выразить неизреченное, да и нужно ли выражать? Не лились ли реки крови из-за догматов, не раздиралась ли церковь из-за йоты?[201 - Имеется в виду многовековой спор ариан, противопоставлявших принцип «подобносущности» Бога-Отца и Бога-Сына принципу «единосущности», который был провозглашен в Никейском символе веры. Подробнее см.: Болотов В. В. Лекции по истории древней церкви: В 6 т. Т. 4: История церкви в период вселенских соборов. Пг., 1918. С. 72–85.] Таковы популярные возражения против догмата, религиозные, философские, житейские. Насколько они исходят из равнодушия и душевной лени, с ними можно не считаться: разумеется, покойнее и проще жить, не интересуясь предметами веры, даже истолковывая это свое равнодушие как превосходство. Кто не имеет убеждений, кто не исповедует никакой истины, которую он чувствовал бы себя обязанным отстаивать всеми силами души своей, тот всегда будет противником догмата, относясь с эпикурейским легкомыслием к «фанатизму» догматиков. С этим адогматизмом людей беспринципных и равнодушных не о чем разговаривать: они ниже догмата и ниже религии, и, хотя в силу количественного своего преобладания они задают теперь тон в общественном мнении, за ними не стоит ни духовной мощи, ни идейного содержания. Другие отвергают догмат во имя религиозного целомудрия: им кажется, что выраженная в догматической формуле вера не есть уже вера, как и «мысль изреченная есть ложь»[202 - Цитата из стихотворения Ф. И. Тютчева «Silentium!» (1830) (Тютчев Ф. И. Соч.: В 2 т. М., 1980. Т. 1. С. 63).]. Но они забывают, что если в известном смысле и верно это изречение, то справедливо и обратное: неизреченное не есть мысль, а потому не может стать истиной и отрицанием лжи. Все, что переживается нами в душевной жизни, становится мыслью, проходит чрез мысль, хотя не есть только мысль и никогда без остатка не выражается в слове. Религиозное переживание, в своей полноте потрясающее все наше существо, а не одну только мыслительную его природу, неизбежно проходит и чрез мысль, стремится выразиться в слове. Всякое переживание Бога необходимо порождает и соответственную мысль о Боге, хотя никогда оно не бывает только мыслью. Миф в полноте своей не есть мысль, как не есть мысль и символика художественного произведения, однако он просится и в мысль, и становится мыслью, облекаясь в слово. Неизреченность не есть синоним бессловесности, алогичности, антилогичности, скорее наоборот, она-то и есть непрерывная изрекаемость, рождающая словесные символы для своего воплощения. Без этого же порождения она есть невоплотившаяся мысль, нечто недоношенное, мысли не превышающее, но не досягающее. И как ничто не может укрыться от лучей солнца, так же ничто не может укрыться и от света разума. Всякое переживание одной стороной есть и мыслительное. Все делается предметом мысли, и в этом смысле все есть мысль, все есть слово, имеет печать ипостаси Логоса. В этой истине, хотя и искаженной односторонностию, заключается правда Гегеля. И эта мыслимость всего сущего, нисколько не противоречащая его недомыслимости, есть имманентная норма жизни духа, и ее не могут нарушить даже и те, кто на словах ее отвергают, ибо и агностицизм всегда есть уже некоторый догматизм, некоторое положительное догматическое учение о Боге, хотя бы и минимального содержания. Мысль первее нашего разума, «в начале бе Слово», и хотя наш теперешний разум вовсе не есть нечто высшее и последнее, ибо он может и должен быть превзойден, но превзойти мысль уже невозможно – она есть онтологическое определение космического бытия, соответствующее второй божественной ипостаси Логоса: «вся тем быша, и без него ничто же бысть, еже бысть» (Ио. 11:3).
Поэтому малодушному и малосознательному, но по-своему тоже догматическому адогматизму мы противопоставляем сознательный (и в этом смысле «критический») и принципиальный догматизм. Религиозное переживание несовершенно, незаконченно, пока оно не выразилось и слове, миф не отчетлив, пока из него не родилась мысль. Ибо только в мысли, в слове религиозное переживание получает определенность, преодолевается сентиментальная расплывчатость (Шлейермахер), и мифу придается последняя чеканка; лишь в мысли и через мысль сознается окончательно его объективность и кафоличность. Поэтому догматы составляют драгоценное богатство религии, ее «высказанное слово», ????? ??????????. Религиозное сознание естественно и неудержимо стремится к догмату, и разве искание догмата, «составление убеждений», «поиски миросозерцания», не составляют предмета постоянной тревоги и стремлений всякой живой души, которая не может удовлетвориться духовной недоношенностью, аморфной неизреченностью чувства? И отсюда не составляют исключения не только скептические пирронисты[203 - Последователи древнегреческого философа Пиррона (IV – нач. III в. до н. э.), основателя скептической школы. В систематическом виде взгляды Пиррона изложены Секстом Эмпириком в «Трех книгах пирроновых основоположений» (Секст Эмпирик. Сочинения. М., 1976. Т. 2. С. 207–380).] или кантианцы (как бы ни была скудна их догматика), но и как будто антидогматические «мистики»: об этом свидетельствуют их писания, в которых обычно мы находим более или менее выявленную мистическую систему, т. е. совокупность «догматов», да и возможно ли передать словом то, что совершенно чуждо мысли? Объективный, кафолический характер религиозного переживания, отличающий его от музыки одних лишь настроений, от субъективности с ее психологизмом, именно и требует догматической кристаллизации. Кафолическая природа догмата, в частности, обнаруживается и в том, что лишь в слове и через слово религиозное переживание может быть первично сообщено другим людям, благодаря чему и возможна проповедь религии, «служение слова». Не онеметь в сладкой истоме мистического переживания, но проповедовать и учить повелевает мужественная и суровая природа догмата: «шедше убо научите вся языки» (Мф. 28: 19), повелел Своим апостолам Воскресший. Савл, конечно, не мог до конца выразить в слове того, что пережил он на пути в Дамаск, но из этого неизреченного переживания в Савле родился ап. Павел, который немедленно же пошел на проповедь Христа Распятого, сделался первым христианским догматиком. И даже восхищенный на третье небо, он и там слышит глаголы, которые хотя и не могут быть сказаны на человеческом языке, однако принципиально суть все же «глаголы»[204 - См.: Деян. 9:1-20; 2 Кор. 12:2–5.].
На основании сказанного следует признать, что догматы суть богатство религии. Их положительное значение, которым искупается многовековая, приостанавливающаяся лишь в эпохи упадка религиозной жизни догматическая борьба, состоит в том, что догматы представляют собой как бы вехи, поставленные по пути правильно идущей религиозной жизни; нормального ее роста. Догматы суть иероглифы религиозных тайн, раскрывающихся лишь в религиозном опыте и в меру этого опыта. Они суть поэтому нормы и задания для этого опыта, не единоличные, но церковно-кафолические. Никогда нельзя сказать про человека, действительно прикоснувшегося к церковной жизни, что для него догматы суть только учение или рациональные схемы, логические символы, ибо прикосновенность эта именно и означает реальную встречу Бога с человеком в живом личном опыте, личное мифотворчество. Из этого опыта, всегда частичного, но допускающего неопределенный и безмерный рост, почерпается общее указание, что догматы действительно свидетельствуют о религиозных реальностях, следовательно, показуют истинный путь. Никто и никогда не может сказать про себя, что в личном достижении своем вместил всю полноту церковного опыта, намеченную в догматах, но и никто не может прикоснуться к церковной жизни вне своего личного опыта, хотя бы и минимального. Потому церковное богатство догматов, как задача, всегда превышает наличность религиозного опыта, но в то же время и всегда в него входит, его определяет. Отсюда проистекает первостепенное регулятивное значение догматики и педагогическое значение обучения истинам веры, в какой бы форме оно ни совершалось. Таким образом устраняется кажущееся противоречие между личным характером религиозного опыта, устраняющим извне принудительно данную догматику (ибо догматика не геометрия), и объективной системой догматов, в которой выражается сверхличное (и как будто безличное), кафолическое, сознание церкви. Противоположная точка зрения, отрицающая догматику под предлогом личного религиозного опыта, отвергает в корне соборность ради религиозного индивидуализма, анархизма, импрессионизма. В понятии догмата диалектически соединены, таким образом, оба момента: начало личное и сверхличное, внутреннее и внешнее, свободы и авторитета, знание и вера. Таким образом установляется принципиальная возможность и даже необходимость «символа веры»[205 - Краткое изложение основ вероучения, главных догматов какой-либо религии. Христианский символ веры был принят на Никейском вселенском соборе (325 г.), затем дополнялся на Константинопольском соборе (381 г.). В католицизме символ веры пересматривался и редактировался на Тридентском соборе (1545–1563).], для всех членов Церкви общего и обязательного.
7. Религия и философия
Догмат есть сигнализация понятиями того, что не есть понятие, ибо находится выше логического мышления в его отвлеченности; в то же время он есть формула, выраженная в понятиях, логическая транскрипция того, что дано в религиозном опыте. Поэтому догмат, входя в мышление, является ему иноприродным и в этом смысле трансцендентным дискурсивному мышлению, не есть его вывод и порождение. Догмат нарушает, вернее, не считается с основным требованием логической дискурсии (с такой отчетливостью формулированным Г. Когеном), именно с непрерывностью в мышлении (Kontinuit?t des Denkens), которая опирается на порождении им своего объекта (reiner Ursprung[206 - Чистое первоначало (или первоисточник) (нем.) – одно из основных понятий в философии Г. Когена, обозначающее тот или иной исходный элемент, на основе которого формируется все достояние мышления. Таким исходным элементом для Когена является понятие бесконечно малого.]). Мышление само создает для себя предмет и проблему. Трудность философской проблемы догмата и состоит в этой противоречивости его логической характеристики: с одной стороны, он есть суждение в понятиях и, стало быть, принадлежит имманентному, самопорождающемуся и непрерывному мышлению, а с другой – он трансцендентен мысли, вносит в нее прерывность, нарушает ее самопорождение, падает, как аэролит, на укатанное поле мышления.
Пред нами встает во всей трудности вопрос об отношении философии и религии. Возможна ли и в каком смысле возможна религиозная философия? Совместим ли догматизм религии с священнейшим достоянием философствования, его свободой и исканием истины, с его правилом – во всем сомневаться, все испытывать, во всем видеть не догмат, л лишь проблему, предмет критического исследования? Где же здесь место философскому исканию, если истина уже дана в виде догмата – мифа? Где место свободе исследования, если для него руководящей нормой является верность догмату? Где место критике, если царствует догматика? Таковы предубеждения против религиозной философии, благодаря которым и самый вопрос о возможности религиозной философии, или, что то же, философской догматики, чаще всего разрешается отрицательно (по этому случаю иронически припоминается формула схоластики: philosophia est ancilla theologiae[207 - Философия – служанка богословия (лат.) – высказывание итальянского историка XVI в. Цезаря Барония.], причем ancilla неизменно понимается как serva – не слуга, подсобница и союзница, но раба).
Коренное различие между философией и религией заключается и том, что первая есть порождение деятельности человеческого разума, своими силами ищущего истину, она имманентна и человечна и в то же время она воодушевлена стремлением перерасти свою имманентность и свою человечность, приобщившись к бытию сверхприродному, сверхчеловечному, трансцендентному, божественному; философия жаждет истины, которая есть главный и единственный стимул философствования. Философская идея Бога (какова бы она ни была) есть во всяком случае вывод, порождение системы и esprit de Systeme[208 - Дух системы (фр.)], существует лишь как момент системы, ее часть. Философски Бог непременно определяется и доказывается на основании системы, ее строения, ее развития. «Доказательства» бытия Божия, каковы бы они ни были, все от философии и лишь по недоразумению попадают в догматическое богословие, для которого Бог дан и находится выше или вне доказательств; в философии же, для которой Бог задан как вывод или порождение системы, идея о Нем приводится в связь со всеми идеями учения, существует лишь этой связью. И логическое место Божества в системе определяется общим характером данного философского учения: сравните с этой точки зрения хотя бы систему Аристотеля с его учением о божественной первопричине – перводвигателе, с не менее религиозной по общему своему устремлению системой Спинозы, или сравните Канта, Шеллинга, Фихте, Гегеля в их учениях о Боге.
Для философии Бог есть проблема, как и все для нее есть и должно быть проблемой. В своем принципиальном проблематизме она свободна от данности Бога, от какого бы то ни было чисто религиозного опыта; она исследует, сомневается, вопрошает: dubito, cogito, deduco! Разумеется, философия неизбежно стремится при этом к абсолютному, к всеединству, или к Божеству, насколько оно раскрывается в мышлении; в конце концов и она имеет своей единственной и универсальной проблемой – Бога, и только Бога, она тоже есть богословие, точнее – богоискание, богоисследование, богомышление. Философия, насколько она себя достойна, проникнута amor Dei intellectualis»[209 - Интеллектуальная (познавательная) любовь к Богу (лат.) – положение Спинозы (Этика, 4,5, корол. к теореме 32). См.: Спиноза Б. Избр. произв. М., 1957. Т. 1. С. 610.], особым благочестием мышления. Но для философии существует лишь отвлеченное абсолютное, только постулат конкретного Бога религии, и своими силами, без прыжка над пропастью, философия не может перешагнуть от «бога интеллектуального» и «интеллектуальной любви к нему» к личной любви к живому Богу. Amor intellectuales ведь в том и осуществляется, что предмет его становится проблемой для мысли; это есть пафос исследования. Проблематичность – такова природа всякого объекта философии; любовь выражается здесь в философском сомнении и рефлексии, в вопросительном знаке, поставленном над данным понятием и превращающем его в проблему. Самодостоверным основанием для философии, относительно которого она уже не имеет возможности сомневаться и далее проблематизировать, следовательно, уже принципиально не проблематичным, а догматичным (ибо догматичность и есть философская антитеза проблематичности), является, бесспорно, мышление: cogito – ergo sum[210 - Мыслю, следовательно существую (лат.) – одно из основных положений философии Р. Декарта.], говорит о себе философия. Мышление в его самодостоверности есть предмет веры для философии, мышление для нее достовернее Бога и достовернее мира, ибо и Бог, и бытие взвешиваются, удостоверяются и поверяются мышлением. Мышление есть Абсолютное в философии, тот свет, в котором логически возникает и мир, и Бог.
В этом своем проблематизме философия по существу своему есть неутолимая и всегда распаляемая «любовь к Софии»; найдя удовлетворение, она замерла бы и прекратила бы свое существование. Предмет ее стремления находится за пределами ее обладания, есть «ewige Aufgabe»[211 - Вечная проблема (лат.). Источник выражения указан С. Н. Булгаковым в «Философии хозяйства». М., 1940. С. 19–20 (Cohen H. Logik der reinen Erkentniss. 1902).] (Г. Коген). И это, прежде всего, потому, что Истина вовсе не есть та теоретическая истина, которой ищет философия. Истина в божественном своем бытии есть и «Путь и Живот»[212 - Слова Иисуса Христа: «Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин. 14:6).]. Как жизнь, она есть неизреченная и не разложимая ее полнота. Истина, как высшая действительность, есть тем самым и Добро и Красота в неразрывном триединстве Жизни. Бог есть Истина, но нельзя, однако, сказать, что истина есть Бог (Гегель); Бог есть Добро, но неверно, что добро есть Бог (Кант); Бог есть Красота, но несправедливо, что красота есть Бог (Шиллер, Гете). Истина как предмет теоретической спекуляции не есть уже живая истина, это есть лишь один ее аспект, «отвлеченный» о: неразложимого единства. Сама Истина тражцендентна философии, которая знает лишь ее отблеск, ее аспект – истинность, как вечное искание Истины. Нахождение, живое приобщение к Истине явилось бы тем самым и преодолением философии, ибо сама философия проистекает из той расщепленности бытия, его неистинности, при котором мышление оказывается обособленной областью духа, – «отвлеченным».
Если же философии реально доступна не истина, а лишь истинность, теоретическая причастность сверхтеоретической Истине, этим установ?II ястся не только происхождение ее из греховной расщепленности бытия, но и реальная связь с этой Истиной, которая открывается в философии и говорит философствующему разуму на языке, ему доступном. В основе подлинного философствования лежит особого рода откровение, «умное видение» идей, как это навсегда возвещено о философии Платоном. Основные мотивы философствования, темы философских систем не выдумываются, но осознаются интуитивно, имеют сверх-философское происхождение, которое определенно указывает дорогу за философию. По своей интуитивной основе философия сближается с искусством, интуитивная природа которого не вызывает оспаривания, философия есть искусство понятий. Философствование есть рефлексия разума на осознанные, в качестве истинных, его узрения, играющие роль исходных аксиом, а вместе и объектов рефлексии, критического исследования, анализа, доказательства. Основные идеи философии не измышляются, но родятся в сознании, как семена, как зародыши будущих философских систем. Дневное сознание философа оплодотворяется ночными трезами сновидца. Философии тоже не чуждо своеобразное логическое мифотворчество, и в основе действительно оригинальных, творческих философских систем всегда лежит – horribile dectu[213 - Страшно произнести (лат.).] – философский миф. Мифотворческий характер философии открытое выражение находит у Платона, который с соблазнительным для философов безразличием и как будто с преднамеренной беспорядочностью от вершин диалектического исследования переходит к мифу и даже самые основные свои идеи нередко выражает мифом, предоставляя комментаторам решать вопрос, как следует относиться к такого рода изложению, серьезно ли Платон говорит или шутит. Такая манера применяется им но всех почти важнейших диалогах зрелого периода (исключение составляют, кажется, только «Парменид», «Филеб» и «Софист»); напряженнейшая философская спекуляция у него сменяется мифом, отнюдь не занимающим случайное место в качестве литературного орнамента, но играющим определенную роль в развитии мысли, – иногда в форме мифа высказываются самые основные утверждения, имеющие значение необходимого аргумента. (Напомним учение об Эросе в «Пире», о сотворении мира в «Тимее» и «Политике», о небесном происхождении души в «Федре», о загробной жизни в ряде эсхатологических мифов н «Государстве», «Горгии» и др., о бессмертии в «Федоне».) Эта парадоксальная черта Платона составляет настоящий «скандал в философии», с которым каждый справляется по-своему, причем чаще всего мифы отметаются с брезгливой или снисходительной гримасой. Между тем нельзя понять и принять Платона иначе, как смотря прямо в лицо этому факту. Дело в том, что у Платона соединены неразрывно, прикрыты одним куполом чистое философствование и догматическое богословие: Платон все время остается одновременно – и в этом-то и состоит парадоксальность его философского образа – мифологом и философом, догматиком и критицистом, между тем как те, которые держатся за тогу основателя Академии, пугливо или брезгливо отмахиваются от всего «мифического».
На основании сказанного о философии и мифологии легко дать общий ответ на вопрос: кто же был Платон и как понимать его двойственность? Он был философствующим богословом, т. е. догматиком, мифологом, для которого излагаемые им мифы представляли различной ценности, точности и бесспорности богословские истины. Платон относился к излагаемым им мифам совершенно серьезно и с верою, вот что надо констатировать со всею откровенностью. Но по поводу истин, возвещаемых в этих мифах, и в связи с ними Платон еще и философствовал, и эти-то куски его ??? ???????????[214 - Букв.: ученая беседа, диалог (греч.) – основной жанр философских сочинений Платона.] и составили ту сокровищницу платонизма, которую все более научается ценить и наше время. Поэтому у Платона совершенно отсутствует система и esprit de Systeme, и потому же он отец свободной философской диалектики. Платон не систематичен, но тематичен и диалектичен, отсюда проистекает и фрагментарность его философствования, ибо каждый его диалог, при всем своем художественном совершенстве и музыкальной форме, для системы философии есть только фрагмент, этюд, статья, не более, без потребности в закруглении, в сведении концов с концами в единой целостной системе, к которой у Платона не намечается даже попытки и вкуса. Платон – философский essay-ист, который не хочет системы, – любит философствование и не любит философии. Необыкновенно поучительно его сопоставить по типу философского творчества с Аристотелем. Хотя невозможно не видеть религиозного мотива философии и у последнего[215 - Это хорошо показано у Otto Gilben. Griechische Relieionsphilosonhie Leipzig, 1911. S. 356–456.], однако Аристотель совсем не является богословом, догматиком и мифологом. Аристотель – философ по преимуществу, Philosophus, как называли его в средние века, между тем как на «божественном» Платоне всегда лежал ореол чего-то вещего, таинственного, мистического. Если философствование Аристотеля и приводит его к учению о Боге, то это лишь вследствие логики его философствования, а не какой-либо мифотворческой предвзятости. Учение о Боге у Аристотеля есть по преимуществу вывод из его философии. В нем нет ни одной черты, логически не оправданной, так или иначе не доказанной. Рядом с мифотворцем Платоном Аристотель есть представитель чистой философии, с ее стремлением к системе, архитектонической законченности, имманентной непрерывности рационального мышления. И Бог у Аристотеля есть только философская идея, постулат Божества, «доказательство бытия Божия», вне всякого личного к Нему отношения.
И самое учение Платона об идеях как основе познания может быть понято как учение о мифической структуре мысли, миф, касание трансцендентного, «умного бытия», предшествует логически, дает основу для отвлеченного рационального познания[216 - Cp. свящ. П. Флоренский. Сущность идеализма. Сергиев Посад, 1915 (отд. оттиск из юбилейного сборника Московской Духовной Академии). Его же. Общечеловеческие корни идеализма, 1909.]. Все знание у Платона, таким образом, мифологизируется, подчиняется мифотворчеству, которому доступно ведение трансцендентных идей. Истолкование учения Платона об идеях в смысле мифотворчества проливает свет на самую центральную и темную проблему платонизма, которая так остро поставилась в современном исследовании (Наторп, Н. Гартман и вообще Марбургская школа[217 - Имеются в виду прежде всего работы П. Наторпа «Platos Ideenlehre. Eine Einfuhrung in den Idealismus» (Leipzig, 1903), «?ber Platos Ideenlehre» (Berlin, 1914) и Н. Гартмана «Platos Logik des Seins» (Giessen, 1909). Из работ других неокантианцев Марбургской школы следует назвать исследования Г. Когена «Platos Ideenlehre und die Mathematik» (Marburg, 1879). Критический анализ неокантианского («трансцендентального») понимания платоновской идеи см. в книгах А. Ф. Лосева: Очерки античного символизма и мифологии. М., 1930. Т. 1.С. 677–679; Античный космос и современная наука. М., 1927. С. 51&-522.]): следует ли идеи Платона понимать в трансцендентально-критическом смысле, как формальные условия познания и его предельные грани (кантовские идеи), или же в трансцендентно-метафизическом смысле? Что такое платоновский «анамнезис»[218 - Учение о познании как припоминании («анамнезисе») Платон развивает в диалогах «Менон» (81Ь-86с), «Федон» (72е-76е), «Федр» (250 b-d).]? Разумеется ли здесь формально-логическое a priori, проявляющееся в каждом отдельном акте познания, или же это есть действительное припоминание о мифотворческом ведении, причем второстепенное значение для разрешения этого вопроса имеет вопрос, когда произошла встреча с трансцендентным: в этой ли жизни или за ее пределами?
Если сказанное об интуитивных корнях философии справедливо, постольку можно и должно говорить и о религиозных корнях философии, а также и об естественной и неустранимой связи философии с религией. Однако и при этом сродстве остается коренное различие между философией и религией. Последняя основывается на откровении трансцендентного, на переживании Божества. Это переживание качественно иное, нежели в философии, ибо оно существует не в виде теоретических постижений, но в своей конкретности, как жизненное восприятие, опыт, и выражением этого опыта являются догматы. Откровения же философии суть для нее лишь темы и проблемы, ранее критического исследования не имеющие никакой философской значимости. Религиозная значимость догмата не зависит от проверки: он дан в своей достоверности. Религиозную достоверность не может заменить никакое философствование, которое может доказывать только мыслимость, возможность, даже логическую необходимость Божества, но не дает самого переживания, как никакая теория солнца не заменит мне его луча, подействовавшего на мое зрение и осязание. Философия и религия поэтому никогда не могут заменять одна другую или рассматриваться как последовательные ступени одного и того же процесса. Здесь мы снова сталкиваемся с своеобразным и представляющим огромный принципиальный интерес учением Гегеля о взаимоотношении философии и религии[219 - Hegel's Religionsphilosophie (цит. по изд. Diederichs, под ред. Артура Древса).].
Для Гегеля вообще нет сомнения в том, что Бог, предмет религии, составляет и единственно достойный предмет для философии[220 - Ср · Hegel's Encyclop?die der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse. I Th. Logik (W. W., VI, 2-te Aufl.). S. XXI–XXII, 3 и др.]. «Предмет религии, как и философии, есть вечная истина в самой ее объективности: Бог и ничто кроме Бога и изъяснения Бога. Философия не есть мудрость мира, но познание не-мирового (Nichtweltlichen), не познание внешней меры, эмпирического бытия и жизни, но знание того, что вечно, что есть Бог и что проистекает из его натуры… Философия изъясняет поэтому лишь саму себя, изъясняя религию, а изъясняя себя, она изъясняет религию. Как занятие вечной истиной, существующей an und f?r sich[221 - В себе и для себя (нем.).], именно как занятие мыслящего духа, а не произвола или особого интереса к этому предмету, она есть та же самая деятельность, как и религия… Религия и философия совпадают воедино. Философия есть в действительности богослужение, есть религия, ибо она есть такой же отказ от субъективных прихотей и мнений в занятии Богом (Besch?ftigung mit Gott)» (Religionsphilos., 7)[222 - Ср.: Гегель. Философия религии. М., 1975. Т. 1. С. 219–220. «Познание немирового (Nichtweltlichen)» в современном переводе передано как «познание немирского» в том смысле, в каком в Новом Завете «мудрость века сего» противопоставляется «премудрости Божией» (1 Кор. 2:6–7).]. Философия религии относится к общей системе философии таким образом, что «Бог есть результат других ее частей. Здесь этот конец становится началом» (12)[223 - Ср.: Гегель. Философия религии. М., 1975. Т. 1. С. 225.]. «Философия рассматривает, следовательно, абсолютное, во-первых, как логическую идею, идею, как она существует в мысли, как ее содержанием являются сами определения мысли. Далее абсолютное обнаруживается в своей деятельности, в своих продуктах; и это есть путь абсолютного стать для себя самого духом. Таким образом, Бог есть результат философии, о котором познается, что это есть не только результат, но и вечно воспроизводит сам себя, есть происходящее»[224 - Ср. там же. С. 224–225.].;
Различие между «положительной» религией и философией принципиально стирается в глазах Гегеля потому, что «не могут существовать два разума и два духа, не может существовать божественный разум и человеческий, божественный дух и человеческий, которые были бы совершенно различны между собою. Человеческий разум, сознание своей сущности есть разум вообще, божественное в человеке, а дух, насколько он есть дух Бога, не есть дух над звездами, за пределами мира, но Бог присутствует вездесущно и как дух во всех духах. Бог есть живой Бог, который деятелен и действен. Религия есть порождение божественного духа, не изобретение человека, но дело божественного воздействия и влияния на него.
Выражение, что Бог правит миром как разум, было бы неразумно, если бы мы не принимали, что оно относится и к религии и что божественный дух действует в определении и образовании последней… Чем более человек заставляет в разумном мышлении действовать за себя самое дело, отказывается от своей обособленности, относится к себе как к всеобщему сознанию, его разум не ищет своего в смысле особного, и тем менее может он впасть в это противоречие, ибо он, разум, и есть самое дело, дух, божественный дух» (17)[225 - Ср. там же. С. 230.]. (Ср. справедливое критическое замечание по поводу этого суждения у А. Древса: прим. 3, стр.398.) Если в разуме мы имеем непосредственно Бога, то «разум есть то место в духе, где Бог открывается человеку» (24)[226 - Ср. там же. С. 239.], «почва, на которой религия единственно чувствует себя дома» (120)[227 - Ср. там же. С. 366.], «почва религии есть разумное, точнее, спекулятивное» (ib). «Религия существует только через мышление и в мышлении. Бог есть не высшее ощущение, но высшая мысль» (38)[228 - Ср. там же. С. 253.]. В этом смысле понимается и идея «откровения» и «откровенной» религии: «откровенная (geoffenbarte) религия есть очевидная (offenbare), ибо в ней Бог стал вполне очевидным. Здесь все сообразно понятию: нет ничего тайного в Боге»[229 - Мысль о том, что в Боге нет тайны, что Он вполне познаваем, встречается не раз на страницах гегелевой философии религии: стр.334, 335–336.] (48)[230 - Ср. там же. С. 271: «Религия откровения есть открытая религия, потому что в ней Бог полностью открыл себя. Здесь все соответствует понятию, в Боге нет больше ничего тайного».].
По сравнению с мышлением низшею формою религиозного сознания является то, что обычно зовется «верою» и что Гегель характеризует как знание в форме «представления» (Vorstellung): на ней лежит печать субъективности, непреодоленной раздвоенности субъекта и объекта. «Представление обозначает, что данное содержание есть во мне, мое» (66)[231 - Ср. там же. С. 293.]. «Вера есть постольку нечто субъективное, поскольку необходимость содержания, доказанность называют объективным, – объективным знанием, познанием» (67)[232 - Ср. там же. С. 295.]. И так называемое «непосредственное знание есть не что иное, как мышление, взятое лишь совершенно абстрактно» (69)[233 - Ср. там же. С. 297.]. Непосредственное знание о Боге может говорить только, что Бог есть. Но так как бытие, по определению «Логики», есть «всеобщность в пустом и абстрактнейшем смысле, чистое отношение к себе без всякой реакции внутри и снаружи» (70)[234 - Ср. там же. С. 298.], то «эта тощая непосредственность, которая есть бытие, вершина сухой абстракции, есть самое пустое, скудное определение» (ib). (Очевидно, насколько сила этого аргумента связана с прочностью Логики Гегеля: центральный вопрос о природе и содержании веры решается справкой с параграфом о «бытии»!) Отсюда заключает Гегель, что и «самое скудное определение непосредственного знания религии… не стоит вне области мышления… принадлежит мысли» (70)[235 - В прим. 39 (стр. 419) А. Древе справедливо замечает: «Гегель забывает здесь, что бытие логики обозначает только чистое понятие бытия, а не самое это бытие, что утверждение: Бог есть всеобщее, может обосновать лишь логическое, идеальное, но не реальное бытие Божие».][236 - Ср. там же. С. 299.].
Основная мысль Гегеля о различии между религией и философией состоит, как мы уже знаем, в том, что «религия есть истинное содержание, но только в форме представления» (94)[237 - Ср. там же. С. 324.], «представление мое есть образ, как он возвышен уже до формы всеобщности мысли, так что удерживается лишь одно основное определение, составляющее сущность предмета и предносящееся представляющему духу» (84)[238 - Ср. там же. С. 314–315.]. В представлении абстракция борется с образностью, «чувственное лишь путем абстракции возводится к мышлению» (86)[239 - Ср. там же. С. 316.], и в этой двойственности и противоречивости заключается необходимость перехода к философии, которая то же самое дело, что и религия, делает в форме мышления, тогда как «религия, как, так сказать, непроизвольно (unbefangen) мыслящий разум, остается в форме представления»[240 - Ср. там же. С. 357.]. Только в мышлении достигается «то тожество, при котором знание полагает в своем объекте себя для себя», оно «есть дух, разум, опредмеченный для самого себя» (121). «Таким образом, религия есть отношение духа к абсолютному духу. Лишь таким образом дух, как знающий, становится и познанным. Это есть не только отношение духа к абсолютному духу, но сам абсолютный дух относит себя к тому, что мы положили на другой стороне как различие; и выше религии есть, стало быть, идея духа, который относится к самому себе, есть самосознание абсолютного духа… Религия есть знание абсолютного духа о себе чрез посредство конечного духа[241 - Недаром Гегель сочувственно цитирует своего мистического предшественника в имманентизме Мейстера Эккегарта: «Das Auge, mit dem mich Gott sieht, ist das Auge, mit dem ich ihn sehe, mein Auge und sein Auge ist eins. In der Gerechtigkeit werde ich in Gott gewogen und er in mir. Wenn Gott nicht w?re, w?re ich nicht, wenn ich nicht w?re, so w?re er nicht (139)200.]…» (121)[242 - Ср. там же. С. 367.] «Философия имеет целью познавать истину, познавать Бога, ибо Он есть абсолютная истина: постольку ничто другое не стоит труда по сравнению с Богом и Его изъяснением. Философия познает Бога существенно как конкретного, как духовную, реальную всеобщность, которая чужда зависти, но сообщает себя… И кто говорит: Бог непознаваем, тот говорит: он завистлив» (394). (Очевидна вся недостаточность этого аргумента, который скорее может быть приведен в защиту идеи откровения, нежели для подтверждения общей точки зрения Гегеля: для него Бог дан в мышлении, есть мышление, а при этом, строго говоря, некому и нечему открываться, и если сам Гегель и говорит об откровенной религии, то делает это по своей обычной манере пользоваться эмпирическими данными для нанизывания их на пан-логическую схему). «В философии, которая есть теология, единственно только и идет речь о том, чтобы показать разум религии» (394). «Все формы, выше рассмотренные: чувство, представление, могут, конечно, иметь содержанием истину, но сами они не составляют истинной формы, которая необходима для истинного содержания. Мышление есть абсолютный судия, пред которым должно удостоверять себя и управомочивать содержание. Философии делается упрек, что она ставит себя выше религии. Это уже фактически неверно, ибо она имеет только это же самое, а не иное содержание, лишь дает его в форме мышления; она становится, таким образом, выше формы веры; содержание остается тем же самым» (394). «Философия является теологией, поскольку она изображает примирение Бога с самим собой (sic!) и с природой» (395).
Отличительной особенностью философской и религиозной точки зрения Гегеля является то, что мышление совершенно адекватно истине, даже более, есть прямо самосознание истины: мысль о божестве, само божество и самосознание божества есть одно и то же. Человеческое сознание в объективном мышлении не только перерастает себя, но вполне себя трансцендирует, становится не человеческим, а абсолютным. Всякая напряженность имманентного и трансцендентного, познающего и познаваемого, человека и божества, «снимается», преодолевается божественным монизмом, свободным от обособления мира и человека: логика – это «Бог всяческая во всех». Очевидно, что философия, таким образом понятая, перестает уже быть философией, а становится богодейством, богобытием, богосознанием. Это даже не есть и религия, ибо религия предполагает напряженный дуализм имманентного и трансцендентного, соответствует ущербленному, богоищущему и как бы богооставленному бытию. Нет, это сверхрелигия, то, что находится по ту сторону религии, когда религия упразднится. Интеллектуалистически истолковывая религию, Гегель берет ее лишь как вид мышления, как плохое, недостаточное философствование, и в этом качестве, конечно, отводит ей низшее место за то, что она сознает истину лишь в виде «представления», т. е. дуалистического противопоставления субъекта и объекта, человека и божества. Панлогистический идеализм договаривает здесь до конца основную мысль субъективного идеализма: именно esse-percipi[243 - Esse «est» percipi (лат.) – существовать – значит быть воспринимаемым. Это положение впервые сформулировал Дж. Беркли в «Трактате о принципах человеческого знания» (1710). См.: Беркли Дж. Соч. М., 1978. С. 172.]. У Юма она имела субъективно-человеческое значение – «быть для человека», у Беркли получила истолкование как действие Божества в человеческом сознании; у Гегеля она была транспонирована уже на язык божественного бытия: мышление мышления – само абсолютное, единое в бытии и сознании[244 - К этим общим аргументам следует присоединить и то еще соображение, что если религия есть низшая ступень философского сознания, то она отменяется упраздняется за ненадобностью после высшего ее достижения, и только непоследовательность позволяет Гегелю удерживать религию, соответствующую «представлению», в самостоятельном ее значении, рядом с философией, соответствующей «понятию». На это указывает уже Гартман (Philos. d. Rel., 85).]. Поразителен этот люциферический экстаз, которым по существу является пафос гегельянства: кроме самого Гегеля, кто может испытывать это блаженство богосознания и богобытия, переживая его Логику? Если сам он его действительно переживал, это есть, конечно, в высшей степени важный факт религиозной психологии, точнее, интересный религиозный психологизм. Одно из двух: или теоретическому мышлению в такой степени присущ аромат вечности, касание мира божественного, что его служитель чрез мышление подлинно осязал этот мир в его непосредственности (чего мы, говоря откровенно, не допускаем), или же, наоборот, мы имеем здесь пример крайнего доктринерства, приводящего к самоослеплению и самогипнозу, типичное состояние философической «прелести». Гегелевский логический пантеизм проистекает из основной особенности его мировоззрения, его крайнего интеллектуализма, благодаря чему ему и было суждено сказать последнее слово рационализма в форме идеалистической спекуляции. Так как мысль, мыслимость, мышление составляют, в глазах Гегеля, единственно подлинное бытие вся же алогическая сторона бытия, весь его остаток сверх мышления, представляет собой ряд недоразумений, субъективизм или, как теперь сказали бы, психологизм, то бытие для Гегеля подменяется и исчерпывается понятием бытия, а Бог мыслью о Боге. Вооруженный «диалектическим методом», в котором якобы уловляется самая жизнь мышления, он превращает его в своего рода логическую магию, все связывающую, полагающую, снимающую, преодолевающую, и мнит в этой логической мистике, что ему доступно все прошлое, настоящее и будущее, природа живая и мертвая. В действительности мы знаем, что эта философская дедукция земли и неба совершается посредством фактических позаимствований у эмпирического бытия, которое отнюдь не соглашается быть только понятием[245 - Совершенно справедливо замечает А. Древе в своих примечаниях к гегелевской философии религии: «Гегель отожествляет сознательное бытие не с сознательной стороной бытия (Bewusst-Sein) или идеальным бытием, но непосредственно с реальным и приходит, таким образом, к чудовищному утверждению, что можно посредством конечного, дискурсивного, сознательного бытия продумать процесс абсолютного, вечного, досознательного и сверхсознательного мышления непосредственно как таковой. Гегель забывает, что бытие логики обозначает только чистое понятие бытия, а не самое это бытие, что утверждение: «Бог есть всеобщее, может обосновать лишь логическое, а не реальное понятие Бога» (Anm. 39. S. 419).]. При всей ценности и плодотворности отдельных построений и замечаний Гегеля, его система может служить примером совершенного упразднения религии.
Для Гегеля философская достоверность выше религиозной, точнее, она составляет высшую ее ступень, находясь с нею в одной плоскости. Это мнение у Гегеля проистекает из общего его убеждения, что возможна абсолютная система, которая была бы не философией, а уже самой Софией, и именно за таковую почитал он свою собственную систему. Трагедия философствования в ней преодолена, рыцарь обрел свою Прекрасную Даму (если только по ошибке не принял за нее дородную Дульцинею), разум достиг преображения и исцеления от своих антиномий. Для Гегеля его система – это Царствие Божие, пришедшее в силе, и эта сила в мышлении, – это церковь в логической славе своей. В таком убеждении сполна обнаруживается люциферическая болезнь этого типа философии, и гегельянство есть в некотором роде предел для этого направления. В современном немецком идеализме эти же мотивы звучат скрыто и нерешительно, хотя неокантианский имманентизм, тоже устраняющий трагедию мысли, постольку есть робкое повторение Гегеля. Вообще «философия» в отвлеченном, а потому и притязающем на абсолютность понимания – рационалистический имманешизм в отрыве от цельности религиозного духа, есть специфически германское порождение, корни свои имеющее в протестантизме.
В действительности же, в противность Гегелю, религиозная достоверность существенно иная, чем философская, поскольку вера отлична от дискурсивного мышления, а мифологема от философемы. Поэтому даже неправильно ставить вопрос о том, которая из них выше или ниже, – они не сравнимы или же сравнимы лишь как разные виды достоверности. Конечно, для философии религия должна казаться ниже ее, как не-философия, но эта, так сказать, профессиональная оценка ничего не изменяет в иерархическом положении религии, которая имеет дело со всем человеком, а не с одной только его стороной, и есть жизненное отношение к божественному миру, а не одно только мышление о нем. Однако едва ли не существеннее различия является сродство и связь между философией и религией. Возвращаясь к нашей исходной проблеме – возможна ли религиозная философия и как она возможна, – мы должны настойчиво указать, что если действительно в основе философствования лежит некое «умное ведение», непосредственное, мистически-интуитивное постижение основ бытия, другими словами, своеобразный философский миф, хотя и не имеющий яркости и красочности религиозного, то всякая подлинная философия мифична и постольку религиозна, и потому невозможна иррелигиозная, «независимая», «чистая» философия. Последняя измышлена в наши дни людьми, которые хотя и «занимаются философией», изощряясь в философской технике, оттачивая формальное орудие мысли, но сами чужды философской тревоги или философского эроса и потому заменяет основные вопросы философского миросозерцания («метафизики») философской методологией и гносеологией. Как бы ни были сами по себе эти вопросы почтенны и важны, но, конечно, они одни еще не образуют философа. Насколько же при этом от вопросов технических восходят к общим и принципиальным, то и они подпадают тому же закону – религиозной окачествованности философии, хотя не всегда легко ее разглядеть[246 - Так, напр., нелегко под «чистой логикой» Когена увидать скрытое в ней острие неоюдаизма. На «иудаизм» как один из «корней» неокантианства Булгаков указывает также в «Философии хозяйства» (М., 1990. С. 96), ссылаясь при этом на речь Когена на V конгрессе свободного христианства в Берлине в 1910 г. См. также: Бердяев Н. А. Смысл истории. М., 1990. С. 74–75.]. Лишь при исследовании «научных» вопросов философии, т. е. того, что лежит еще за пределами самого философствования, может казаться, что философствование автономно и независимо от всякой внефилософской окачествованности; в основе же всегда окажется метафизическая предпосылка, представляющая собой лишь выражение интуитивного мироощущения. Таковы и гносеология и гносеологизирующая философия, это излюбленное детище современности, таково, в частности, и учение Канта, признанного «философа протестантизма». Если иметь в виду эту аксиоматическую или мифическую основу философствования, то философию можно назвать критической или идеологической мифологией, и излагать историю философии надо не как историю саморазвития понятия (по Гегелю), но как историю религиозного самосознания, поскольку оно отражается в критической идеологии.
Этими общими соображениями дается ответ и на более частный вопрос, именно: возможна ли религиозная философия определенного типа, напр, христианская (или даже частнее: православная, католическая, протестантская философия). Вопрос этот без всякого затруднения разрешается в утвердительном смысле. Ибо если вообще философия, сколь бы ни казалась она критичной, в основе своей мифична или догматична, то не может быть никаких оснований принципиально отклонять и определенную религиозно-догматическую философию, и все возражения основаны на предрассудке о мнимой «чистоте» и «независимости» философии от предпосылок внефилософского характера, составляющих, однако, истинные темы или мотивы философских систем. Разумеется, то или иное построение может быть удачно или неудачно, это вопрос факта, но плохая система христианской философии вовсе не свидетельствует о том, что и не может быть хорошей или что христианская философия вообще невозможна.
Главное опасение, которое рождается при этом у принципиальных ее противников, состоит в том, что здесь подвергается опасности, страдает свобода философского исследования и, так сказать, философская искренность, убивается, таким образом, главный нерв философии, создается предвзятость, заранее обесценивающая философскую работу. Однако достаточно ли считаются утверждающие это с фактом всеобщей интуитивной обоснованности, а следовательно, в этом смысле и неизбежной предвзятости философских систем? И не находятся ли они сами при этом в известном догматическом предубеждении? Ведь философствует-то человек в онтологической его полноте, а не фантастический «трансцендентальный субъект», который есть только регулятивная идея, разрез сознания, методологическая фикция, хотя, может быть, и плодотворная. И философствуют всегда на определенную тему, и только сознательная или бессознательная вражда к христианству заставляет исключать из числа возможных тем философствования христианские догматы. Но для философии эти догматы становятся именно только темами, мотивами, заданиями, проблемами, а в ней они должны стать выводом, конечным результатом философствования. С догматом, который сразу дан в принудительной законченности, нечего делать философскому мышлению, он его связывает; он должен быть с полной философской искренностью превращен в проблему философии, в предмет ее исследования.
С христианской философией упорно и настойчиво смешивают христианскую «апологетику» или догматику. Первая совершенно лишена философского эроса и quasi-философскими средствами стремится к достижению вовсе не философской, но религиозно-практической цели, почему она не философична, но полемична и прагматична по самому своему существу; догматическое же богословие вовсе не есть философское исследование догматов, даже если оно и пользуется в своем изложении философией, но есть лишь их инвентаризация. Если для философии догмат представляет terminus ad quern[247 - Конечный пункт (лат.).], то для догматики он есть terminus a quo[248 - Исходный пункт (лат.).]. Философия, как уже было указано, есть искусство понятий, которое имеет и своих художников, и в этом искусстве призванному ее служителю невозможно художественно лгать, что было бы неизбежно при преднамеренном, нефилософском догматизме в философствовании, – это было бы, прежде всего, проявлением дурного вкуса, эстетическим грехом. Охотно допускают, что христианский художник может быть искренен в своих художественных исканиях не менее, чем художник, не избирающий тем религиозных, почему же затрудняются допустить это же и относительно художника понятий, т. е. религиозного философа?
Сказанное приводит нас к уразумению исторического в религии. Двоякою природой религиозной веры – с одной стороны, ее интимно-индивидуальным характером, в силу которого она может быть пережита лишь в глубочайших недрах личного опыта, и, с другой стороны, пламенным ее стремлением к сверхличной кафоличности – установляется двойственное отношение и к религиозной эмпирии, к исторически-конкретным формам религиозности. Они могут получить жизненное значение лишь после того, как интимное, лично-религиозное переживание откроет их живой смысл, причем кафолическая природа религии побуждает особенно чтить историческое предание. Всякой религии свойственно некоторое старообрядчество, привязанность к старине; произвольно, по личной прихоти или вкусу, без дерзновения пророческого не должна быть изменена «йота от закона»[175 - Имеются в виду слова Иисуса Христа: «… доколе не прейдет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все» (Мф. 5:18).]. Вот почему естественно внушают себе особенное чувство религиозного почтения и трепета старые церкви, старые книги, старая утварь, старые иконы. Старость есть крепость, сила кафоличности, которая как бы сосредоточивается от времени на отдельных объектах.
Потому религия исторична по своей природе, вернее сказать, она возвышает историческое до кафолического, и тот, кто не ведает этого, кто брезгает исторической эмпирией под предлогом свободы вдохновения, тот недоросль в религии. Такими недорослями являются, между прочим, и «просветители», которые выдумывали и продолжают еще ныдумывать «естественную», антиисторическую религию. Они не замечают при этом, что сегодняшняя «естественная религия» завтра станет уже исторической, и даже более того, до известной степени становится уже ею в тот самый момент, когда ощущает себя объективной и кафолической. Также и все гонители традиционного обряда не замечают, что и действительности они вводят только… новый обряд; так квакеры, отвергавшие всякую внешность молитвы, фактически вводили ритуал голых стен молельни и «молчаливые митинги»; так протестантизм, подняв дерзновенную руку на вековой и эстетически прекрасный католический обряд, только заменил его другим, бедным и сухим, прозаичным обрядом, в пределах которого, однако, возможно быть старообрядцем нисколько не меньше, чем при самом пышном ритуале; так наши сектанты божественную красоту православной литургики заменяют скучными и бездарными «псалмами», сухим протестантским обрядом.
«Естественная», абстрактная, внеисторическая религия есть Unding[176 - Бессмыслица (нем.).], нечто не существующее, – отрицательное понятие, не имеющее положительного содержания, но почерпающее его лишь из того, что им отрицается. Это – головное измышление религиозно бездарных эпох, знакомое уже древности с ее «евгемеризмом» и синкретизмом[177 - Евгемеризм – учение о происхождении религии из почитания и обожествления древнейших царей и героев; название произошло от имени Евгемера из Мессины (ок. 340 – ок. 260 до н. э.). Синкретизм – смешение идей и образов различных религий, главным образом путем идентификации богов.]. «Религии вообще» не существует, есть только определенные, конкретные религии.
Особую разновидность естественной религии, или «религии вообще», составляет так наз. теософическая доктрина, согласно которой все религии имеют общее содержание, говорят одно и то же, только разным языком, причем надо отличать эзотерическое учение, ведомое лишь посвященным, и экзотерическое, существующее для profanum vulgus[178 - Непосвященная толпа (лат.) – выражение Горация («Оды», II, 1,1)]; различия символики и обряда, обусловливаемые историческими причинами, существуют только во втором, но не в первом. Это учение опирается на смелые аналогии и отожествления, особенно же на сближения моральных учений, в которых, вообще говоря, легче найти эту близость, нежели в догме и обряде. Таким образом, оригинальные краски исторических религий обесцвечиваются, все конкретное отходит в экзотеризм, а в качестве эзотерического содержания подставляется доктрина теософического общества, столь озабоченного распространением универсального религиозного волапюка[179 - Волапюк (от англ, world – мир и speak – язык) – первый искусственный международный язык, созданный в 1880 г. Иоганном Мартином Шлейером (1831–1912).] (в действительности же под маской религиозного эсперанто, ведущего пропаганду буддизма и вообще индуизма на европейско-христианской почве, однако предпочитающего, вместо открытого выступления и прямой борьбы с христианством, обходную тактику его ассимиляции и нейтрализации).
Конкретные черты религии установляются ее положительным содержанием, точнее – тем откровением, которое она содержит (или, по крайней мере, считает, что содержит). Религия основывается не на смутном и неопределенном ощущении Божества вообще или трансцендентного мира вообще, к чему сводит ее, с одной стороны, адогматическая мистика и Gef?hlstheologie, с другой – рационалистическое просветительство, но на некотором, вполне определенном знании этого мира, самооткровении Божества. Всякая религия догматична, она устансвляет отношение не к Божеству вообще, но к определенному, имеющему свое «имя» Богу. В этом смысле догмат есть интегральная часть религии. Что же такое догмат! Можно различать это понятие в более узком и более обширном смысле. В первом смысле догмат есть формула, кристаллизующая в образах или понятиях религиозное суждение. Логические грани, установляемые такой формулой, обычно имеют практическое происхождение. Их провозглашение чаще всего вызывается потребностью борьбы с какой-либо ересью. Оно есть поэтому не только вероучительное определение Церкви, но и ее действие – осуждение и отсечение ереси (напр., никейская формула имела антиарианский характер, IV собора – против Македонии, VII – антииконоборческого характера и под.)[180 - Никейская формула» или, точнее, Никейский символ веры был принят на I Вселенском соборе в 325 г. в Никее, собор осудил арианство как ересь. III Вселенский собор состоялся в 451 г. в Халкидоне, отменил решения Эфесского собора (см. прим. 137) и осудил как ересь учение Македонка, возглавлявшего так наз. пневматомахов (духоборцев), последователей Ария. VII Вселенский собор (786–787, Константинополь, Никея) осудил иконоборчество – еретическое течение в Византии, возникшее под влиянием иудаизма и ислама, запрещающих изображать Бога.]. Но догматическая формула есть только приблизительная, притом неизбежно односторонняя, в силу указанного своего происхождения, попытка выразить в понятиях религиозное содержание. Не догматическая формула родит догмат, но религиозное содержание, или живой догмат, порождает догматическую формулу (или формулы).
Если божественный мир действительно открывается религиозному сознанию и трансцендентное становится ему имманентно[181 - Ср. Шеллинг: Gott ist nicht, wie viele sich vorstellen, das Transzendente, er ist das Immanente, d. h., zum Inhalt der Vernunft gemachte Transzendente (Sche?ine. Philosophie der Offenbarung, l, 170, WW., 2. III). Бог не есть трансцендентное, как многие себе представляют, он есть имманентное, т. е. трансцендентное, ставшее содержанием разума (нем.).] в некоторой догматической определенности, то, очевидно, должен быть мост, оба мира соединяющий; должны быть письмена, которыми начертываются божественные откровения, и язык, на котором они могут быть высказаны. Но если обычно слова наши служат для понятий этого мира, его предметов и соотношений, то как же могут они оказаться пригодными для содержаний иного, трансцендентного, мира? Эта трансцендентность не влечет ли за собой и неизреченности и недомыслимости для человека? Мы уже достаточно говорили о том, что божественный мир не может быть предметом дискурсивного знания и постигается только верой. Догматы если и возможны, то не в смысле логических и диалектических выводов, но лишь как религиозное ведение. Чтобы подойти к пониманию природы этого ведения, следует вспомнить о рождении художественных образов в искусстве. Художник есть вещун некоей нездешней действительности, которая открывается ему в художественных образах. Носитель религиозного откровения (он может быть и единоличным и коллективным) постигает высшую действительность через посредство религиозных образов, которые сродни с художественными своей непосредственностью, но отличаются от них своим религиозным характером. Их соединяют образность, символизм, но различает содержание этой символики и ее источник.
Религиозные образы, реализующие и выражающие религиозное содержание, представляют собою то, что обычно называют мифом. Мифу в религии принадлежит роль, аналогичная той, какая свойственна понятию или суждению в теоретической философии: от его понимания зависит оценка религиозно-догматического сознания.
Итак, что же такое миф как «трансцендентальная» категория?
6. Природа мифа
Прежде всего следует отстранить распространенное понимание мифа, согласно которому он есть произведение фантазии и вымысла. Сторонникам подобного понимания мифа не приходит даже на мысль такой простой, а вместе с тем и основной вопрос: чем же был миф для самих мифотворцев, в сознании которых он зарождался, что они сами думали о рождающемся в них мифе? Или, быть может, скажут, что они его сознательно выдумывали, чтобы потом обманывать других? Ведь утверждали же серьезно, что жрецы сами выдумали религию и, следовательно, утвердили ее на сознательном и заведомом обмане. Однако в таком случае им пришлось бы прежде всего обманывать и самих себя, ибо сами-то они верили в мифы, придавали объективное значение их содержанию, отнюдь не считая его только порождением поэтической фантазии. Лишь при таком предположении и становится понятна роль мифотворчества в истории человечества, где «Dichtung» мифа нередко объясняет полновесную «Wahrheit»[182 - Вымысел, поэзия, истина, правда (нем.).] истории.
Итак, следует прежде всего признать, что и мифу присуща вся та объективность или кафоличность, какая свойственна вообще «откровению»: в нем, собственно, и выражается содержание откровения, или, другими словами, откровение трансцендентного, высшего мира совершается непосредственно в мифе, он есть те письмена, которыми этот мир начертывается в имманентном сознании, его проекция в образах.
Можно сказать (применяя кантовский термин), что миф есть синтетическое религиозное суждение a priori»[183 - Ср. с высказыванием В. И. Иванова: «Миф есть синтетическое суждение, где сказуемое-глагол присоединено к подлежащему-символу» (Иванов В. Собр. соч. Брюссель, 1974. Т. 2. С. 608).], из которого далее уже аналитически выводятся апостериорные суждения. Зародившийся миф содержит в себе нечто новое, дотоле неизвестное самому мифотворцу, причем это содержание утверждается как самоочевидная истина. Эта самоочевидность порождается именно опытно-интуитивным характером ее происхождения. Мифу присуща своя особая достоверность, которая опирается не на доказательства, но на силу и убедительность непосредственного переживания. В мифе констатируется встреча мира имманентного – человеческого сознания (как бы мы его ни расширяли и ни углубляли), и мира трансцендентного, божественного, причем трансцендентное, сохраняя свою собственную природу, в то же время становится имманентным, а имманентное раскрывается, чувствуя в себе внедрение трансцендентного. Мифу необходимо присуща активность, известная инициатива со стороны трансцендентного, которое хочет этой встречи, и в реальности этой встречи и заключается сила убедительности мифа. В этом и состоит его объективность. Он есть событие, которое совершается на грани двух миров, в нем соприкоснувшихся (Вяч. Иванов). Он есть нечто «благодатное» (беря понятие благодать в общем и формальном смысле). Если же миф есть событие, то и мыслить его надо сугубо реалистически: иначе сказать, в мифе речь идет не об отвлеченных понятиях, но о самих реальностях. Содержание мифа всегда конкретно, речь идет в нем не о боге вообще и человеке вообще, но об определенной форме или случае определенного богоявления Подлежащее мифа, его субъект, может быть обозначено только «собственным», а не «нарицательным», родовым именем. Миф есть, или, вернее, должен быть, поэтому отрицанием всякого субъективизма или психологизма (хотя, конечно, возможны ошибки и иллюзии мифотворческого сознания, а потому и субъективные или ложные мифы). Напротив, сознание, что в человека входит нечеловеческая сила и в нем совершаются превышающие его собственную меру события, одно только и создает жизненную убедительность мифа. Не человек действует или «полагает» («setzt») здесь, как это имеет место в субъективно-идеалистических построениях, но в человеке происходит, полагается, в нем говорят высшие сущности и силы. Стремление оккультистов путем медитации услышать голос самих вещей, как и вера Гегеля, что в мышлении, после того как им, путем философского медитирования, преодолены низшие, феноменологические, ступени самосознания духа и действует уже сам Логос, – формально сродны с «мифотворчеством». В частности, Гегель хотел быть подлинным мифотворцем в логике, ибо стремился к тому, чтобы в ней и чрез нее действовало само логическое, для человека в его субъективности или человечности пребывающее трансцендентным. Пафос логики Гегеля именно и состоит в переживании такой встречи трансцендентного Логоса и имманентного или имманентировании трансцендентного, причем сама логика получает уже явно теургический и несомненно сверхлогический смысл. Этот мифотворческий пафос Гегеля, может быть, лучше всего объясняет, почему он ставил философию выше религии, ибо философское ведение для него ощущалось как подлинный миф, а философия как истинная мифология. Логическое созерцание становится у него оком для постижения ноуменального мира (отсюда понятна вражда Гегеля к кантовскому учению о вещи в себе и ее непознаваемости, вообще резкий и патетический имманентизм его учения). Слабая сторона гегельянства с этой точки зрения сводится к тому, что в мифообразовании у него вся энергия принадлежит человеку – мифотворцу. Философия Гегеля есть самооплодотворение, пародия на бессеменное зачатие, мифотворчество в имманентном (ибо, по Гегелю, достаточно пройти закономерный искус феноменологии и вступить в царство логики, как Логос уже и достигнут). Напротив, в философии Канта, именно в его учении об «идеях» как предельных понятиях, а равно и в учении о различении суждений практического разума от теоретического разума и «силы суждения» заключается implicite[184 - Неявно, в скрытом состоянии (нем.).] целая теория мифотворчества, хотя и отрицательного или агностического содержания. По этой теории, Ding an sich[185 - Вещь в себе (нем.).] хотя и трансцендентна, но все-таки отпечатлевается в сознании в качестве «идей» или предельных понятий. Однако эти идеи отличаются от мифов тем, что они не только свидетельствуют у Канта о реальном присутствии или откровении трансцендентного, но содержат в себе даже меньше реальности, чем опытное познание, суть только схемы, теневые следы, не более. Мы знаем, к каким роковым последствиям приводит этот агностицизм в богословии Канта, где он ко всему мифическому относится не только без всякого понимания, но и с злобным презрением, сам ограничиваясь имманентной моральной теологией. (Ложное понимание природы мифа, связанное с общим иконоборческим устремлением, отличает и Лютера и весь вообще протестантизм с его имманентизмом и рационализмом.)
И тем не менее даже и в этом учении Канта об идеях как имманентных проекциях Ding an sich заключается драгоценное зерно теории мифотворчества: Ding an sich, трансцендентная теоретическому познанию, все же познаваема, и притом своим особым путем, отличным от имманентно-опытного; кантовские постулаты практического разума, его «разумная» вера, есть также не что иное, как мифотворчество. На гносеологическом языке миф и есть познавание того, что является запредельной Ding an sich для разума, и кантовское учение о непознаваемой вещи в себе содержит поэтому некий философский миф агностического содержания. Всегда отмечалась философская противоречивость этого кантовского учения: Ding an sich является одновременно и трансцендентна и имманентна разуму, есть для него зараз и ничто, и нечто. Однако эта противоречивость становится совершенно естественной, если понять кантовское учение в его надлежащем смысле – не как философему, но как миф или религиозное постижение, ибо в противоречивом с точки зрения спекулятивной философии определении трансцендентно-имманентного, Ding an sich, именно и выражается самое существо религиозного переживания.
Религиозное мифотворчество надо отличать от сродных с ним областей постижения. Именно в ближайшем сродстве с ним находится художественное творчество, поскольку оно основывается на подлинном «умном видении»: образы для художника имеют в своем роде такую же объективность и принудительность, как и миф. Образы владеют творческим самосознанием художника, он же должен овладеть ими в своем произведении, творчески закрепить их в имманентном мире. Его задача – надлежащим образом видеть и слышать, а затем воплотить увиденное и услышанное в образе (безразлично каком: красочном, звуковом, словесном, пластическом, архитектурном); истинный художник связан величайшей художественной правдивостью, – он не должен ничего сочинять[186 - Не могу не привести здесь для иллюстрации слышанный мною от Л. Н. Толстого рассказ, как одна пушкинская современница вспоминала, что сам Пушкин в разговоре с ней восхищался Татьяной, так хорошо отделавшей Евгения Онегина при их последней встрече.]. Строго говоря, разницы между художником и мифотворцем по «трансцендентальной» природе их ведения и не существует. Различие здесь установляется их областью или предметом. Мы уже указывали, что трансцендентное, в своей соотносительности имманентному, имеет различные ступени или различную глубину, и, помимо трансцендентного в собственном смысле, т. е. области религиозной, существуют еще многие слои относительно-трансцендентного, открывающегося в им манентном; рассуждая формально-гносеологически, во всех подобных случаях мы имеем наличность мифического прозрения или мифотворчество. Различные природные стихии (лешие, водяные, русалки, эльфы, гномы и т. д.) открывают о себе в мифе, и народные сказки в известной части своей суть такие натуральные мифы, зарождающиеся, конечно, в пору наибольшей непосредственности и чуткости к голосам из области запредельного чувства. Природа в многоголосности своей говорит в темных преданиях и верованиях, в сказке, фольклоре, в «фантазии» художника; иногда она вещает прямо своей мистической глубиной (так возникает мистика природы и в древнее и новое время; к ее представителям относится такой, напр., мыслитель, как Я. Беме, мифотворец природы, которого надлежит поэтому называть не боговдохновенным, но природовдохновенным. Таков поэтический ясновидец «хаоса» Тютчев). Вообще виды «откровения», как и предметы его, могут быть различны: и природные, и божественные, и демонические (так наз. у отцов церковных «прелесть»); оно может исходить из разных миров и иерархий, и само по себе «откровение» с выражающим его мифом, понимаемое в смысле формально-гносеологическом, может иметь различное содержание: и доброе и злое, и истинное и обманное (ибо ведь и сатана принимает вид ангела света), поэтому сам по себе «откровенный» или мистический характер данного учения говорит только об интуитивном способе его получения, но ничего еще не говорит об его качестве. Принципиально возможность заблуждения и обмана здесь вовсе не исключена. В этом-то и заключается опасность прельщения ложными откровениями, принимаемыми за истину только потому, что гносеологически они имеют характер откровения, не дискурсивны, но интуитивны. Откровение, мифотворчество, есть, следовательно, и та форма, в которой совершается также и откровение Св. Духа, но и оно еще не связано само по себе с данной формой, как таковой, ибо вполне возможно, что, при всем формальном подобии «откровения», последнее оказывается пустым и ложным, лишенным подлинно духовного содержания. Поэтому осторожность, проверка, внимательность в мистике и откровении нужны не меньше, если не больше, чем в дискурсивном знании. Необходимо личные интуиции выверять по церковному преданию, раз только Церковь уже опознана как «столп и утверждение истины»[187 - 1 Тим. 3:15.], а не наоборот – поверять церковное предание по личной интуиции. И здесь снова выступает огромное значение уже кристаллизованного, отлившегося в догматы, культ и быт церковного предания, исторической церкви, которая всегда умеряет самозваные притязания от имени «церкви мистической», т. е. нередко от имени своей личной мистики (или же, что бывает еще чаще и особенно в наше время, одной лишь мистической идеологии, принимаемой по скудости мистического опыта за подлинную мистику). Здесь, как и во многих случаях в религиозной жизни, мы наталкиваемся на антиномию: голый историзм, внешняя авторитарность в религии есть окостенение церковности, своевольный же мистицизм есть ее разложение; не нужно ни того, ни другого, а вместе с тем нужно и то, и другое: как церковный авторитет, так и личная мистика. Находить здесь правую меру, для которой нет внешних критериев, а есть только внутренний (так сказать, религиозно-эстетический), и есть задача «духовного художества», руководимого лишь духовным вкусом, чувством духовного такта…
Содержание мифа представляет собой суждение, утверждающее известную связь между подлежащим и сказуемым. На каком же языке высказывается это содержание? Есть ли это язык понятий, подлежащих философской обработке не только в своем значении, но и в самом своем возникновении, или же это суть знаки иной природы и строения, находящиеся в таком же примерно отношении к философским понятиям, как образы искусства: о них можно философствовать дискурсивно, но в наличности своей они даны мышлению. Очевидно, такова природа и образов религиозного мифа, его символика. Содержание мифа выражается в символах. Что же такое религиозный символ? Этот вопрос стал особенно близок новейшей русской литературе (Вяч. Иванов, А. Белый)[188 - Об отношении С. Н. Булгакова к творчеству Андрея Белого см. в его письмах, написанных по поводу романа «Серебряный голубь» в 1910–1911 гг. (Новый мир. 1989. № 10. С. 238–241).]. Символизм может иметь различное значение. Так, символ в рационалистическом применении берется как условный знак, аббревиатура понятия, иногда целой совокупности понятий, конструктивная схема, логический чертеж; он есть условность условностей и в этом смысле нечто не сущее; он прагматичен в своем возникновении и призрачен вне своего прагматизма; он возникает по определенному поводу, цепляется за вещи лишь в предуказанных точках, его реализм частичен, акцидентален. Такова до известной степени символика математики, такова в особенности символика научных понятий. В этом смысле символична вся наука, но символизм этот оказывается синонимом прагматизма, субъективизма и, в последнем счете, скептицизма или иллюзионизма. Будучи прагматичной, наука психологична в своем естестве, вся она есть, огромный психологизм, хотя и имеющий основу в объективной сущности вещей[189 - Ср. характеристику науки в главе о «хозяйственной природе науки» в моей «Философии хозяйства».]. Противоположностью этому символизму условных знаков и прагматических схем является символизм в религии и искусстве, которые одинаково пользуются символом (чем намечается их таинственная близость). Символизм, по известному определению В. Иванова, идет a realibus ad realiora[190 - От реального к реальнейшему (лат.; греч.) – лозунг реалистического символизма. См.: Иванов В. И. По звездам. Опыты философские, эстетические и критические. СПб., 1909. С. 305; см. также: Иванов В. Собр. соч. Брюссель. Т 2. 1974. С. 553, 560, 611, 665.], от ?v к ????? ??,[191 - От «бытия» к «подлинному бытию» (греч.).] поэтому ему чужд психологизм. В отличие от прагматически-условного характера научных понятий, содержание символа объективно и полновесно, в противоположность понятиям – «скорлупам», не имеющим своего содержания, или словам, внутренне чуждым слова. Нельзя художественно солгать, и нельзя мифотворечески покривить душой: не человек создает миф, но миф высказывается чрез человека.
Таково гносеологическое значение мифа: параллельно с дискурсивным мышлением и наукотворчеством, рядом с художественным творчеством стоит религиозное мифотворчество как особая, самозаконная область человеческого духа; миф есть орудие религиозного ведения. Само собою разумеется, то, что отлагается в сознании в форме мифа, вступая в общее человеческое сознание, затрагивает все способности души, может становиться предметом мысли, научного изучения и художественного воспроизведения. Но остов религиозного мифа, существенное его содержание не создается мышлением и не творится воображением, – он рождается в религиозном опыте. Содержание мифа относится к области бытия божественного, на линии соприкосновения с человеческим. Возможно прозрение в божественный мир и чрез оболочку эпирического, изнутри. В таком случае человеческая история, не переставая быть историей, в то же время мифологизируется, ибо постигается не только в эмпирическом, временном выражении своем, но и ноуменальном, сверхвременном существе; так наз. священная история, т. е. история избранного народа Божия, и есть такая мифологизированная история: события жизни еврейского народа раскрываются здесь в своем религиозном значении, история, не переставая быть историей, становится мифом.
Но единственный в своем роде пример такого соединения ноуменального и исторического, мифа и истории, несомненно представляют евангельские события, центром которых является воплотившийся Бог – Слово, Он же есть вместе с тем родившийся при Тиверии и пострадавший при Понтии Пилате человек Иисус: история становится здесь непосредственной и величайшей мистерией, зримой очами веры, история и миф совпадают, сливаются через акт боговоплощения.
Миф возникает из религиозного переживания, почему и мифотворчество предполагает не отвлеченное напряжение мысли, но некоторый выход из себя в область бытия божественного, некое богодейство, – другими словами, миф имеет теургическое происхождение и теургическое значение[192 - По определению В. С. Соловьева, задача «свободной теургии» – «осуществление человеком божественных сил в самом реальном бытии природы» (Соловьев В. С. Соч. М., 1988. Т. 1. С. 743).]. При этом мифотворчество есть не единичный, но многократно повторяющийся акт. По своей теургической природе миф имеет необходимую связь с культом как системой сакральных и теургических действий, богодейством и богослужением. Отсюда первостепенное значение культа для религиозного сознания, и не только практическое, но и теоретическое, даже гносеологическое. Культ есть переживаемый миф, – миф в действии. Отсюда универсальное значение богослужения, культа во всякой религии, ибо его живая, реальная символика есть не только средство для упражнения благочестия, но и сердце религии, и око ее, – активное мифотворчество. Иконоборческие вкусы нашего века, связанные с его абстрактностью и рационализмом, совершенно затемнили для современного человека, привыкшего с горделивым и слепым пренебрежением произносить слово обряд, религиозное и религиозно-гносеологическое значение культа. Это зависит все от того же основного греха в понимании символизма вообще и культа в частности – антропоморфического субъективизма или психологизма. Такое понимание культа приводит к тому, что в его символическом действе видят лишь произвольно установленные аллегорические символы, или театральные жесты, возбуждающие известное настроение или выражающие известную идею (почти такое значение получил обряд и в современном протестантизме, где даже евхаристия понимается как некая символическая аллегория). Богослужение получает при таком понимании значение религиозного спектакля, в котором «представляются» дидактические пьесы (и в изобилии произносятся поучения и проповеди). Утрата вкуса к эстетике культа делает, к тому же, эти «представления» утомительными и непонятными, рационализм объявляет войну культу за его пышность, красоту, мнимую театральность (таковы господствующие настроения всей реформации, особенно кальвинизма, пуританизма, квакерства). В культе видят или театральные церемонии, или же «языческий» магизм, «мистагогию»[193 - В Древней Греции – введение или посвящение в таинство.] (достаточно почитать современных протестантских богословов, напр., хотя бы историю догматов Гарнака). Православие, как церковь литургическая по преимуществу, в этом отношении подвергается особенным нападениям, даже сравнительно с католичеством, имеющим, при большей пышности культа, сравнительно не столь богатую литургику.
Чтобы понять значение культа, нужно принять во внимание его символический реализм, его мифотворческую энергию: для верующих культ не есть совокупность своевольно избранных символов, но совершенно реальное богодейство, переживаемый миф или мифологизирование действительности. Правда, оно ограничено местом (храм, священные места), предметами (святыни) и временем (богослужение, священные времена), оно образует поэтому лишь теургические точки на линии времени, но эта частичность ведь вообще соответствует природе рели
гии: хотя религия стремится иметь Бога как «всяческая во всех», слить трансцендентное и имманентное воедино и тем преодолеть их взаимную полярность, но она и возникает именно из этой напряженности и существует только ею и вместе с нею, и в этом смысле религия есть некоторое переходное состояние – она сама стремится себя преодолеть, сама ощущает себя «ветхим заветом». Когда Бог станет «всяческая во всех», не будет религии в нашем смысле, станет не нужно уже воссоединять (religare) разъединенного, не будет и особого культа, ибо вся жизнь явится богодейственным богослужением. Недаром в Апокалипсисе читаем о Новом Иерусалиме, сошедшем с неба: «Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель – храм его и агнец» (Апок. 21:22). Культ создает предварение и частичное переживание божественного в эмпирическом, притом, как и все в религии, не отвлеченно, не «вообще», но окачествованно, конкретно, в связи с определенным мифом – догматом. Поэтому богослужение, культ есть живая догматика, мифы и догматы в действии, в жизни. Отсюда понятна всеобщая распространенность культа, ибо нет религии без культа, это можно выставить как аксиому; и разнообразию религий соответствует и разнообразие культов, а миграция религий сопровождается и миграцией культов. Вместе с тем культ есть и средство постоянного догматического поучения, оживления догматических истин. Можно сказать, живо и жизненно в религии только то, что есть в культе, а отмирает или нежизнеспособным является то, чего нет в культе.
В центре богослужения, очевидно, стоит молитва, значение которой для мифотворчества ясно из предыдущего. Молитвенная жизнь получает развитие и выражение в литургическом творчестве, в котором церковное предание накопляет драгоценные перлы молитвенной поэзии и воодушевления. Отсюда понятно первостепенное значение вообще литургики – церковных песнопений, молитв, обрядов, для мифотворческого самосознания: такое же значение имеют и другие стороны символики культа, кроме выражаемой в слове. На первое место здесь следует поставить иконографию; помимо религиозного значения иконы, как таковой, этого мифа-вещи, в которой эмпирическая вещность таинственно соединяется с трансцендентной сущностью, она всегда имеет вполне определенное содержание, это есть мифология в красках, камне или мраморе. Отсюда такое первостепенное значение иконографии для развития религиозной жизни и самосознания, одинаково как для христианской, так и для внехристианских религий. Иконоборчество и упадок иконографии большей частью знаменуют собой и упадок религии. Вообще, миф завладевает всеми искусствами для своей реализации, так что писаное слово, книга, есть в действительности лишь одно из многих средств для выражения содержания веры (и здесь выясняется религиозная ограниченность протестантизма, который во всем церковном предании признает только книгу, хочет быть «Buch-Religion»[194 - Книжная религия (нем.).]).
Наряду с литургикой и иконографией следует поставить символические действия, имеющие теургическое значение: чин богослужения, жертвы, таинства. В богослужебном ритуале, естественно возникающем в каждой религии, символически переживается содержание мифа, догмат становится не формулой, но живым религиозным символом. Самое центральное место в культе занимают, конечно, таинства. Таинственный характер, согласно указанному, принадлежит, строго говоря, всему богослужению, однако эта таинственность сгущается и, так сказать, кристаллизуется в отдельных актах, которые и составляют таинства в собственном смысле. Таинство отнюдь не означает собою сообщения каких-либо тайн или секретов и не имеет никакого отношения к «сокровенному знанию», оккультизму и магии. Таинство представляет собой столь же необходимый и даже, можно сказать, гносеологически неустранимый атрибут религии, как и молитва; поэтому, помимо их религиозного постижения, следует понять и этот их гносеологический смысл. Религия вытекает из чувства разрыва между имманентным и трансцендентным и в то же время напряженного к нему влечения: человек в религии неустанно ищет Бога, и небо ответным лобзанием приникает к земле. Чтобы была возможна религия не только как жажда и вопрос, но и как утоление и ответ, необходимо, чтобы эта полярность, эта напряженность иногда уступала место насыщенности, чтобы трансцендентное делалось ощутимым, а не только искомым, приобщало собой имманентную действительность. Таинственный элемент в таинстве и заключается в этом жизненном общении с тем миром, который остается для нас закрытым, причем здешний мир ощущается тогда как вместилище того, другого мира; короче, таинство есть переживание трансцендентного в имманентном, сообщение «благодати» творению в определенных таинственных актах. И поскольку таинству присуща эта черта, очевидно, в общем процессе мифотворчества оно составляет самую интенсивную точку. Понятно все принципиальное различие таинства от «магизма»: магия есть расширенная, утонченная и углубленная мощь человека над природным миром помощью высшего его знания, магия есть то же, что и наука, лишь на иной ступени, с иными методами. Как и она, магизм ограничивается областью имманентного, он космичен и натурален, в нем нет никакой «благодати» в собственном смысле этого слова, помимо естественной, разлитой во всем мире; и он человечен, поскольку он всецело опирается на мощь человека, на его силу и энергию. Напротив, таинство всецело основано на благодати, осуществляется излиянием трансцендентного, сверхприродного начала в мир природный. Этим признаком различаются истинные таинства и ложные, представляющие собою не что иное, как разновидность магизма (природные таинства). Христианину надлежит верить, что в языческом мире хотя и живо ощущалась потребность в таинстве, ибо она не устранима из религии по самому ее существу, и хотя она утолялась по-своему[195 - Об этом см. ниже в отделе III.], но не было таинств истинных, «питающих в жизнь вечную», которые могли явиться лишь в христианстве, после воплощения Бога-Слова, давшего Свою Плоть и Кровь в живот вечный. Их предварения были уже в ветхозаветной церкви Израиля.
Догматическая формула есть попытка высказать содержание религиозного мифа в слове, выразить его в понятиях. Догмат, в смысле формулы, всегда приходит после мифа или из мифа, т. е. он не рождается в формуле и вместе с формулой, а лишь ею фиксируется, вносится в опись. Догматика есть как бы бухгалтерия религиозного творчества, а ее формулы суть продукты рефлексии по поводу религиозной данности. История догматов показывает, что поводом для их установления и провозглашения чаще всего являлись те или иные ереси, т. е. уклонения не только религиозной мысли, но и, прежде всего, религиозной жизни (ведь очевидно же, напр., что арианство есть совершенно иное восприятие христианства, нежели церковно-православное). Догмат, отклоняя лжемудрование, ставит на место его правую формулу, и эта формула есть логическая грань, ограда догмата. Она определяет ту его внешнюю границу, за которую невозможно отклоняться, но она отнюдь не адекватна догмату, не исчерпывает его содержания, и прежде всего потому, что всякая догматическая формула, как уже сказано, есть лишь логическая схема, чертеж целостного религиозного переживания, несовершенный его перевод на язык понятий, а затем еще и потому, что, возникая обычно по поводу ереси, – «разделения» (??????? – разделение), она преследует по преимуществу цели критические и потому имеет иногда даже отрицательный характер: «неслиянно и нераздельно», «одно Божество и три ипостаси», «единица в троице и троица в единице». Omnis definito est negatio[196 - Всякое определение есть отрицание (лат.) – выражение из письма Спинозы к Яриху Йеллесу от 24 июня 1674 г.] – эта формула Спинозы особенно приложима к догматике, ибо здесь поводом к defenitio чаще всего является negatio, высекающая догматы как искры из камня: количество возможных догматических определений в христианстве могло бы быть значительно больше тех, которые формулированы на соборах.
Догматы, рождаясь из спора, имеют характер волевых утверждений. Они отличаются в этом смысле от теоретического познания и психологически сближаются с тем, что носит название «убеждения»[197 - Ср. Schelling. Philosophie der Mythologie, II, 104: «Dogma bedeutet bekanntlich, wie das lateiniche decretum, das ja ebenfalls von Behauptungen, von Lehrs?tzen gebraucht wird, einen Entschluss und dann erst eine Behauptung. Dogma ist etwas, das behauptet werden muss, dass sich also ohne einen Widerspruch (einen Gegensatz) nicht denken l?sst». Как латинский декрет нуждается в доказательствах и научных обоснованиях, так и догмат сначала надо обсудить, а потом утвердить. Догмат есть нечто утвержденное, не допускающее по отношению к себе никакого противоречия (антагонизма).]. Формы, в которые они облекаются, их логические одежды, заимствуются из господствующей философской доктрины: так, напр., – конечно, не без особой воли Божией, – в истории христианской догматики весьма ощутительно и благотворно сказывается влияние эллинской философии. Однако отсюда никоим образом не следует, чтобы они порождались ею (как полагает Гарнак и др). Вера в Воскресение Христа, «эллинам безумие, иудеям соблазн»[198 - 1 Кор. 1:23.], как главная тема христианской проповеди, могла явиться только из полноты религиозного откровения, как «миф» в положительном значении этого слова, и лишь в дальнейшем из этого зерна выросла система догматов учения церкви. Догмат есть имманентизация трансцендентного содержания религии, и это влечет за собой целый ряд ущербов, опасностей, подменов; при этой логической транскрипции мифа неизбежно зарождается схоластика (или «семинарское богословие»), т. е. рационалистическая обработка догматов, приноровление их к рассудочному мышлению, при котором нередко теряется их подлинный вкус и аромат, а «богословие» превращается в «науку как все другие», только с своим особым предметом. Правда, эти другие науки, гордые своим имманентно-опытным происхождением, все время косятся на бедную родственницу, видя в ней приживалку, да и самому богословию не дешево обходится это положение в свете. Нельзя, впрочем, отрицать, что и в этой «научной» работе богословия есть известная польза инвентаризации и своя честность Марфы, которая перестала уже быть Марией[199 - Сестры Лазаря, известные по евангельскому рассказу о посещении Иисусом Христом Вифании. «Мария… села у ног Иисуса и слушала слово Его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: Господи! или Тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? скажи ей, чтобы помогла мне. Иисус же сказал ей в ответ: Марфа! Марфа! ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно; Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее» (Лк. 10:39–42).].
Между живым религиозным мифом-догматом и его догматом-формулой имеется поэтому заведомое несоответствие, подобное тому, какое существует между каталогом художественного хранилища и произведениями, в нем перечисленными, или программой концерта и самим музыкальным исполнением. Несоответствие это есть следствие не только невыразимости в слове полноты религиозного переживания, но и общей неадекватности понятий тому, что они призваны здесь выражать. Ибо понятиями, возникающими в результате применения категории дискурсивного мышления, в предположении пространственности и временности, здесь условно выражаются сущности мира иного. О Боге приходится говорить в числовых, временных, пространственных определениях, принадлежащих нашему эмпирическому миру. Бог – един, Бог – троичен в лицах: единица, три суть числа, подлежащие всей числовой ограниченности (помощью единицы совсем нельзя выразить единого Божества, ибо единица существует лишь во множественности, и три в св. Троице суть совсем не три в смысле счета: раз, два, три или один – один – один, или один – два). Число выражает здесь то, что есть сверхчисло и сверхвеличина, время – то, что есть сверхвремя, вечность, и пространство – то, что сверхпространственно, повсюдно. Для многих эта заведомая неадекватность категорий разума предмету религии служит мотивом догматического агностицизма (Кант и его школа). Но это соображение имело бы силу лишь в том случае, если бы догматические понятия были непосредственным орудием религиозного познания; для такой цели понятия были бы, конечно, негодным средством. Бог недоступен разуму как предмет познания, есть для него Ding an sich, находится вне досягаемости для его категорий. Но догматы и не притязают на это, они лишь констатируют факт откровения, уже совершившегося в религиозном мифе, и только переводят на язык понятий его содержание. Опытное происхождение догмата, своего рода религиозный эмпиризм, делая догмат неуязвимым для критики рассудочного познания, в то же время ведет к тому, что его выражение в понятиях порождает противоречия и нелепицы с точки зрения рассудочного мышления. Не таковы ли почти все основные догматы христианства, и недаром их с таким презрением и негодованием отвергают те, кто рассудочную проверку считают высшим и единственным критерием религиозной истины: пример налицо – Л. Толстой. Его рассудочная критика догматического богословия неотразима, если признать здесь рассудок высшим судьей, но обращается в прискорбное недоразумение, если эту посылку отвергнуть.
Догматика получает от религии сырую массу догматов, которую ей предстоит насколько возможно ассимилировать, классифицировать, систематизировать. Стремление разума к единству, его «архитектонический» стиль, «схоластические» наклонности (ведь схоластика есть в известном смысле добродетель разума, его добросовестность, – разум и должен быть схоластичен) ведут к тому, что этой догматической массе придается та или иная, большей частью внешняя, из потребностей педагогических возникающая система: таким образом получается то, что представляют собой «догматические богословия», «системы догматики», «summae theologiae»[200 - «Сумма теологии» – главный трактат Фомы Аквинского, в котором излагаются основы католической теологии. «Сумма» (от лат. summa – итог) – жанр схоластической философской литературы.]. Однако если именно таково отношение догматики к мифике, то возможно спросить себя, какую же цену имеет такая рассудочная инвентаризация сверхрассудочных откровений? Нужны ли вообще догматика и догматы? Не есть ли догматизирование скорее болезнь религии, ржавчина, на ней образующаяся, и не нужно ли объявить во имя религии войну догмату? Можно ли выразить неизреченное, да и нужно ли выражать? Не лились ли реки крови из-за догматов, не раздиралась ли церковь из-за йоты?[201 - Имеется в виду многовековой спор ариан, противопоставлявших принцип «подобносущности» Бога-Отца и Бога-Сына принципу «единосущности», который был провозглашен в Никейском символе веры. Подробнее см.: Болотов В. В. Лекции по истории древней церкви: В 6 т. Т. 4: История церкви в период вселенских соборов. Пг., 1918. С. 72–85.] Таковы популярные возражения против догмата, религиозные, философские, житейские. Насколько они исходят из равнодушия и душевной лени, с ними можно не считаться: разумеется, покойнее и проще жить, не интересуясь предметами веры, даже истолковывая это свое равнодушие как превосходство. Кто не имеет убеждений, кто не исповедует никакой истины, которую он чувствовал бы себя обязанным отстаивать всеми силами души своей, тот всегда будет противником догмата, относясь с эпикурейским легкомыслием к «фанатизму» догматиков. С этим адогматизмом людей беспринципных и равнодушных не о чем разговаривать: они ниже догмата и ниже религии, и, хотя в силу количественного своего преобладания они задают теперь тон в общественном мнении, за ними не стоит ни духовной мощи, ни идейного содержания. Другие отвергают догмат во имя религиозного целомудрия: им кажется, что выраженная в догматической формуле вера не есть уже вера, как и «мысль изреченная есть ложь»[202 - Цитата из стихотворения Ф. И. Тютчева «Silentium!» (1830) (Тютчев Ф. И. Соч.: В 2 т. М., 1980. Т. 1. С. 63).]. Но они забывают, что если в известном смысле и верно это изречение, то справедливо и обратное: неизреченное не есть мысль, а потому не может стать истиной и отрицанием лжи. Все, что переживается нами в душевной жизни, становится мыслью, проходит чрез мысль, хотя не есть только мысль и никогда без остатка не выражается в слове. Религиозное переживание, в своей полноте потрясающее все наше существо, а не одну только мыслительную его природу, неизбежно проходит и чрез мысль, стремится выразиться в слове. Всякое переживание Бога необходимо порождает и соответственную мысль о Боге, хотя никогда оно не бывает только мыслью. Миф в полноте своей не есть мысль, как не есть мысль и символика художественного произведения, однако он просится и в мысль, и становится мыслью, облекаясь в слово. Неизреченность не есть синоним бессловесности, алогичности, антилогичности, скорее наоборот, она-то и есть непрерывная изрекаемость, рождающая словесные символы для своего воплощения. Без этого же порождения она есть невоплотившаяся мысль, нечто недоношенное, мысли не превышающее, но не досягающее. И как ничто не может укрыться от лучей солнца, так же ничто не может укрыться и от света разума. Всякое переживание одной стороной есть и мыслительное. Все делается предметом мысли, и в этом смысле все есть мысль, все есть слово, имеет печать ипостаси Логоса. В этой истине, хотя и искаженной односторонностию, заключается правда Гегеля. И эта мыслимость всего сущего, нисколько не противоречащая его недомыслимости, есть имманентная норма жизни духа, и ее не могут нарушить даже и те, кто на словах ее отвергают, ибо и агностицизм всегда есть уже некоторый догматизм, некоторое положительное догматическое учение о Боге, хотя бы и минимального содержания. Мысль первее нашего разума, «в начале бе Слово», и хотя наш теперешний разум вовсе не есть нечто высшее и последнее, ибо он может и должен быть превзойден, но превзойти мысль уже невозможно – она есть онтологическое определение космического бытия, соответствующее второй божественной ипостаси Логоса: «вся тем быша, и без него ничто же бысть, еже бысть» (Ио. 11:3).
Поэтому малодушному и малосознательному, но по-своему тоже догматическому адогматизму мы противопоставляем сознательный (и в этом смысле «критический») и принципиальный догматизм. Религиозное переживание несовершенно, незаконченно, пока оно не выразилось и слове, миф не отчетлив, пока из него не родилась мысль. Ибо только в мысли, в слове религиозное переживание получает определенность, преодолевается сентиментальная расплывчатость (Шлейермахер), и мифу придается последняя чеканка; лишь в мысли и через мысль сознается окончательно его объективность и кафоличность. Поэтому догматы составляют драгоценное богатство религии, ее «высказанное слово», ????? ??????????. Религиозное сознание естественно и неудержимо стремится к догмату, и разве искание догмата, «составление убеждений», «поиски миросозерцания», не составляют предмета постоянной тревоги и стремлений всякой живой души, которая не может удовлетвориться духовной недоношенностью, аморфной неизреченностью чувства? И отсюда не составляют исключения не только скептические пирронисты[203 - Последователи древнегреческого философа Пиррона (IV – нач. III в. до н. э.), основателя скептической школы. В систематическом виде взгляды Пиррона изложены Секстом Эмпириком в «Трех книгах пирроновых основоположений» (Секст Эмпирик. Сочинения. М., 1976. Т. 2. С. 207–380).] или кантианцы (как бы ни была скудна их догматика), но и как будто антидогматические «мистики»: об этом свидетельствуют их писания, в которых обычно мы находим более или менее выявленную мистическую систему, т. е. совокупность «догматов», да и возможно ли передать словом то, что совершенно чуждо мысли? Объективный, кафолический характер религиозного переживания, отличающий его от музыки одних лишь настроений, от субъективности с ее психологизмом, именно и требует догматической кристаллизации. Кафолическая природа догмата, в частности, обнаруживается и в том, что лишь в слове и через слово религиозное переживание может быть первично сообщено другим людям, благодаря чему и возможна проповедь религии, «служение слова». Не онеметь в сладкой истоме мистического переживания, но проповедовать и учить повелевает мужественная и суровая природа догмата: «шедше убо научите вся языки» (Мф. 28: 19), повелел Своим апостолам Воскресший. Савл, конечно, не мог до конца выразить в слове того, что пережил он на пути в Дамаск, но из этого неизреченного переживания в Савле родился ап. Павел, который немедленно же пошел на проповедь Христа Распятого, сделался первым христианским догматиком. И даже восхищенный на третье небо, он и там слышит глаголы, которые хотя и не могут быть сказаны на человеческом языке, однако принципиально суть все же «глаголы»[204 - См.: Деян. 9:1-20; 2 Кор. 12:2–5.].
На основании сказанного следует признать, что догматы суть богатство религии. Их положительное значение, которым искупается многовековая, приостанавливающаяся лишь в эпохи упадка религиозной жизни догматическая борьба, состоит в том, что догматы представляют собой как бы вехи, поставленные по пути правильно идущей религиозной жизни; нормального ее роста. Догматы суть иероглифы религиозных тайн, раскрывающихся лишь в религиозном опыте и в меру этого опыта. Они суть поэтому нормы и задания для этого опыта, не единоличные, но церковно-кафолические. Никогда нельзя сказать про человека, действительно прикоснувшегося к церковной жизни, что для него догматы суть только учение или рациональные схемы, логические символы, ибо прикосновенность эта именно и означает реальную встречу Бога с человеком в живом личном опыте, личное мифотворчество. Из этого опыта, всегда частичного, но допускающего неопределенный и безмерный рост, почерпается общее указание, что догматы действительно свидетельствуют о религиозных реальностях, следовательно, показуют истинный путь. Никто и никогда не может сказать про себя, что в личном достижении своем вместил всю полноту церковного опыта, намеченную в догматах, но и никто не может прикоснуться к церковной жизни вне своего личного опыта, хотя бы и минимального. Потому церковное богатство догматов, как задача, всегда превышает наличность религиозного опыта, но в то же время и всегда в него входит, его определяет. Отсюда проистекает первостепенное регулятивное значение догматики и педагогическое значение обучения истинам веры, в какой бы форме оно ни совершалось. Таким образом устраняется кажущееся противоречие между личным характером религиозного опыта, устраняющим извне принудительно данную догматику (ибо догматика не геометрия), и объективной системой догматов, в которой выражается сверхличное (и как будто безличное), кафолическое, сознание церкви. Противоположная точка зрения, отрицающая догматику под предлогом личного религиозного опыта, отвергает в корне соборность ради религиозного индивидуализма, анархизма, импрессионизма. В понятии догмата диалектически соединены, таким образом, оба момента: начало личное и сверхличное, внутреннее и внешнее, свободы и авторитета, знание и вера. Таким образом установляется принципиальная возможность и даже необходимость «символа веры»[205 - Краткое изложение основ вероучения, главных догматов какой-либо религии. Христианский символ веры был принят на Никейском вселенском соборе (325 г.), затем дополнялся на Константинопольском соборе (381 г.). В католицизме символ веры пересматривался и редактировался на Тридентском соборе (1545–1563).], для всех членов Церкви общего и обязательного.
7. Религия и философия
Догмат есть сигнализация понятиями того, что не есть понятие, ибо находится выше логического мышления в его отвлеченности; в то же время он есть формула, выраженная в понятиях, логическая транскрипция того, что дано в религиозном опыте. Поэтому догмат, входя в мышление, является ему иноприродным и в этом смысле трансцендентным дискурсивному мышлению, не есть его вывод и порождение. Догмат нарушает, вернее, не считается с основным требованием логической дискурсии (с такой отчетливостью формулированным Г. Когеном), именно с непрерывностью в мышлении (Kontinuit?t des Denkens), которая опирается на порождении им своего объекта (reiner Ursprung[206 - Чистое первоначало (или первоисточник) (нем.) – одно из основных понятий в философии Г. Когена, обозначающее тот или иной исходный элемент, на основе которого формируется все достояние мышления. Таким исходным элементом для Когена является понятие бесконечно малого.]). Мышление само создает для себя предмет и проблему. Трудность философской проблемы догмата и состоит в этой противоречивости его логической характеристики: с одной стороны, он есть суждение в понятиях и, стало быть, принадлежит имманентному, самопорождающемуся и непрерывному мышлению, а с другой – он трансцендентен мысли, вносит в нее прерывность, нарушает ее самопорождение, падает, как аэролит, на укатанное поле мышления.
Пред нами встает во всей трудности вопрос об отношении философии и религии. Возможна ли и в каком смысле возможна религиозная философия? Совместим ли догматизм религии с священнейшим достоянием философствования, его свободой и исканием истины, с его правилом – во всем сомневаться, все испытывать, во всем видеть не догмат, л лишь проблему, предмет критического исследования? Где же здесь место философскому исканию, если истина уже дана в виде догмата – мифа? Где место свободе исследования, если для него руководящей нормой является верность догмату? Где место критике, если царствует догматика? Таковы предубеждения против религиозной философии, благодаря которым и самый вопрос о возможности религиозной философии, или, что то же, философской догматики, чаще всего разрешается отрицательно (по этому случаю иронически припоминается формула схоластики: philosophia est ancilla theologiae[207 - Философия – служанка богословия (лат.) – высказывание итальянского историка XVI в. Цезаря Барония.], причем ancilla неизменно понимается как serva – не слуга, подсобница и союзница, но раба).
Коренное различие между философией и религией заключается и том, что первая есть порождение деятельности человеческого разума, своими силами ищущего истину, она имманентна и человечна и в то же время она воодушевлена стремлением перерасти свою имманентность и свою человечность, приобщившись к бытию сверхприродному, сверхчеловечному, трансцендентному, божественному; философия жаждет истины, которая есть главный и единственный стимул философствования. Философская идея Бога (какова бы она ни была) есть во всяком случае вывод, порождение системы и esprit de Systeme[208 - Дух системы (фр.)], существует лишь как момент системы, ее часть. Философски Бог непременно определяется и доказывается на основании системы, ее строения, ее развития. «Доказательства» бытия Божия, каковы бы они ни были, все от философии и лишь по недоразумению попадают в догматическое богословие, для которого Бог дан и находится выше или вне доказательств; в философии же, для которой Бог задан как вывод или порождение системы, идея о Нем приводится в связь со всеми идеями учения, существует лишь этой связью. И логическое место Божества в системе определяется общим характером данного философского учения: сравните с этой точки зрения хотя бы систему Аристотеля с его учением о божественной первопричине – перводвигателе, с не менее религиозной по общему своему устремлению системой Спинозы, или сравните Канта, Шеллинга, Фихте, Гегеля в их учениях о Боге.
Для философии Бог есть проблема, как и все для нее есть и должно быть проблемой. В своем принципиальном проблематизме она свободна от данности Бога, от какого бы то ни было чисто религиозного опыта; она исследует, сомневается, вопрошает: dubito, cogito, deduco! Разумеется, философия неизбежно стремится при этом к абсолютному, к всеединству, или к Божеству, насколько оно раскрывается в мышлении; в конце концов и она имеет своей единственной и универсальной проблемой – Бога, и только Бога, она тоже есть богословие, точнее – богоискание, богоисследование, богомышление. Философия, насколько она себя достойна, проникнута amor Dei intellectualis»[209 - Интеллектуальная (познавательная) любовь к Богу (лат.) – положение Спинозы (Этика, 4,5, корол. к теореме 32). См.: Спиноза Б. Избр. произв. М., 1957. Т. 1. С. 610.], особым благочестием мышления. Но для философии существует лишь отвлеченное абсолютное, только постулат конкретного Бога религии, и своими силами, без прыжка над пропастью, философия не может перешагнуть от «бога интеллектуального» и «интеллектуальной любви к нему» к личной любви к живому Богу. Amor intellectuales ведь в том и осуществляется, что предмет его становится проблемой для мысли; это есть пафос исследования. Проблематичность – такова природа всякого объекта философии; любовь выражается здесь в философском сомнении и рефлексии, в вопросительном знаке, поставленном над данным понятием и превращающем его в проблему. Самодостоверным основанием для философии, относительно которого она уже не имеет возможности сомневаться и далее проблематизировать, следовательно, уже принципиально не проблематичным, а догматичным (ибо догматичность и есть философская антитеза проблематичности), является, бесспорно, мышление: cogito – ergo sum[210 - Мыслю, следовательно существую (лат.) – одно из основных положений философии Р. Декарта.], говорит о себе философия. Мышление в его самодостоверности есть предмет веры для философии, мышление для нее достовернее Бога и достовернее мира, ибо и Бог, и бытие взвешиваются, удостоверяются и поверяются мышлением. Мышление есть Абсолютное в философии, тот свет, в котором логически возникает и мир, и Бог.
В этом своем проблематизме философия по существу своему есть неутолимая и всегда распаляемая «любовь к Софии»; найдя удовлетворение, она замерла бы и прекратила бы свое существование. Предмет ее стремления находится за пределами ее обладания, есть «ewige Aufgabe»[211 - Вечная проблема (лат.). Источник выражения указан С. Н. Булгаковым в «Философии хозяйства». М., 1940. С. 19–20 (Cohen H. Logik der reinen Erkentniss. 1902).] (Г. Коген). И это, прежде всего, потому, что Истина вовсе не есть та теоретическая истина, которой ищет философия. Истина в божественном своем бытии есть и «Путь и Живот»[212 - Слова Иисуса Христа: «Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин. 14:6).]. Как жизнь, она есть неизреченная и не разложимая ее полнота. Истина, как высшая действительность, есть тем самым и Добро и Красота в неразрывном триединстве Жизни. Бог есть Истина, но нельзя, однако, сказать, что истина есть Бог (Гегель); Бог есть Добро, но неверно, что добро есть Бог (Кант); Бог есть Красота, но несправедливо, что красота есть Бог (Шиллер, Гете). Истина как предмет теоретической спекуляции не есть уже живая истина, это есть лишь один ее аспект, «отвлеченный» о: неразложимого единства. Сама Истина тражцендентна философии, которая знает лишь ее отблеск, ее аспект – истинность, как вечное искание Истины. Нахождение, живое приобщение к Истине явилось бы тем самым и преодолением философии, ибо сама философия проистекает из той расщепленности бытия, его неистинности, при котором мышление оказывается обособленной областью духа, – «отвлеченным».
Если же философии реально доступна не истина, а лишь истинность, теоретическая причастность сверхтеоретической Истине, этим установ?II ястся не только происхождение ее из греховной расщепленности бытия, но и реальная связь с этой Истиной, которая открывается в философии и говорит философствующему разуму на языке, ему доступном. В основе подлинного философствования лежит особого рода откровение, «умное видение» идей, как это навсегда возвещено о философии Платоном. Основные мотивы философствования, темы философских систем не выдумываются, но осознаются интуитивно, имеют сверх-философское происхождение, которое определенно указывает дорогу за философию. По своей интуитивной основе философия сближается с искусством, интуитивная природа которого не вызывает оспаривания, философия есть искусство понятий. Философствование есть рефлексия разума на осознанные, в качестве истинных, его узрения, играющие роль исходных аксиом, а вместе и объектов рефлексии, критического исследования, анализа, доказательства. Основные идеи философии не измышляются, но родятся в сознании, как семена, как зародыши будущих философских систем. Дневное сознание философа оплодотворяется ночными трезами сновидца. Философии тоже не чуждо своеобразное логическое мифотворчество, и в основе действительно оригинальных, творческих философских систем всегда лежит – horribile dectu[213 - Страшно произнести (лат.).] – философский миф. Мифотворческий характер философии открытое выражение находит у Платона, который с соблазнительным для философов безразличием и как будто с преднамеренной беспорядочностью от вершин диалектического исследования переходит к мифу и даже самые основные свои идеи нередко выражает мифом, предоставляя комментаторам решать вопрос, как следует относиться к такого рода изложению, серьезно ли Платон говорит или шутит. Такая манера применяется им но всех почти важнейших диалогах зрелого периода (исключение составляют, кажется, только «Парменид», «Филеб» и «Софист»); напряженнейшая философская спекуляция у него сменяется мифом, отнюдь не занимающим случайное место в качестве литературного орнамента, но играющим определенную роль в развитии мысли, – иногда в форме мифа высказываются самые основные утверждения, имеющие значение необходимого аргумента. (Напомним учение об Эросе в «Пире», о сотворении мира в «Тимее» и «Политике», о небесном происхождении души в «Федре», о загробной жизни в ряде эсхатологических мифов н «Государстве», «Горгии» и др., о бессмертии в «Федоне».) Эта парадоксальная черта Платона составляет настоящий «скандал в философии», с которым каждый справляется по-своему, причем чаще всего мифы отметаются с брезгливой или снисходительной гримасой. Между тем нельзя понять и принять Платона иначе, как смотря прямо в лицо этому факту. Дело в том, что у Платона соединены неразрывно, прикрыты одним куполом чистое философствование и догматическое богословие: Платон все время остается одновременно – и в этом-то и состоит парадоксальность его философского образа – мифологом и философом, догматиком и критицистом, между тем как те, которые держатся за тогу основателя Академии, пугливо или брезгливо отмахиваются от всего «мифического».
На основании сказанного о философии и мифологии легко дать общий ответ на вопрос: кто же был Платон и как понимать его двойственность? Он был философствующим богословом, т. е. догматиком, мифологом, для которого излагаемые им мифы представляли различной ценности, точности и бесспорности богословские истины. Платон относился к излагаемым им мифам совершенно серьезно и с верою, вот что надо констатировать со всею откровенностью. Но по поводу истин, возвещаемых в этих мифах, и в связи с ними Платон еще и философствовал, и эти-то куски его ??? ???????????[214 - Букв.: ученая беседа, диалог (греч.) – основной жанр философских сочинений Платона.] и составили ту сокровищницу платонизма, которую все более научается ценить и наше время. Поэтому у Платона совершенно отсутствует система и esprit de Systeme, и потому же он отец свободной философской диалектики. Платон не систематичен, но тематичен и диалектичен, отсюда проистекает и фрагментарность его философствования, ибо каждый его диалог, при всем своем художественном совершенстве и музыкальной форме, для системы философии есть только фрагмент, этюд, статья, не более, без потребности в закруглении, в сведении концов с концами в единой целостной системе, к которой у Платона не намечается даже попытки и вкуса. Платон – философский essay-ист, который не хочет системы, – любит философствование и не любит философии. Необыкновенно поучительно его сопоставить по типу философского творчества с Аристотелем. Хотя невозможно не видеть религиозного мотива философии и у последнего[215 - Это хорошо показано у Otto Gilben. Griechische Relieionsphilosonhie Leipzig, 1911. S. 356–456.], однако Аристотель совсем не является богословом, догматиком и мифологом. Аристотель – философ по преимуществу, Philosophus, как называли его в средние века, между тем как на «божественном» Платоне всегда лежал ореол чего-то вещего, таинственного, мистического. Если философствование Аристотеля и приводит его к учению о Боге, то это лишь вследствие логики его философствования, а не какой-либо мифотворческой предвзятости. Учение о Боге у Аристотеля есть по преимуществу вывод из его философии. В нем нет ни одной черты, логически не оправданной, так или иначе не доказанной. Рядом с мифотворцем Платоном Аристотель есть представитель чистой философии, с ее стремлением к системе, архитектонической законченности, имманентной непрерывности рационального мышления. И Бог у Аристотеля есть только философская идея, постулат Божества, «доказательство бытия Божия», вне всякого личного к Нему отношения.
И самое учение Платона об идеях как основе познания может быть понято как учение о мифической структуре мысли, миф, касание трансцендентного, «умного бытия», предшествует логически, дает основу для отвлеченного рационального познания[216 - Cp. свящ. П. Флоренский. Сущность идеализма. Сергиев Посад, 1915 (отд. оттиск из юбилейного сборника Московской Духовной Академии). Его же. Общечеловеческие корни идеализма, 1909.]. Все знание у Платона, таким образом, мифологизируется, подчиняется мифотворчеству, которому доступно ведение трансцендентных идей. Истолкование учения Платона об идеях в смысле мифотворчества проливает свет на самую центральную и темную проблему платонизма, которая так остро поставилась в современном исследовании (Наторп, Н. Гартман и вообще Марбургская школа[217 - Имеются в виду прежде всего работы П. Наторпа «Platos Ideenlehre. Eine Einfuhrung in den Idealismus» (Leipzig, 1903), «?ber Platos Ideenlehre» (Berlin, 1914) и Н. Гартмана «Platos Logik des Seins» (Giessen, 1909). Из работ других неокантианцев Марбургской школы следует назвать исследования Г. Когена «Platos Ideenlehre und die Mathematik» (Marburg, 1879). Критический анализ неокантианского («трансцендентального») понимания платоновской идеи см. в книгах А. Ф. Лосева: Очерки античного символизма и мифологии. М., 1930. Т. 1.С. 677–679; Античный космос и современная наука. М., 1927. С. 51&-522.]): следует ли идеи Платона понимать в трансцендентально-критическом смысле, как формальные условия познания и его предельные грани (кантовские идеи), или же в трансцендентно-метафизическом смысле? Что такое платоновский «анамнезис»[218 - Учение о познании как припоминании («анамнезисе») Платон развивает в диалогах «Менон» (81Ь-86с), «Федон» (72е-76е), «Федр» (250 b-d).]? Разумеется ли здесь формально-логическое a priori, проявляющееся в каждом отдельном акте познания, или же это есть действительное припоминание о мифотворческом ведении, причем второстепенное значение для разрешения этого вопроса имеет вопрос, когда произошла встреча с трансцендентным: в этой ли жизни или за ее пределами?
Если сказанное об интуитивных корнях философии справедливо, постольку можно и должно говорить и о религиозных корнях философии, а также и об естественной и неустранимой связи философии с религией. Однако и при этом сродстве остается коренное различие между философией и религией. Последняя основывается на откровении трансцендентного, на переживании Божества. Это переживание качественно иное, нежели в философии, ибо оно существует не в виде теоретических постижений, но в своей конкретности, как жизненное восприятие, опыт, и выражением этого опыта являются догматы. Откровения же философии суть для нее лишь темы и проблемы, ранее критического исследования не имеющие никакой философской значимости. Религиозная значимость догмата не зависит от проверки: он дан в своей достоверности. Религиозную достоверность не может заменить никакое философствование, которое может доказывать только мыслимость, возможность, даже логическую необходимость Божества, но не дает самого переживания, как никакая теория солнца не заменит мне его луча, подействовавшего на мое зрение и осязание. Философия и религия поэтому никогда не могут заменять одна другую или рассматриваться как последовательные ступени одного и того же процесса. Здесь мы снова сталкиваемся с своеобразным и представляющим огромный принципиальный интерес учением Гегеля о взаимоотношении философии и религии[219 - Hegel's Religionsphilosophie (цит. по изд. Diederichs, под ред. Артура Древса).].
Для Гегеля вообще нет сомнения в том, что Бог, предмет религии, составляет и единственно достойный предмет для философии[220 - Ср · Hegel's Encyclop?die der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse. I Th. Logik (W. W., VI, 2-te Aufl.). S. XXI–XXII, 3 и др.]. «Предмет религии, как и философии, есть вечная истина в самой ее объективности: Бог и ничто кроме Бога и изъяснения Бога. Философия не есть мудрость мира, но познание не-мирового (Nichtweltlichen), не познание внешней меры, эмпирического бытия и жизни, но знание того, что вечно, что есть Бог и что проистекает из его натуры… Философия изъясняет поэтому лишь саму себя, изъясняя религию, а изъясняя себя, она изъясняет религию. Как занятие вечной истиной, существующей an und f?r sich[221 - В себе и для себя (нем.).], именно как занятие мыслящего духа, а не произвола или особого интереса к этому предмету, она есть та же самая деятельность, как и религия… Религия и философия совпадают воедино. Философия есть в действительности богослужение, есть религия, ибо она есть такой же отказ от субъективных прихотей и мнений в занятии Богом (Besch?ftigung mit Gott)» (Religionsphilos., 7)[222 - Ср.: Гегель. Философия религии. М., 1975. Т. 1. С. 219–220. «Познание немирового (Nichtweltlichen)» в современном переводе передано как «познание немирского» в том смысле, в каком в Новом Завете «мудрость века сего» противопоставляется «премудрости Божией» (1 Кор. 2:6–7).]. Философия религии относится к общей системе философии таким образом, что «Бог есть результат других ее частей. Здесь этот конец становится началом» (12)[223 - Ср.: Гегель. Философия религии. М., 1975. Т. 1. С. 225.]. «Философия рассматривает, следовательно, абсолютное, во-первых, как логическую идею, идею, как она существует в мысли, как ее содержанием являются сами определения мысли. Далее абсолютное обнаруживается в своей деятельности, в своих продуктах; и это есть путь абсолютного стать для себя самого духом. Таким образом, Бог есть результат философии, о котором познается, что это есть не только результат, но и вечно воспроизводит сам себя, есть происходящее»[224 - Ср. там же. С. 224–225.].;
Различие между «положительной» религией и философией принципиально стирается в глазах Гегеля потому, что «не могут существовать два разума и два духа, не может существовать божественный разум и человеческий, божественный дух и человеческий, которые были бы совершенно различны между собою. Человеческий разум, сознание своей сущности есть разум вообще, божественное в человеке, а дух, насколько он есть дух Бога, не есть дух над звездами, за пределами мира, но Бог присутствует вездесущно и как дух во всех духах. Бог есть живой Бог, который деятелен и действен. Религия есть порождение божественного духа, не изобретение человека, но дело божественного воздействия и влияния на него.
Выражение, что Бог правит миром как разум, было бы неразумно, если бы мы не принимали, что оно относится и к религии и что божественный дух действует в определении и образовании последней… Чем более человек заставляет в разумном мышлении действовать за себя самое дело, отказывается от своей обособленности, относится к себе как к всеобщему сознанию, его разум не ищет своего в смысле особного, и тем менее может он впасть в это противоречие, ибо он, разум, и есть самое дело, дух, божественный дух» (17)[225 - Ср. там же. С. 230.]. (Ср. справедливое критическое замечание по поводу этого суждения у А. Древса: прим. 3, стр.398.) Если в разуме мы имеем непосредственно Бога, то «разум есть то место в духе, где Бог открывается человеку» (24)[226 - Ср. там же. С. 239.], «почва, на которой религия единственно чувствует себя дома» (120)[227 - Ср. там же. С. 366.], «почва религии есть разумное, точнее, спекулятивное» (ib). «Религия существует только через мышление и в мышлении. Бог есть не высшее ощущение, но высшая мысль» (38)[228 - Ср. там же. С. 253.]. В этом смысле понимается и идея «откровения» и «откровенной» религии: «откровенная (geoffenbarte) религия есть очевидная (offenbare), ибо в ней Бог стал вполне очевидным. Здесь все сообразно понятию: нет ничего тайного в Боге»[229 - Мысль о том, что в Боге нет тайны, что Он вполне познаваем, встречается не раз на страницах гегелевой философии религии: стр.334, 335–336.] (48)[230 - Ср. там же. С. 271: «Религия откровения есть открытая религия, потому что в ней Бог полностью открыл себя. Здесь все соответствует понятию, в Боге нет больше ничего тайного».].
По сравнению с мышлением низшею формою религиозного сознания является то, что обычно зовется «верою» и что Гегель характеризует как знание в форме «представления» (Vorstellung): на ней лежит печать субъективности, непреодоленной раздвоенности субъекта и объекта. «Представление обозначает, что данное содержание есть во мне, мое» (66)[231 - Ср. там же. С. 293.]. «Вера есть постольку нечто субъективное, поскольку необходимость содержания, доказанность называют объективным, – объективным знанием, познанием» (67)[232 - Ср. там же. С. 295.]. И так называемое «непосредственное знание есть не что иное, как мышление, взятое лишь совершенно абстрактно» (69)[233 - Ср. там же. С. 297.]. Непосредственное знание о Боге может говорить только, что Бог есть. Но так как бытие, по определению «Логики», есть «всеобщность в пустом и абстрактнейшем смысле, чистое отношение к себе без всякой реакции внутри и снаружи» (70)[234 - Ср. там же. С. 298.], то «эта тощая непосредственность, которая есть бытие, вершина сухой абстракции, есть самое пустое, скудное определение» (ib). (Очевидно, насколько сила этого аргумента связана с прочностью Логики Гегеля: центральный вопрос о природе и содержании веры решается справкой с параграфом о «бытии»!) Отсюда заключает Гегель, что и «самое скудное определение непосредственного знания религии… не стоит вне области мышления… принадлежит мысли» (70)[235 - В прим. 39 (стр. 419) А. Древе справедливо замечает: «Гегель забывает здесь, что бытие логики обозначает только чистое понятие бытия, а не самое это бытие, что утверждение: Бог есть всеобщее, может обосновать лишь логическое, идеальное, но не реальное бытие Божие».][236 - Ср. там же. С. 299.].
Основная мысль Гегеля о различии между религией и философией состоит, как мы уже знаем, в том, что «религия есть истинное содержание, но только в форме представления» (94)[237 - Ср. там же. С. 324.], «представление мое есть образ, как он возвышен уже до формы всеобщности мысли, так что удерживается лишь одно основное определение, составляющее сущность предмета и предносящееся представляющему духу» (84)[238 - Ср. там же. С. 314–315.]. В представлении абстракция борется с образностью, «чувственное лишь путем абстракции возводится к мышлению» (86)[239 - Ср. там же. С. 316.], и в этой двойственности и противоречивости заключается необходимость перехода к философии, которая то же самое дело, что и религия, делает в форме мышления, тогда как «религия, как, так сказать, непроизвольно (unbefangen) мыслящий разум, остается в форме представления»[240 - Ср. там же. С. 357.]. Только в мышлении достигается «то тожество, при котором знание полагает в своем объекте себя для себя», оно «есть дух, разум, опредмеченный для самого себя» (121). «Таким образом, религия есть отношение духа к абсолютному духу. Лишь таким образом дух, как знающий, становится и познанным. Это есть не только отношение духа к абсолютному духу, но сам абсолютный дух относит себя к тому, что мы положили на другой стороне как различие; и выше религии есть, стало быть, идея духа, который относится к самому себе, есть самосознание абсолютного духа… Религия есть знание абсолютного духа о себе чрез посредство конечного духа[241 - Недаром Гегель сочувственно цитирует своего мистического предшественника в имманентизме Мейстера Эккегарта: «Das Auge, mit dem mich Gott sieht, ist das Auge, mit dem ich ihn sehe, mein Auge und sein Auge ist eins. In der Gerechtigkeit werde ich in Gott gewogen und er in mir. Wenn Gott nicht w?re, w?re ich nicht, wenn ich nicht w?re, so w?re er nicht (139)200.]…» (121)[242 - Ср. там же. С. 367.] «Философия имеет целью познавать истину, познавать Бога, ибо Он есть абсолютная истина: постольку ничто другое не стоит труда по сравнению с Богом и Его изъяснением. Философия познает Бога существенно как конкретного, как духовную, реальную всеобщность, которая чужда зависти, но сообщает себя… И кто говорит: Бог непознаваем, тот говорит: он завистлив» (394). (Очевидна вся недостаточность этого аргумента, который скорее может быть приведен в защиту идеи откровения, нежели для подтверждения общей точки зрения Гегеля: для него Бог дан в мышлении, есть мышление, а при этом, строго говоря, некому и нечему открываться, и если сам Гегель и говорит об откровенной религии, то делает это по своей обычной манере пользоваться эмпирическими данными для нанизывания их на пан-логическую схему). «В философии, которая есть теология, единственно только и идет речь о том, чтобы показать разум религии» (394). «Все формы, выше рассмотренные: чувство, представление, могут, конечно, иметь содержанием истину, но сами они не составляют истинной формы, которая необходима для истинного содержания. Мышление есть абсолютный судия, пред которым должно удостоверять себя и управомочивать содержание. Философии делается упрек, что она ставит себя выше религии. Это уже фактически неверно, ибо она имеет только это же самое, а не иное содержание, лишь дает его в форме мышления; она становится, таким образом, выше формы веры; содержание остается тем же самым» (394). «Философия является теологией, поскольку она изображает примирение Бога с самим собой (sic!) и с природой» (395).
Отличительной особенностью философской и религиозной точки зрения Гегеля является то, что мышление совершенно адекватно истине, даже более, есть прямо самосознание истины: мысль о божестве, само божество и самосознание божества есть одно и то же. Человеческое сознание в объективном мышлении не только перерастает себя, но вполне себя трансцендирует, становится не человеческим, а абсолютным. Всякая напряженность имманентного и трансцендентного, познающего и познаваемого, человека и божества, «снимается», преодолевается божественным монизмом, свободным от обособления мира и человека: логика – это «Бог всяческая во всех». Очевидно, что философия, таким образом понятая, перестает уже быть философией, а становится богодейством, богобытием, богосознанием. Это даже не есть и религия, ибо религия предполагает напряженный дуализм имманентного и трансцендентного, соответствует ущербленному, богоищущему и как бы богооставленному бытию. Нет, это сверхрелигия, то, что находится по ту сторону религии, когда религия упразднится. Интеллектуалистически истолковывая религию, Гегель берет ее лишь как вид мышления, как плохое, недостаточное философствование, и в этом качестве, конечно, отводит ей низшее место за то, что она сознает истину лишь в виде «представления», т. е. дуалистического противопоставления субъекта и объекта, человека и божества. Панлогистический идеализм договаривает здесь до конца основную мысль субъективного идеализма: именно esse-percipi[243 - Esse «est» percipi (лат.) – существовать – значит быть воспринимаемым. Это положение впервые сформулировал Дж. Беркли в «Трактате о принципах человеческого знания» (1710). См.: Беркли Дж. Соч. М., 1978. С. 172.]. У Юма она имела субъективно-человеческое значение – «быть для человека», у Беркли получила истолкование как действие Божества в человеческом сознании; у Гегеля она была транспонирована уже на язык божественного бытия: мышление мышления – само абсолютное, единое в бытии и сознании[244 - К этим общим аргументам следует присоединить и то еще соображение, что если религия есть низшая ступень философского сознания, то она отменяется упраздняется за ненадобностью после высшего ее достижения, и только непоследовательность позволяет Гегелю удерживать религию, соответствующую «представлению», в самостоятельном ее значении, рядом с философией, соответствующей «понятию». На это указывает уже Гартман (Philos. d. Rel., 85).]. Поразителен этот люциферический экстаз, которым по существу является пафос гегельянства: кроме самого Гегеля, кто может испытывать это блаженство богосознания и богобытия, переживая его Логику? Если сам он его действительно переживал, это есть, конечно, в высшей степени важный факт религиозной психологии, точнее, интересный религиозный психологизм. Одно из двух: или теоретическому мышлению в такой степени присущ аромат вечности, касание мира божественного, что его служитель чрез мышление подлинно осязал этот мир в его непосредственности (чего мы, говоря откровенно, не допускаем), или же, наоборот, мы имеем здесь пример крайнего доктринерства, приводящего к самоослеплению и самогипнозу, типичное состояние философической «прелести». Гегелевский логический пантеизм проистекает из основной особенности его мировоззрения, его крайнего интеллектуализма, благодаря чему ему и было суждено сказать последнее слово рационализма в форме идеалистической спекуляции. Так как мысль, мыслимость, мышление составляют, в глазах Гегеля, единственно подлинное бытие вся же алогическая сторона бытия, весь его остаток сверх мышления, представляет собой ряд недоразумений, субъективизм или, как теперь сказали бы, психологизм, то бытие для Гегеля подменяется и исчерпывается понятием бытия, а Бог мыслью о Боге. Вооруженный «диалектическим методом», в котором якобы уловляется самая жизнь мышления, он превращает его в своего рода логическую магию, все связывающую, полагающую, снимающую, преодолевающую, и мнит в этой логической мистике, что ему доступно все прошлое, настоящее и будущее, природа живая и мертвая. В действительности мы знаем, что эта философская дедукция земли и неба совершается посредством фактических позаимствований у эмпирического бытия, которое отнюдь не соглашается быть только понятием[245 - Совершенно справедливо замечает А. Древе в своих примечаниях к гегелевской философии религии: «Гегель отожествляет сознательное бытие не с сознательной стороной бытия (Bewusst-Sein) или идеальным бытием, но непосредственно с реальным и приходит, таким образом, к чудовищному утверждению, что можно посредством конечного, дискурсивного, сознательного бытия продумать процесс абсолютного, вечного, досознательного и сверхсознательного мышления непосредственно как таковой. Гегель забывает, что бытие логики обозначает только чистое понятие бытия, а не самое это бытие, что утверждение: «Бог есть всеобщее, может обосновать лишь логическое, а не реальное понятие Бога» (Anm. 39. S. 419).]. При всей ценности и плодотворности отдельных построений и замечаний Гегеля, его система может служить примером совершенного упразднения религии.
Для Гегеля философская достоверность выше религиозной, точнее, она составляет высшую ее ступень, находясь с нею в одной плоскости. Это мнение у Гегеля проистекает из общего его убеждения, что возможна абсолютная система, которая была бы не философией, а уже самой Софией, и именно за таковую почитал он свою собственную систему. Трагедия философствования в ней преодолена, рыцарь обрел свою Прекрасную Даму (если только по ошибке не принял за нее дородную Дульцинею), разум достиг преображения и исцеления от своих антиномий. Для Гегеля его система – это Царствие Божие, пришедшее в силе, и эта сила в мышлении, – это церковь в логической славе своей. В таком убеждении сполна обнаруживается люциферическая болезнь этого типа философии, и гегельянство есть в некотором роде предел для этого направления. В современном немецком идеализме эти же мотивы звучат скрыто и нерешительно, хотя неокантианский имманентизм, тоже устраняющий трагедию мысли, постольку есть робкое повторение Гегеля. Вообще «философия» в отвлеченном, а потому и притязающем на абсолютность понимания – рационалистический имманешизм в отрыве от цельности религиозного духа, есть специфически германское порождение, корни свои имеющее в протестантизме.
В действительности же, в противность Гегелю, религиозная достоверность существенно иная, чем философская, поскольку вера отлична от дискурсивного мышления, а мифологема от философемы. Поэтому даже неправильно ставить вопрос о том, которая из них выше или ниже, – они не сравнимы или же сравнимы лишь как разные виды достоверности. Конечно, для философии религия должна казаться ниже ее, как не-философия, но эта, так сказать, профессиональная оценка ничего не изменяет в иерархическом положении религии, которая имеет дело со всем человеком, а не с одной только его стороной, и есть жизненное отношение к божественному миру, а не одно только мышление о нем. Однако едва ли не существеннее различия является сродство и связь между философией и религией. Возвращаясь к нашей исходной проблеме – возможна ли религиозная философия и как она возможна, – мы должны настойчиво указать, что если действительно в основе философствования лежит некое «умное ведение», непосредственное, мистически-интуитивное постижение основ бытия, другими словами, своеобразный философский миф, хотя и не имеющий яркости и красочности религиозного, то всякая подлинная философия мифична и постольку религиозна, и потому невозможна иррелигиозная, «независимая», «чистая» философия. Последняя измышлена в наши дни людьми, которые хотя и «занимаются философией», изощряясь в философской технике, оттачивая формальное орудие мысли, но сами чужды философской тревоги или философского эроса и потому заменяет основные вопросы философского миросозерцания («метафизики») философской методологией и гносеологией. Как бы ни были сами по себе эти вопросы почтенны и важны, но, конечно, они одни еще не образуют философа. Насколько же при этом от вопросов технических восходят к общим и принципиальным, то и они подпадают тому же закону – религиозной окачествованности философии, хотя не всегда легко ее разглядеть[246 - Так, напр., нелегко под «чистой логикой» Когена увидать скрытое в ней острие неоюдаизма. На «иудаизм» как один из «корней» неокантианства Булгаков указывает также в «Философии хозяйства» (М., 1990. С. 96), ссылаясь при этом на речь Когена на V конгрессе свободного христианства в Берлине в 1910 г. См. также: Бердяев Н. А. Смысл истории. М., 1990. С. 74–75.]. Лишь при исследовании «научных» вопросов философии, т. е. того, что лежит еще за пределами самого философствования, может казаться, что философствование автономно и независимо от всякой внефилософской окачествованности; в основе же всегда окажется метафизическая предпосылка, представляющая собой лишь выражение интуитивного мироощущения. Таковы и гносеология и гносеологизирующая философия, это излюбленное детище современности, таково, в частности, и учение Канта, признанного «философа протестантизма». Если иметь в виду эту аксиоматическую или мифическую основу философствования, то философию можно назвать критической или идеологической мифологией, и излагать историю философии надо не как историю саморазвития понятия (по Гегелю), но как историю религиозного самосознания, поскольку оно отражается в критической идеологии.
Этими общими соображениями дается ответ и на более частный вопрос, именно: возможна ли религиозная философия определенного типа, напр, христианская (или даже частнее: православная, католическая, протестантская философия). Вопрос этот без всякого затруднения разрешается в утвердительном смысле. Ибо если вообще философия, сколь бы ни казалась она критичной, в основе своей мифична или догматична, то не может быть никаких оснований принципиально отклонять и определенную религиозно-догматическую философию, и все возражения основаны на предрассудке о мнимой «чистоте» и «независимости» философии от предпосылок внефилософского характера, составляющих, однако, истинные темы или мотивы философских систем. Разумеется, то или иное построение может быть удачно или неудачно, это вопрос факта, но плохая система христианской философии вовсе не свидетельствует о том, что и не может быть хорошей или что христианская философия вообще невозможна.
Главное опасение, которое рождается при этом у принципиальных ее противников, состоит в том, что здесь подвергается опасности, страдает свобода философского исследования и, так сказать, философская искренность, убивается, таким образом, главный нерв философии, создается предвзятость, заранее обесценивающая философскую работу. Однако достаточно ли считаются утверждающие это с фактом всеобщей интуитивной обоснованности, а следовательно, в этом смысле и неизбежной предвзятости философских систем? И не находятся ли они сами при этом в известном догматическом предубеждении? Ведь философствует-то человек в онтологической его полноте, а не фантастический «трансцендентальный субъект», который есть только регулятивная идея, разрез сознания, методологическая фикция, хотя, может быть, и плодотворная. И философствуют всегда на определенную тему, и только сознательная или бессознательная вражда к христианству заставляет исключать из числа возможных тем философствования христианские догматы. Но для философии эти догматы становятся именно только темами, мотивами, заданиями, проблемами, а в ней они должны стать выводом, конечным результатом философствования. С догматом, который сразу дан в принудительной законченности, нечего делать философскому мышлению, он его связывает; он должен быть с полной философской искренностью превращен в проблему философии, в предмет ее исследования.
С христианской философией упорно и настойчиво смешивают христианскую «апологетику» или догматику. Первая совершенно лишена философского эроса и quasi-философскими средствами стремится к достижению вовсе не философской, но религиозно-практической цели, почему она не философична, но полемична и прагматична по самому своему существу; догматическое же богословие вовсе не есть философское исследование догматов, даже если оно и пользуется в своем изложении философией, но есть лишь их инвентаризация. Если для философии догмат представляет terminus ad quern[247 - Конечный пункт (лат.).], то для догматики он есть terminus a quo[248 - Исходный пункт (лат.).]. Философия, как уже было указано, есть искусство понятий, которое имеет и своих художников, и в этом искусстве призванному ее служителю невозможно художественно лгать, что было бы неизбежно при преднамеренном, нефилософском догматизме в философствовании, – это было бы, прежде всего, проявлением дурного вкуса, эстетическим грехом. Охотно допускают, что христианский художник может быть искренен в своих художественных исканиях не менее, чем художник, не избирающий тем религиозных, почему же затрудняются допустить это же и относительно художника понятий, т. е. религиозного философа?