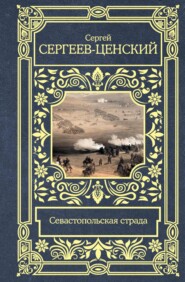По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Пристав Дерябин. Пушки выдвигают
Серия
Год написания книги
2015
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Зачем же такие подарки делать? – мягко говорил Кашнев. – И ты… (неловко вышло у него это первое «ты») ты меня ведь в первый раз видишь…
– Так что? Не пойму!
– И, наконец, что это за револьвер такой, бог его знает!
– Та-ак! – горестно протянул пристав. – Так и запишем…
Но вдруг, закусив губы и дернув широкими ноздрями, он крикнул:
– Культяпый!.. Я тебе его сам в кобур положу! – погрозил он Кашневу наганом; и когда появился Культяпый, он закричал ему, вращая красными белками: – Найди там кобур их благородия и привяжи это к шнуру, – понял?
Культяпый бережно взял револьвер и выскользнул с ним проворно, как мышь.
– Митя! – крикнул Дерябин, восторженно глядя на Кашнева. – Митя! Братишка мой был Митя, – от тифа помер… дай, боже, царства небесного… Друг! – он положил тяжелые руки ему на плечи. – Ради дружбы, ради знакомства нашего – сними ты это! – и он гадливо показал глазами на значок и передернул губами справа налево.
– Ну вот! Зачем это? – улыбнулся Кашнев.
– Не могу я этого видеть, – сними! Вынести этого не могу!.. И точно не офицер даже, а какой-то переодетый немец, черт его дери!.. Спрячь, Митя!
У огромного Дерябина стали вдруг умоляющие, немного капризные, детские глаза.
– Ведь тебе это ровно ничего не стоит, а мне… а меня это… по рукам-ногам вяжет, бесит! – страдальчески выкрикнул Дерябин и отвернулся.
Кашнев представил, как позапрошлой ночью в двух шагах в Дерябина стрелял студент, и понял что-то; пожал плечами и медленно отстегнул значок, повертел его в руках и положил в боковой карман.
– Друг! Митя! – заорал Дерябин. – У тебя ж сердце!.. Господи, – это ведь с первого взгляда видно!.. С одного взгляда!.. Со взгляда!..
И опять Кашневу стало тесно, трудно и жарко, и еще было ощущение такое, как будто кого-то он предал; но тут же прошло это. Было немного пьяно, перед глазами мутно. Скрипел и трещал спицами какаду.
IV
– Я – дворянин, милый мой! И горжусь своим дворянством, и своим офицерским чином, и своей службой в полиции! – клубился голос пристава, как дым кадильный.
Дерябин пил много и много ел, и теперь лицо его как-то начало отвисать книзу; и двойной подбородок, и толстая нижняя губа, и верхние веки, и короткие косички волос, прилипшие к потному лбу, – все как-то спустилось вниз.
– Я ведь тоже в гимназии был, а в университет не пошел… почему? – не хотел; пошел по военной службе. Что? Плохо я сделал? Не то?.. А я себя ломать не хотел, милый мо-ой! Любил скачки, охоту, песни, танцы, черт их дери, – женщин! Люблю женщин! Не одну какую-нибудь, а всех вообще… вот! Против натуры не хотел идти… В пограничной страже служил против Галиции на австрийской границе… А-ах, служба ж была занятная!.. Контрабандисты! Шельмы народ! Двутавровые волки! Ухачи!.. Из-за одного меня со службы турнули… Кутили мы там на фольварке у одного панка, польский мед пили, а тут взводный, дурак, мне: «Контрабандиста задержали, ваш-бродь, – что прикажете из им делать?..» Нет, ты вот рассуди, – не дурак? Что «из им» можно делать? Ну, отложи его куда-нибудь до утра, а то ночь, и мед этот чертов, и я пьян… «Повесить!» – говорю. «Слушаю», – и ушел. Так минут через двадцать приходит, – а у нас пьянство своим чередом, – в притолку уперся: «Так точно, говорит, повесили…» Что? Кого повесили?.. Мы уж и думать забыли!.. Как смели?.. Идем смотреть с фонарем. Висит действительно, факт! Какой-то, лет двадцати, глаза навыкат, зубы ощерены… Конец. Тты, черт! Преступление. Превышение власти. А уж утром тут из местечка родные этого прискакали… Что? Суда ждать?.. Я взял сам по начальству на себя донес. Сколько-то там дней, – от командующего войсками телеграмма: «Контрабандиста предать погребению, офицера увольнению, эпизод забвению». Я и подал в отставку.
– Этот анекдот я, кажется, слышал, – сказал Кашнев.
– Со мной случилось, а не анекдот! Факт, я вам говорю, – нахмурил безволосые брови пристав. – Но-о демократов, – этих я ненавижу!.. Своей службы в полиции не стыжусь, нет! А демократа, – я его знаю! Вполне-с!.. Он… корноухий (Дерябин хитро завернул пальцем правое ухо), у него что ни зуб, то щербина, оба глаза косят… хрромой!.. ррвотой через день страдает… регулярно, черт его дери! Он когда из маузера в упор в стенку стреляет, и то норовит не попасть… факт! Нет, ты если с носовым платочком идешь, так платочек этот чтоб чистенький, беленький, чтоб кружевами обшит, – ты! Ты его духами спрысни, чтоб пахло!.. Ты, если слабость, так без наряда ты, черт тебя дери, на улицу и носу не суй, если ты слабость, а то живо тебе хвост грязными сапожищами отомнут. Ты не вопи на перекрестке, – ты! Ты, черт тебя дери, человеком будь!
– Что ты? Что ты? Дикарь ты! Не то! – махнул рукою Кашнев и улыбнулся длинно. Он никогда не пил много водки и теперь размяк, одряхлел, и появилось в нем что-то женское.
– Не то? – крикнул Дерябин. – Плохо я говорю? Окончательно не то или не окончательно? А?.. Милый мо-ой! Ты себе представить не можешь, какая все в общем слякоть, дрянь! Ни тоски, ни радости, – так, дрянь одна!.. Ты вот… этого студента я… ты меня извини… примял немного… и не то чтобы я это… в пылу битвы, а так, – уж очень мерзко стало: из такого револьвера не попасть в двух шагах… Что я? Копейка? – черт его дери! Суется в волки, а хвост поросячий!.. В меня один цыган-конокрад стрелял на скаку – кокарду сшиб! Волосок бы еще, – и мое вам почтение, – свистульку в череп!.. На скаку! Двух урядников калеками сделал, пока самого убили… факт! Прошлым летом было… Митя, ты не юрист? – перебил вдруг себя Дерябин.
– Юрист, – ответил Кашнев, все больше хмелея.
– Правда? Юриста, брат, сразу видно: у него вид легкомысленный!.. Это я шутя, прошу простить и к сердцу не принимать. А в хиромантию ты веришь?.. Мне, брат, одна немка мои линии читала (Дерябин вытянул над столом здоровенную ладонь)… где она тут какую-то линию жизни нашла?.. С перерывами, говорит, – но-о… длины страшной. Однако отправить, иде же несть болезнь, всегда могут, со всякой линией… А перерывы, – это вот именно – огнестрельные раны… факт… Митя, а ты женщинами увлекался? Не так, чтобы прохладно, для развлечения, а чтобы труба, утоп? Нет? По глазам вижу, что нет. Смотри, ладанка.
И, быстро расстегнув тужурку, снял с себя Дерябин золотой медальон, щелкнул и открыл портрет какой-то молодой женщины.
– Командира нашего корпусного, – отдельного корпуса пограничной стражи безграничной кражи… Нашего, – а это десять лет назад дело было… Бал был… Я ее с бала увез! Понял, что это значит?.. За это и со службы долой.
– Давеча ты сказал, кажется… – начал было Кашнев, но не докончил и улыбнулся. С медальона смотрело конфеточное лицо в кудряшках, и он точно подумал о ней вслух: – Должно быть, располнела теперь, за десять лет, а лицо стало в желтых пятнах… Кудряшки мелкие, жесткие, зубы позеленели… почему-то иногда зеленеют спереди…
– Митька! – крикнул пристав. Стал перед ним и смотрел на него с каким-то ужасом и шипел сдавленно, наклоняясь: – Возьми назад!.. Сейчас же назад!.. Сейчас же возьми назад!.. – Даже побледнел Дерябин, и жила на лбу надулась.
И сконфуженный, отрезвевший Кашнев пробормотал растерянно:
– Я пошутил. Сознаюсь – неловко. Прости.
А Дерябин, пряча медальон и застегивая пуговицы тужурки, все глядел на него недоумевающим, почти испуганным и жестким взглядом больших близоруких белесых глаз, и так неловко стало Кашневу, что он поднялся даже, стал близко к Дерябину, протянул ему руку и сказал запинаясь:
– Вижу, что обидел, очень обидел… Извини, голубчик! – и пожал крепко прочную руку Дерябина, поданную медленно, сдержанно и молчаливо.
А в это время в напряженной неловкой тишине комнаты вдруг резко и картаво неприлично выругался попугай.
V
– Митя, а ты против рожна прал? – спросил пристав, когда успокоился, выпил хинной водки и закусил заливным из судака. – Не понял, о чем говорю, или понял? – добавил он, заметив, что глаза у Кашнева далекие.
Но Кашнев понял.
– Случалось иногда, прал, – ответил он улыбнувшись.
– Но… не очень? До большого у тебя, видно, не доходило, нет?.. Иначе мы не имели бы удовольствия сидеть за одним столом… так? – прищурился пристав.
– До большого? Да нет.
– Не рисковал шкурой так, чтобы за други живот! Хвалю. Незачем. Прокурором со временем будешь… Россия – полицейское государство, если ты хочешь знать… А пристав – это позвоночный столб, – факт! Его только вынь, попробуй, – сразу кисель!.. Милый мо-ой! Что тебя красавчиком мать родила – в этом заслуги особой нет! Ты вот из урода процвети, тогда я к тебе приду и свечку тебе поставлю… А то полиция. Полиция работает, ночей не спит, только от полиции и порядок. Ты его в красный угол на почетное место, полицейского, а у нас он в том углу, где ночные горшки ставят… Ты вот у меня в гостях почему? Потому что ты не в гостях, а в наряде… а без этой оказии погнушаешься и не зайдешь – факт!
– Отчего не зайду? – спросил Кашнев потому только, что Дерябин смотрел на него в упор и ждал именно этого.
– А ты собственно зачем же зайдешь? – Дерябин не улыбнулся, когда добавил: – Если бумажник украдут, пожалуй, зайдешь… заявить.
– Нет, отчего же, именно в гости и зайду, – серьезно ответил Кашнев.
– Зачем же? Говорить тебе со мною… о чем? А угощение это не мое, мне ничего не стоит, – даром дано. Сказал – пришлите кулек, – прислали кулек. Сто зубов против них имею, и они это отлично знают! А вот почему они так не делают, чтобы я к ним ни одного зуба? Невыгодно. Подлец на подлеце! Мошенник на мошеннике… Не полиция – подлец, народ – подлец! Факт!.. Мне сослуживец мой, мой помощник, старше меня и чином и годами, старик, и души большой, – из исправников сместили за слабость… иногда говорит мне: «Ваня! От тебя в десяти шагах стоять, – и то жарко: до того ты горяч». А я потому для него и горяч, что сам он – зубами ляскает. Так человека запугали, что теперь с перепугу только и делает, что водку цедит. Держу, черт его дери, а пользы от него, – почеши затылок! Заберется с ногами куда-нибудь в поганый трактир и сидит, как пуля в дубу… Прямо как влюбленная баба стал: что ни начнет делать, двадцать раз прибежит спросить, так он сделал или не так сделал… Пошлешь его в ярок на пчельник, да сам сделаешь… И ведь случаев всяких – их тьма темная, а нужно всегда что? Нужно сразу и точно знать, что тебе сделать, сразу и точно… и всегда. И колебаний никаких, ни боже мой, – потому что власть!.. Понял? Что? Плохо я говорю? Не то?
– Хорошо говоришь, – сказал Кашнев.
– То-то… Как же он смел мне сказать: палач?
И, говоря это, Дерябин вскочил вдруг и закричал, поводя налитыми кровью глазами (глаза были влажные, и показалось Кашневу, точно красные слезы в них стояли).
– Да он знает, что такое палач! Ах, корноухий! Самое подлое слово, какое в человеческом языке есть, – каналья он!.. Ведь я по нем, по его дверям залп мог бы дать, а я на рожон полез, сам полез, чтобы он жив был, – стало быть, я не палач!.. Я!.. Я когда становым был, – мужицкие самовары за недоимки продавал, – да, продавал – овец, коров, самовары… Я с мошенников взятки беру – да, беру взятки – с воров, с мошенников!.. Да ведь всех воров и мошенников судить, – их у нас не пересудишь: вор на воре, мошенник на мошеннике… Все – воры! Всякий – вор! Честным у нас еще никто не умер, – чуда такого не было. Факт!.. Ты – честный? Ты пока еще так себе, молочко… Еще не жил; поживи-ка, – украдешь. За час до смерти, если случая не было, последнюю портянку у денщика украдешь, – так и знай! Так с портянкой в головах и помрешь, – факт, я вам говорю!
Засмеялся Кашнев. Смотрел на ярого пристава с дрожащими губами и раздувшимся носом и не мог удержаться, смеялся по-детски.
– Так что? Не пойму!
– И, наконец, что это за револьвер такой, бог его знает!
– Та-ак! – горестно протянул пристав. – Так и запишем…
Но вдруг, закусив губы и дернув широкими ноздрями, он крикнул:
– Культяпый!.. Я тебе его сам в кобур положу! – погрозил он Кашневу наганом; и когда появился Культяпый, он закричал ему, вращая красными белками: – Найди там кобур их благородия и привяжи это к шнуру, – понял?
Культяпый бережно взял револьвер и выскользнул с ним проворно, как мышь.
– Митя! – крикнул Дерябин, восторженно глядя на Кашнева. – Митя! Братишка мой был Митя, – от тифа помер… дай, боже, царства небесного… Друг! – он положил тяжелые руки ему на плечи. – Ради дружбы, ради знакомства нашего – сними ты это! – и он гадливо показал глазами на значок и передернул губами справа налево.
– Ну вот! Зачем это? – улыбнулся Кашнев.
– Не могу я этого видеть, – сними! Вынести этого не могу!.. И точно не офицер даже, а какой-то переодетый немец, черт его дери!.. Спрячь, Митя!
У огромного Дерябина стали вдруг умоляющие, немного капризные, детские глаза.
– Ведь тебе это ровно ничего не стоит, а мне… а меня это… по рукам-ногам вяжет, бесит! – страдальчески выкрикнул Дерябин и отвернулся.
Кашнев представил, как позапрошлой ночью в двух шагах в Дерябина стрелял студент, и понял что-то; пожал плечами и медленно отстегнул значок, повертел его в руках и положил в боковой карман.
– Друг! Митя! – заорал Дерябин. – У тебя ж сердце!.. Господи, – это ведь с первого взгляда видно!.. С одного взгляда!.. Со взгляда!..
И опять Кашневу стало тесно, трудно и жарко, и еще было ощущение такое, как будто кого-то он предал; но тут же прошло это. Было немного пьяно, перед глазами мутно. Скрипел и трещал спицами какаду.
IV
– Я – дворянин, милый мой! И горжусь своим дворянством, и своим офицерским чином, и своей службой в полиции! – клубился голос пристава, как дым кадильный.
Дерябин пил много и много ел, и теперь лицо его как-то начало отвисать книзу; и двойной подбородок, и толстая нижняя губа, и верхние веки, и короткие косички волос, прилипшие к потному лбу, – все как-то спустилось вниз.
– Я ведь тоже в гимназии был, а в университет не пошел… почему? – не хотел; пошел по военной службе. Что? Плохо я сделал? Не то?.. А я себя ломать не хотел, милый мо-ой! Любил скачки, охоту, песни, танцы, черт их дери, – женщин! Люблю женщин! Не одну какую-нибудь, а всех вообще… вот! Против натуры не хотел идти… В пограничной страже служил против Галиции на австрийской границе… А-ах, служба ж была занятная!.. Контрабандисты! Шельмы народ! Двутавровые волки! Ухачи!.. Из-за одного меня со службы турнули… Кутили мы там на фольварке у одного панка, польский мед пили, а тут взводный, дурак, мне: «Контрабандиста задержали, ваш-бродь, – что прикажете из им делать?..» Нет, ты вот рассуди, – не дурак? Что «из им» можно делать? Ну, отложи его куда-нибудь до утра, а то ночь, и мед этот чертов, и я пьян… «Повесить!» – говорю. «Слушаю», – и ушел. Так минут через двадцать приходит, – а у нас пьянство своим чередом, – в притолку уперся: «Так точно, говорит, повесили…» Что? Кого повесили?.. Мы уж и думать забыли!.. Как смели?.. Идем смотреть с фонарем. Висит действительно, факт! Какой-то, лет двадцати, глаза навыкат, зубы ощерены… Конец. Тты, черт! Преступление. Превышение власти. А уж утром тут из местечка родные этого прискакали… Что? Суда ждать?.. Я взял сам по начальству на себя донес. Сколько-то там дней, – от командующего войсками телеграмма: «Контрабандиста предать погребению, офицера увольнению, эпизод забвению». Я и подал в отставку.
– Этот анекдот я, кажется, слышал, – сказал Кашнев.
– Со мной случилось, а не анекдот! Факт, я вам говорю, – нахмурил безволосые брови пристав. – Но-о демократов, – этих я ненавижу!.. Своей службы в полиции не стыжусь, нет! А демократа, – я его знаю! Вполне-с!.. Он… корноухий (Дерябин хитро завернул пальцем правое ухо), у него что ни зуб, то щербина, оба глаза косят… хрромой!.. ррвотой через день страдает… регулярно, черт его дери! Он когда из маузера в упор в стенку стреляет, и то норовит не попасть… факт! Нет, ты если с носовым платочком идешь, так платочек этот чтоб чистенький, беленький, чтоб кружевами обшит, – ты! Ты его духами спрысни, чтоб пахло!.. Ты, если слабость, так без наряда ты, черт тебя дери, на улицу и носу не суй, если ты слабость, а то живо тебе хвост грязными сапожищами отомнут. Ты не вопи на перекрестке, – ты! Ты, черт тебя дери, человеком будь!
– Что ты? Что ты? Дикарь ты! Не то! – махнул рукою Кашнев и улыбнулся длинно. Он никогда не пил много водки и теперь размяк, одряхлел, и появилось в нем что-то женское.
– Не то? – крикнул Дерябин. – Плохо я говорю? Окончательно не то или не окончательно? А?.. Милый мо-ой! Ты себе представить не можешь, какая все в общем слякоть, дрянь! Ни тоски, ни радости, – так, дрянь одна!.. Ты вот… этого студента я… ты меня извини… примял немного… и не то чтобы я это… в пылу битвы, а так, – уж очень мерзко стало: из такого револьвера не попасть в двух шагах… Что я? Копейка? – черт его дери! Суется в волки, а хвост поросячий!.. В меня один цыган-конокрад стрелял на скаку – кокарду сшиб! Волосок бы еще, – и мое вам почтение, – свистульку в череп!.. На скаку! Двух урядников калеками сделал, пока самого убили… факт! Прошлым летом было… Митя, ты не юрист? – перебил вдруг себя Дерябин.
– Юрист, – ответил Кашнев, все больше хмелея.
– Правда? Юриста, брат, сразу видно: у него вид легкомысленный!.. Это я шутя, прошу простить и к сердцу не принимать. А в хиромантию ты веришь?.. Мне, брат, одна немка мои линии читала (Дерябин вытянул над столом здоровенную ладонь)… где она тут какую-то линию жизни нашла?.. С перерывами, говорит, – но-о… длины страшной. Однако отправить, иде же несть болезнь, всегда могут, со всякой линией… А перерывы, – это вот именно – огнестрельные раны… факт… Митя, а ты женщинами увлекался? Не так, чтобы прохладно, для развлечения, а чтобы труба, утоп? Нет? По глазам вижу, что нет. Смотри, ладанка.
И, быстро расстегнув тужурку, снял с себя Дерябин золотой медальон, щелкнул и открыл портрет какой-то молодой женщины.
– Командира нашего корпусного, – отдельного корпуса пограничной стражи безграничной кражи… Нашего, – а это десять лет назад дело было… Бал был… Я ее с бала увез! Понял, что это значит?.. За это и со службы долой.
– Давеча ты сказал, кажется… – начал было Кашнев, но не докончил и улыбнулся. С медальона смотрело конфеточное лицо в кудряшках, и он точно подумал о ней вслух: – Должно быть, располнела теперь, за десять лет, а лицо стало в желтых пятнах… Кудряшки мелкие, жесткие, зубы позеленели… почему-то иногда зеленеют спереди…
– Митька! – крикнул пристав. Стал перед ним и смотрел на него с каким-то ужасом и шипел сдавленно, наклоняясь: – Возьми назад!.. Сейчас же назад!.. Сейчас же возьми назад!.. – Даже побледнел Дерябин, и жила на лбу надулась.
И сконфуженный, отрезвевший Кашнев пробормотал растерянно:
– Я пошутил. Сознаюсь – неловко. Прости.
А Дерябин, пряча медальон и застегивая пуговицы тужурки, все глядел на него недоумевающим, почти испуганным и жестким взглядом больших близоруких белесых глаз, и так неловко стало Кашневу, что он поднялся даже, стал близко к Дерябину, протянул ему руку и сказал запинаясь:
– Вижу, что обидел, очень обидел… Извини, голубчик! – и пожал крепко прочную руку Дерябина, поданную медленно, сдержанно и молчаливо.
А в это время в напряженной неловкой тишине комнаты вдруг резко и картаво неприлично выругался попугай.
V
– Митя, а ты против рожна прал? – спросил пристав, когда успокоился, выпил хинной водки и закусил заливным из судака. – Не понял, о чем говорю, или понял? – добавил он, заметив, что глаза у Кашнева далекие.
Но Кашнев понял.
– Случалось иногда, прал, – ответил он улыбнувшись.
– Но… не очень? До большого у тебя, видно, не доходило, нет?.. Иначе мы не имели бы удовольствия сидеть за одним столом… так? – прищурился пристав.
– До большого? Да нет.
– Не рисковал шкурой так, чтобы за други живот! Хвалю. Незачем. Прокурором со временем будешь… Россия – полицейское государство, если ты хочешь знать… А пристав – это позвоночный столб, – факт! Его только вынь, попробуй, – сразу кисель!.. Милый мо-ой! Что тебя красавчиком мать родила – в этом заслуги особой нет! Ты вот из урода процвети, тогда я к тебе приду и свечку тебе поставлю… А то полиция. Полиция работает, ночей не спит, только от полиции и порядок. Ты его в красный угол на почетное место, полицейского, а у нас он в том углу, где ночные горшки ставят… Ты вот у меня в гостях почему? Потому что ты не в гостях, а в наряде… а без этой оказии погнушаешься и не зайдешь – факт!
– Отчего не зайду? – спросил Кашнев потому только, что Дерябин смотрел на него в упор и ждал именно этого.
– А ты собственно зачем же зайдешь? – Дерябин не улыбнулся, когда добавил: – Если бумажник украдут, пожалуй, зайдешь… заявить.
– Нет, отчего же, именно в гости и зайду, – серьезно ответил Кашнев.
– Зачем же? Говорить тебе со мною… о чем? А угощение это не мое, мне ничего не стоит, – даром дано. Сказал – пришлите кулек, – прислали кулек. Сто зубов против них имею, и они это отлично знают! А вот почему они так не делают, чтобы я к ним ни одного зуба? Невыгодно. Подлец на подлеце! Мошенник на мошеннике… Не полиция – подлец, народ – подлец! Факт!.. Мне сослуживец мой, мой помощник, старше меня и чином и годами, старик, и души большой, – из исправников сместили за слабость… иногда говорит мне: «Ваня! От тебя в десяти шагах стоять, – и то жарко: до того ты горяч». А я потому для него и горяч, что сам он – зубами ляскает. Так человека запугали, что теперь с перепугу только и делает, что водку цедит. Держу, черт его дери, а пользы от него, – почеши затылок! Заберется с ногами куда-нибудь в поганый трактир и сидит, как пуля в дубу… Прямо как влюбленная баба стал: что ни начнет делать, двадцать раз прибежит спросить, так он сделал или не так сделал… Пошлешь его в ярок на пчельник, да сам сделаешь… И ведь случаев всяких – их тьма темная, а нужно всегда что? Нужно сразу и точно знать, что тебе сделать, сразу и точно… и всегда. И колебаний никаких, ни боже мой, – потому что власть!.. Понял? Что? Плохо я говорю? Не то?
– Хорошо говоришь, – сказал Кашнев.
– То-то… Как же он смел мне сказать: палач?
И, говоря это, Дерябин вскочил вдруг и закричал, поводя налитыми кровью глазами (глаза были влажные, и показалось Кашневу, точно красные слезы в них стояли).
– Да он знает, что такое палач! Ах, корноухий! Самое подлое слово, какое в человеческом языке есть, – каналья он!.. Ведь я по нем, по его дверям залп мог бы дать, а я на рожон полез, сам полез, чтобы он жив был, – стало быть, я не палач!.. Я!.. Я когда становым был, – мужицкие самовары за недоимки продавал, – да, продавал – овец, коров, самовары… Я с мошенников взятки беру – да, беру взятки – с воров, с мошенников!.. Да ведь всех воров и мошенников судить, – их у нас не пересудишь: вор на воре, мошенник на мошеннике… Все – воры! Всякий – вор! Честным у нас еще никто не умер, – чуда такого не было. Факт!.. Ты – честный? Ты пока еще так себе, молочко… Еще не жил; поживи-ка, – украдешь. За час до смерти, если случая не было, последнюю портянку у денщика украдешь, – так и знай! Так с портянкой в головах и помрешь, – факт, я вам говорю!
Засмеялся Кашнев. Смотрел на ярого пристава с дрожащими губами и раздувшимся носом и не мог удержаться, смеялся по-детски.