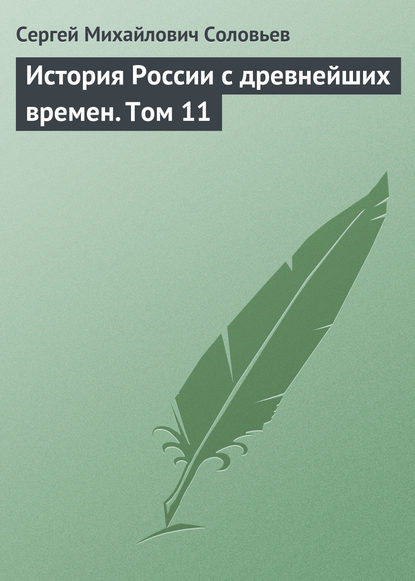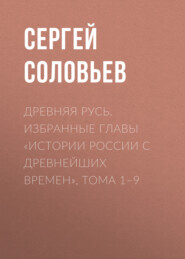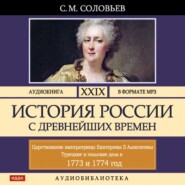По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
История России с древнейших времен. Том 11
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Сильно испугала Москву весть о конотопском поражении; еще больший ужас навела весть о чудновском. Тогда истреблена. была часть войска, сгибли вожди молодые; теперь целое войско, опора власти царской в Малороссии, не существует, и боярин, и воевода, которым по справедливости гордились, которого царь величал «верным и истинным послушником своим, храбрым и мужественным архистратигом», боярин Шереметев в позорном плену у крымского поганца! Тогда хан с Выговским были ближе к Москве, но и теперь боялись, что наступающая зима постелет гладкий путь полякам и крымцам и нет больше войска, которое бы можно было противупоставить им: с другой стороны, может явиться под Москвою войско литовское, гордое победою над Хованским, и какое ручательство, что швед не захочет воспользоваться бедою Москвы и не нападет на нее с третьей стороны, как прежде напал на Польшу? Боялись и другого рода несчастия – боялись бунта черни московской, раздраженной бедствиями продолжительной войны и войны теперь несчастной. Опять во дворце начали приготовляться к отъезду царя в Ярославль или Нижний. А тут еще дурные вести с Дону: в июне пришло из Царяграда морем под Азов 33 корабля с людьми ратными, со всякими запасами и пушками, ратных людей с 10000, да в то же время из Крыма пришел крымский хан, с ним татар, черкас темрюцких, кабардинских и горских и мурз ногайских с 40000, да рабочих людей, венгров, волох и молдаван, с 10000. Пришедши под Азов, по обеим сторонам Дона поставили две башни каменные, а между башнями через Дон поделали цепи; на устье проездного Донца, против Азова, поставили город каменный с 4 башнями и с нарядом большим и малым. Во время строения крепостей донцы ходили трижды для языков, но работам помешать не могли по своему малолюдству, да и боялись на себя неприятельского прихода: стада у них крымцы все отогнали. Пришли на Дон царские воеводы, стольники Семен Савич и Иван Савостьянович Хитрово, но пришли они уже тогда, как хан, отстроив крепости, пошел назад в Крым. Государевы люди сделали себе городок выше Черкасска с полверсты и вместе с козаками ходили под Азов, выжгли посады, были и под башнями, но ничего им не сделали. Всех козаков в Черкасске было только 3000 да государевых людей 7000. Крымцы навестили последних в их городке, но были отбиты. Государевы люди были привычны сидеть и отсиживаться в городках, но козаки привыкли нападать и грабить, оборонительная война была для них тяжела; они говорили: «Как стало на Дону войско быть, такого утесненья нам никогда не бывало: для промыслов ходить никуда нельзя, и многие без промыслов с Дону от нас разбредутся». Оставшиеся в Малороссии воеводы ссорились друг с другом. Воевода Чаадаев из Киева бил челом на воеводу князя Юрия Борятинского: «Пишет многие отписки у себя на дворе, со мною не говоря, и ни о чем со мною не советует, и во многие походы ключей городовых мне не отдает, оставляет их у человека своего Далматова, и перед своими друзьями хвалится, что он меня ото всего оттеснил, а ходит он в походы не для государевых дел, для своей корысти. Мая 23 (1661 г.) ходил он в маетность Печерского монастыря Иванково и, не доходя до нее, выбрав своих угодников, послал с ними людей своих, велел грабить на себя: ратные люди многие лошадей поморили, а пришли ни с чем; только искорыстовался князь Юрий и друзей своих накормил; а к тебе, великому государю, пишет все ложно и посылает с отписками своих угодников. Писал он к тебе, будто город Иванков взял и многие места и села повоевал; но писал ложно: кроме одного местечка Иванкова, нигде войны не бывало, и в том местечке никаких воинских людей, кроме тутошних жителей, не было и воевать было не с кем, а выграбил его для своей корысти, и церкви божии везде выграбил; добрых людей своим озорничеством всех отогнал, а меня называет изменником, будто я с теми людьми знаюсь для измены, и грозит убийством; а все это он делает по мысли головы Федора Александрова. Многие ратные люди говорят, что им подняться не на что, добра от нас никакого не чают, и многие из Киева бегают, на день человек по 20, 30 и больше».
Обращая все более и более внимания на Европу, в Москве боялись невыгодного впечатления, какое произведут на нее разглашения поляков о своих торжествах над русскими, и сочли за нужное противодействовать этим разглашениям путем печати. Написано было изложение военных действий 1660 года, где выставлены успехи Долгорукого и вначале Шереметева, коварство польских комиссаров, дливших время нарочно, чтоб дать своим возможность собрать войско и дождаться татар; наконец, измена Хмельницкого и дурной поступок поляков с Шереметевым под Чудновом. Это известие отправлено было в Любек к Ягану фон Горну, чтоб он напечатал его на немецком языке и разослал по окрестным государствам.
Между тем поляки хлопотали, как бы в другой раз не выпустить из своих рук Войска Запорожского. Здесь опять является главным действующим лицом известный нам Беневский. Юрий дал ему знать, что он собрал раду в Корсуни, и приглашал его на ней присутствовать. Беневский немедленно отправился и узнал на месте, что Хмельницкий непременно хочет сложить булаву, что некоторые под личиною дружбы к нему уговаривают его отказаться от гетманства, проча булаву кому-то другому (Выговскому). Но Беневский, опасаясь от этого другого беды для республики, начал хлопотать, чтоб булава осталась за Хмельницким, который, по слабости своей, как нельзя лучше приходился для Польши. Чтоб окончательно убедиться, кого хотят выбрать в гетманы, Беневский призвал к себе полковников и начал им говорить, что Хмельницкий непременно хочет оставить булаву, так кого бы они считали достойным гетманства? Большая часть полковников сейчас же отвечали: «Об этом нечего беспокоиться: у нас уже готов гетман, мы пошлем кой к кому и тут же его изберем», – и начали расхваливать своего избранника, воображая, что эти похвалы приятны Беневскому. Ночью последний свиделся с Хмельницким и стал расспрашивать его, что за причины, по которым он непременно хочет сложить булаву? «Я молод, несчастлив, болен (падучею болезнию и грыжею)», – отвечал Юрий, насказал и много других, менее важных причин. Беневский стал уговаривать его. «Из-за пустых причин, – говорил он, – ты хочешь отказаться от гетманства, не думая, каким опасностям подвергаешь себя, имение свое и дом!» Беневский открыл ему интриги его соперника и что его ждет, когда этот соперник сделается гетманом. Хмельницкий не верил, чтоб интриги соперника шли так далеко; тогда Беневский предложил ему призвать немедленно же полковников, которые сами скажут ему о своем избраннике. Полковники были призваны и объявили: «Завтра же надобно созвать раду, и если ты, пан гетман, покинешь булаву, то без гетмана быть не можем и сейчас же посылаем кой к кому, которому отдаем в опеку себя, жен и детей наших». Это объявление убило несчастного Хмельницкого. «Завтра будет рада», – сказал он и отпустил полковников. Оставшись наедине с Беневским, он начал срывать сердце, обвинять каждого полковника в измене против республики и коварстве. «И теперь они хотят выбрать того в гетманы, чтоб опять своевольничать», – говорил он. Беневский торжествовал: он пустил черную кошку между гетманом и полковниками и, чтоб еще больше раздражить Хмельницкого и выведать все нужное, стал говорить: «А полковники, пан гетман, все зло складывают на тебя, говорят, что и Серко, и Апостол, и Цецура, и Пушкарь из-за тебя возмутились; говорят, что ваша милость и Брюховецкого с частию казны отправил к царю московскому, и Самченко, твой родной дядя, по твоему внушению поднял бунт в Переяславле». Бедный Хмельниченко совсем растерялся: стал оправдываться, в ином признавался, наконец стал умолять искусителя: «Будь отцом, советником, ходатаем у короля и королевы; клянусь, что буду следовать твоим советам, не буду слушать злых речей». Беневский, разумеется, прежде всего присоветовал не покидать гетманства, потом, так как Юрий по молодости и нездоровью нуждался в помощнике, Беневский присоветовал ему взять на писарство Тетерю, чем приобретет доверенность короля и республики, потому что настоящий писарь, Семен Голуховский, предан царю и царем поставлен. Хмельницкий на все согласился, требуя одного, чтоб Беневский оставался ему другом и добрым советником.
10 ноября собралась рада из одной старшины на дворе гетманском; Беневский начал первый говорить, объявил, что ни одно из царских распоряжений не может иметь больше силы, и от имени королевского вручил булаву Хмельницкому при всеобщем восторге, как будто бы никогда не думали ни о ком другом. Но к вечеру торжество Беневского было нарушено: ему дали знать, что чернь бунтует, зачем рада была в избе не по старине, подозревает тут злой умысел против Войска. Беневский послал сказать гетману, чтоб на другой день созвал черную раду и на ней снова принял от него булаву. Хмельницкому не хотелось созывать черни. «Если пан воевода, – отвечал он, – хочет черной рады, да еще во время ярмарки, то пусть знает, что погубит и себя, и меня, и полковников и учинит смуту большую». Новый посланец от воеводы к гетману: «Напрасно беспокоишься; если не будет черной рады, то все равно что ничего!» Не один Хмельницкий, все старшие козаки, все домашние Беневского были против черной рады, но воевода был непреклонен, и Хмельницкий, раскаиваясь, что обещал его слушаться, велел повестить раду.
11 ноября площадь у церкви св. Спаса шумела глухим шумом: стояло тысяч двадцать черни, а гетманский двор был назаперти: там тихо сидели перетрусившие полковники и гетман, дожидались, пока приедет на раду Беневский: что-то будет, как-то примет его чернь? И вот толпы расколыхались, едет воевода, сходит с лошади, садится на скамью, озирается: «Где же пан гетман?» В ответ раздался крик: «Ваша милость на месте королевском: пошлешь за гетманом, и должен прийти». Беневский послал, и гетман явился с полковниками: без шапки, кланяясь на все стороны, вошел он в круг, положил шапку наземь, на шапку булаву – знак, что слагает с себя гетманство. Но вот он начинает говорить: «По божией и по вашей воле возвратились мы к пану прирожденному, и чтоб не оставалось больше между нами московских распорядков, король, его милость, прислал комиссара своего: он введет между нами порядок». Смолк Хмельницкий, не владевший даром слова, и начал широкую речь Беневский об отеческом милосердии короля; кончил тем, что король прощает все их вины. В ответ раздались крики: «Благодарим бога и короля; это все старшие нас обманывали для своего лакомства; если теперь кто вздумает бунтовать против короля, того сами побьем, не пощадим и отца родного!» Когда поустали кричать, Беневский подошел к булаве, поднял ее и от королевского имени передал Хмельницкому, тут же Носач объявлен был обозным. Раздались новые крики в честь Хмельницкого, и толпы двинулись в церковь присягать королю. Вечером гетманский дом заблистал яркими огнями, гремели пушки, шел роскошный польский пир; подпившие козаки особенно расхваливали королеву, только и слышалось: «Мать наша!» На другой день новая рада: читали гадяцкие привилегии Войску Запорожскому; все были очень довольны и ругали Выговского: «Если бы он, такой и такой, прочел нам эти привилеи, то ничего бы дурного не случилось». На третьей раде отдана была печать войсковая Тетере. Новый писарь – это наш старый знакомый: мы видели его в Москве, слышали, какую великолепную речь он говорил царю Алексею Михайловичу, как ставил его выше св. Владимира, слышали, как потом он рассказывал о непорядках малороссийских и как проговорился, что некоторые из его земляков желают непосредственно зависеть от царского величества. И теперь Тетеря начал рассказывать, как он был в Москве, но не повторил своей приветственной речи и своих разговоров с думными людьми; он рассказывал козакам, какие страшные замыслы против Малороссии питает царь! Он все это проведал, будучи на Москве! Оратор произвел сильное впечатление на слушателей. «Не дай нам, боже, мыслить о царе, ни о бунтах!» – говорили козаки. Они глубоко были тронуты: мудр, добродетелен, велик явился перед ними пан писарь Тетеря, так безукоризненно, так свято ведший себя в Москве. «Пан писарь! – говорили они, – будь милостив, учи гетмана уму-разуму, ведь он молоденький еще! Поручаем его тебе, поручаем тебе жен, детей, имение наше!»
В то время как в Корсуни происходили эти чувствительные сцены, в то время как в здешней соборной церкви козаки присягали королю, на другой стороне Днепра, в Переяславле, также толпился народ в соборной церкви: дядя Хмельницкого, полковник Яким Самко, вместе с козаками, горожанами и духовенством клялся умирать за великого государя, за церкви божии и за веру православную, а городов малороссийских врагам не сдавать, против неприятелей стоять и отпор давать. Получив от племянника грамоту с увещанием покориться королю, Самко отвечал: «Я с вашею милостию, приятелем своим, свойства не разрываю; только удивляюсь, что ваша милость, веры своей не поддержав, разрываешь свойство наше с православием. Ты пишешь, что король видит руку промысла в беде, случившейся с Шереметевым; правда, что бог всем управляет, сокрушает и милует, немощных сильными делает, но надобно знать, что счастье и что грех. Потому что счастье изменчиво. Я не изменник потому только, что не хочу ляхам сдаться; я знаю и вижу приязнь ляцкую и татарскую. Ваша милость человек еще молодой, не знаешь, что делалось в прошлых годах над козацкими головами; а царское величество никаких поборов не требует и, начавши войну с королем, здоровья своего не жалеет; мы теперь должны немощных немощь носить, а не себе угождать; лучше с добрыми делами умереть, нежели дурно жить. Пишете, что царское величество никакой помощи к нам не присылает; верь, ваша милость, что есть у нас царские люди и будут; а если б даже их и не было, то его воля, государева, а мы будем обороняться от наступающих на нас врагов, пока сил станет, помня пример Шереметева, который хотя и сдался, однако мало хорошего получил: вопреки присяге сенаторской со всем войском в неволю татарскую пошел. Видя, что сделалось с Шереметевым и Цецурою, хотя умру, а на прелести ваши не сдамся». Выбранный наказным гетманом, Самко в начале декабря прислал сказать в Москву о своей верности и что боярин Шереметев выдал Войско Запорожское, при нем бывшее, в неволю татарам; ему, разумеется, отвечали, что во всем виноват Хмельницкий, а не Шереметев.
Запорожье было также за царя, Запорожье, пустившее от себя отпрыск: лихой козак Серко, с которым так часто будем встречаться впоследствии, составил свою особую дружину и действовал самостоятельно. Вскоре после чудновского дела прискакал в Москву запорожский кошевой Иван Брюховецкий и объявил: «Мир с поляками Хмельницкий заключил по наговору тех, которым от короля дана честь: Носача, Лесницкого, Гуляницкого; у гетмана наперед была ли о том мысль или нет – не знаю, только гетман шел в сход к Шереметеву не на то место, где ближе, и ставился не там, где надобно; пришедши в Слободище от боярина за три мили, стоял три дня, а к боярину в сход не шел. Как на Кодачке, на раде был договор у гетмана с боярином, тут впервые изменили но вымыслу Выговского: уговорились, что боярину идти наперед, тогда как довелось идти наперед черкасским полкам, а гетману быть с боярином, от него не отставать. Яким Самко царскому величеству верен ли, про то я не знаю, а гетману Юрию Хмельницкому он дядя родной; только ему, Самку, недруг Иван Выговский; и прежде он от Выговского отбегал и жил на Дону, а в Войске при нем жить не смел. Василий Золотаренко царскому величеству верен, и Семен-писарь верен, только разве помешает ему то, что он теперь женился на Дорошенковой сестре».
Чтоб разузнать, в каком действительно состоянии находятся дела в Малороссии, кто верен и кто нет, кто кому дядя и кто кому зять и как это родство и свойство мешает верности, отправился стрелецкий голова Иван Полтев. Приехавши в Нежин 29 декабря, Полтев прежде всего повидался с тамошним царским воеводою, князем Семеном Шаховским, и спросил его: «Нежинский полковник Василий Золотаренко великому государю верен ли, к нему, воеводе, советен ли, сколько при нем козаков, в козаках и мещанах нет ли какой шатости и Василью Золотаренку они послушны ли?» «Золотаренко великому государю верен, – отвечал Шаховской, – со мною советен: козаков при нем тысяч с десять: между немногими козаками и мещанами была шатость». На другой день к Золотаренку явился сотник города Девицы Демид Рагоза с изветом на козака Тараса Незная, который говорил при многих людях: «Полковник Золотаренко хочет быть под московским царем, а мы хотим быть у польского короля при Юрии Хмельницком». Незная схватили, привели к полковнику, и, когда козак повинился, Золотаренко велел собрать раду; на раде приговорили: казнить Незная за такие речи, и приговор был исполнен. Полтев объявил Золотаренку, что великий государь все Войско Запорожское этой стороны Днепра пожаловал, гетмана избрать позволил, кого Войском изберут. «Ты бы, полковник, – продолжал Полтев, – согласился с гетманом наказным Якимом Самком и с другими полковниками, которые великому государю верны, и с Войском Запорожским и чернью, и выбрали бы гетмана». «Царского величества бояре и воеводы с войском к нам будут ли?» – спросил Золотаренко. «Когда царские ратные люди в Нежине будут, то Украйна всего Нежинского полка будет крепка: мы великому государю верно служить рады». «В Севске, – отвечал Полтев, – будет боярин Петр Михайлович Салтыков с конными и пешими людьми, а в Путивле окольничий князь Иван Лобанов-Ростовский». Золотаренко обрадовался и сказал: «Если б царские воеводы пришли ко мне в Нежин скоро, то Украйна по сю сторону Днепра была бы цела, неприятелей всех бы выбили за Днепр: если же воеводы ко мне скоро не придут, то к Киеву и Переяславлю из Нежина проезду не будет; стоят крепко и великому государю верно служат только Нежинский да Черниговский полки; если же этих полков не будет, то и Переяславский полк не устоит».
Московские воеводы скоро прийти не могли после недавних несчастий, а уже 2 января 1661 года заднепровские черкасы с поляками приступали к Козельцу. Они были отбиты с уроном, но Золотаренко ждал гостей к себе и сказал Полтеву: «Теперь нам гетмана выбирать некогда: наступают со всех сторон неприятели». Действительно, 6 января враги явились под Нежином, ворвались в посад и завязали бой с нежинцами. На бою взят был татарин, который объявил, что послал их Хмельницкий из Чигирина для проведывания, есть ли на восточной стороне Днепра царские ратные люди? И черкасы с горожанами хотят ли здесь великому государю верно служить или хотят поддаться польскому королю? Если царских ратных людей нет, то он с заднепровскими козаками, татарами и поляками пойдет под Переяславль, Нежин и Чернигов, скоро к нему придут из Крыма татары, охочие люди, пока еще Днепр стоит. Услыхав эти вести, Золотаренко сказал Полтеву: «Оставайся здесь, в Переяславль тебе ехать нельзя чрез неприятелей» – и прибавил прежнее: «О гетманском избрании теперь нечего думать: наступают ляхи и татары», 10 января поляки опять приступили к Козельцу и опять были отбиты. Верные черкасы начали наступательные действия и бились с поляками под Остром; а 30 января и 2, 4 и 6 февраля приходили поляки и татары под Нежин и бились с его жителями, но без успеха. С другой стороны, князь Иван Андреевич Хованский в феврале под Друею разбил и взял в плен изменившего государю полковника Лисовского. Скоро пришла весть, что поляки с Чарнецким и татары ушли за Днепр, оставя на восточной стороне татар с тысячу человек да поляков два полка; а в апреле приехали в Москву посланцы от Самка и объявили, что ляхов на восточной стороне Днепра нигде нет, дороги к Киеву, Нежину и другим местам чисты; немногие ляхи, которые были в Триполе, Оржищеве и у Белой Церкви, все отступили в коронные города; остались больные, и тех около Белой Церкви черкасы тайно всех побили; татар также нигде нет; полки Лубенский, Миргородский, Прилуцкий и Полтавский великому государю добили челом; не сдаются только остряне; Серко в Запорожье великому государю служит верно.
Что же это значило? В Москве боялись, что поляки воспользуются чудновскою победою, перейдут немедленно со всеми силами на левый берег Днепра, займут всю Малороссию и двинутся к беззащитной столице царской, а между тем это страшное войско исчезает отвсюду! Уж не шведы ли опять напали на Польшу? Не турки ли собрались ворваться в Подолию? Нет: победоносное воинство потребовало жалованья и, не получа его, по обычаю своему, взволновалось, отказалось повиноваться вождям, составило союз под именем священного и стало жить на счет польских крестьян.
Таким образом, Польша своею безурядицею дала возможность Москве несколько отдохнуть после ударов 1660 года. Но временное облегчение для Москвы последовало только с одной стороны, с юго-запада, со стороны коронного войска, а в Литве и Белоруссии не прекращались наступательные действия врагов, которым Москва при тогдашнем истощении в людях и казне не могла давать успешного отпора. При этом Малороссия не хотела понимать затруднительного положения Великой России и беспрестанно докучала просьбами о присылке войска, которого негде было взять царю. Самко жаловался, что, кроме небольшого (в 2500 человек) отряда князя Бориса Ефимовича Мышецкого, он не имел никакой помощи от царских воевод; несмотря, однако, на такую беспомощность, он, Самко, не только давал отпор неприятелю, но и сам ходил на него: в Терехтемирове громил татар, под Стайками – ляхов, под Козловом – изменника Сулиму. Посланцы наказного гетмана подали следующие просьбы: 1) чтобы государь прислал в Переяславль ратных людей на помощь; 2) прислал жалованье козакам, которые, будучи с боярином Шереметевым, коней и оружие растеряли, а теперь служат великому государю; 3) чтоб великий государь велел деньги Самковы обменять и прислать к нему; 4) чтоб указал быть у них в городе и над ратными людьми одному воеводе, а не двоим, потому что от двоих порядка не будет; именно приказал бы у них быть стольнику князю Василию Волконскому; 5) чтоб царские грамоты посылались к ним для уверения за большою печатью. В заключение посланцы объявили от имени Самка, что нежинский полковник Василий Золотаренко с ним в сопротивлении и на раду не поехал. Государь отвечал, что воеводам уже дан указ помогать черкасам, жалованье им князь Ромодановский роздал, деньги Самковы медные обменены на серебряные и отправлены с Мефодием, епископом Мстиславским.
В мае приехали новые посланцы и объявили, что в третье воскресенье после Пасхи была у них рада в поле в Быкове, с милю от Нежина; были на раде князь Григорий Григорьевич Ромодановский с своими ратными людьми, стольник Семен Змеев, наказной гетман Яким Самко, нежинский полковник Золотаренко, полковники прилуцкий, лубенский, миргородский, из Полтавского полка сотники тех городов, которые великому государю добили челом, и все войско тех полков, которые при Якиме Самке. Все выбирали в гетманы Якима Самка, одни нежинцы хотели выбрать своего полковника Золотаренка и приговорили на раде всем Войском отдать гетманское избрание на волю царского величества, кого он, великий государь, пожалует в гетманы. Полтавский полковник Жученко на раде не был, потому что вины свои великому государю не принес и сидит в Полтаве, а при нем держатся городки: Опушня, Котельва, два Санжарова, новый да старый, да Кобыляки. Юрий Хмельницкий в Чигирине, при нем писарь генеральный Тетеря, да Носач, да Грицка Лесницкий, судья войсковой, а войска при Хмельницком никакого нет; посылал он к королю на сейм, и посланец приехал назад ни с чем, даже корму ему королевского не давали. Серко пошел для добычи на Буг, на Андреевский остров, и там стоит с войском своим для татарского прихода; атаман стоит в Запорогах с большим войском; с Серком они сходятся для порядка во всяких войсковых делах, а ни к кому не приклоняются: ни к государю, ни к польскому королю. Посланцы говорили, что на раде положено отдать гетманское избрание на волю царскую, кого государь пожалует в гетманы, но в грамоте, привезенной ими от всех бывших на раде, говорилось: «Мы на той раде между собой усоветовали, что нам самим без ведома вашего царского величества нельзя гетмана выбирать, и потому через послов своих просим: извольте милость свою над нами, верными своими, показать и нам, по давнему обычаю, того гетмана избрать, кого все войско любит, и к нам на это избрание прислать кого-нибудь из ближних своих людей». Государь отвечал, что о гетманском избрании будет им указ вперед.
Указ замедлился в Москве, потому что здесь видели новую смуту в Малороссии вследствие соперничества Самка и Золотаренка; в Москве не хотели спешить выборами и потому, что являлась надежда без кровопролития подчинить себе и западную сторону Днепра. Юрий Хмельницкий, оставленный поляками и татарами, прислал в Москву с объявлением, что он в Слободищах должен был перейти на королевскую сторону поневоле. Он писал государю: «Если что со мною по принуждению заднепровских полковников учинится, если я должен буду повиноваться их принуждению, то вам бы, великому государю, не обвинять меня за это, а я вперед, как можно, стану промышлять о своем обращении и желаю быть по-прежнему в подданстве у вашего царского величества». Действительно, в Польше шли слухи, что Хмельницкий посылал монаха Шафранского в Константинополь к патриарху с просьбою разрешить его от присяги королю, а сам намеревался условиться с Брюховецким и Самком, чтоб они напали на него с московским войском: тогда он, как будто поневоле, сдался бы на царское имя, извиняясь тем, что поляки не прислали к нему помощи. Говорили также, что Выговский замышляет быть гетманом, но под покровительством Турции. Вследствие присылки Хмельницкого 26 июня отправлен был в Малороссию дворянин Протасьев; царь писал с ним к Самку: «Юрия Хмельницкого не допускают до обращения к нам немногие изменники, заднепровские полковники, которые по ляцкому хотению давно ищут погибели всему Войску Запорожскому; так вы бы, гетман наказный, служа нам, к родственнику своему Юрию Хмельницкому написали, чтоб он обратился и был под нашею высокою рукою по-прежнему; обнадежь его, что если обратится, то вины его все будут забыты и получит он от нас город Гадяч, который прежде был пожалован отцу его; если захочет ехать к нам, то пусть едет безо всякого опасения, увидит милость нашу, получит многое жалованье и честь, а твоя служба забыта никогда не будет». Приехавши в Нежин, Протасьев обратился к воеводе князю Семену Шаховскому с обычным вопросом, как идут дела? Шаховской отвечал, что все хорошо, в полковнике Золотаренке и козаках шатости нет, но есть шатость в мещанах, переписываются с изменником Грицкою Гуляницким и дают ему знать обо всем, что делается в Нежине. Потом Протасьев виделся с полковником, отдал ему царскую грамоту и дары – соболя. Золотаренко тут же стал дарить этими соболями сотников и других начальных людей, говоря им: «Служите великому государю во всем правдою так же, как и я служу, и ни на какие бы вам ляцкие прелести не уклоняться и с изменниками не ссылаться». И июля Протасьев приехал в Переяславль; здесь воевода князь Волконский объявил ему, что Самко великому государю верен, в переяславских козаках и мещанах до сих пор никакой шатости нет, о ляхах и татарах по сю сторону Днепра не слыхать. Получивши эти сведения, посланник обратился к Самку с требованием, чтоб тот по указу царскому завел сношения с Хмельницким. Самко отвечал: «Я великому государю служить рад и к Юрасу Хмельницкому писать стану скоро; но государь прислал бы для него, Юраса, милостивую грамоту, которую я перешлю к нему тайно». Протасьев перешел к другому делу: «Ты, Яким, пишешься к великому государю с вичем мимо прежних обычаев, а прежде гетманы, Богдан Хмельницкий и сын его Юрий, писались без вича, просто». Самко отвечал на это: «Я человек неграмотный, а писарь у меня новый, и такие государевы дела мне и писарю не за обычай, вперед я с вичем писаться не стану». Самко выразил беспокойство, что в последней грамоте его к царю была прописка в титулах; Протасьев отвечал: «Прописка есть, и посланцам твоим за это выговорено; только царского гнева за это на тебя нет, не сомневайся, а пиши вперед остерегательно». «В письме к Змееву, – продолжал Протасьев, – ты жаловался на царскую немилость, объяви мне, какая это немилость?» «Писал я это прежде, – отвечал Самко, – писал, что служу великому государю, не щадя головы своей, и за мою службу в то время ко мне и к козакам государева жалованья ничего не было, и я думал, что на меня государь гневается, что кто-нибудь ему на меня нанос; думал, что царскому величеству город Переяславль не надобен, потому что князь Григорий Григорьевич Ромодановский и остальных людей из Переяславля взял, и козаки, видя, что город остался безлюден, начали было шататься. Но теперь, когда великого государя милость объявилась, в городе людей прибавляется и в козаках шатости никакой нет. Пожаловал бы великий государь, не велел города безлюдным оставлять, потому что город украйный; наступит неприятель безвестно, а людей в нем будет мало, так чтоб какая поруха городу не учинилась. Изволил бы государь поскорее прислать своих ратных людей в Переяславль, так я бы стал промышлять над неприятелями, которые за Днепром, чтоб не дать ляхам и татарам собраться вместе». Протасьев уговаривал Самка, чтоб он не оскорблялся, от царского величества немилости к нему никакой нет, писем на него от воевод ни от кого не бывало, и вперед государь ссорам никаким верить не станет. «Великому государю рад служить, – отвечал на это Самко, – на том я ему крест целовал; а великий государь пожаловал бы, ссорам и наносным словам верить не велел, потому что я человек беззаступный и простой».
В Малороссии оправдывали медленность Москвы, уговаривали не давать гетманства ни тому, ни другому сопернику. Во время бытности Протасьева в Переяславле приехал туда нежинский протопоп и говорил царскому посланнику: «Слух у нас есть, что Самко и Золотаренко домогаются от великого государя созвания рады для гетманского избрания. Великий государь не велел бы сказывать гетманства ни Самку, ни Золотаренку потому: если будет Самко гетманом, то Золотаренко не будет ему послушен; а будет гетманом Золотаренко, то Самко станет под ним подкапываться. Пусть великий государь не велит сказывать гетманства ни тому, ни другому, пока утишится вся Украйна, а между тем, быть может, обратится к царскому величеству и Юрий Хмельницкий с заднепровскими полками». Сам наказный гетман по крайней мере, по-видимому, отчаивался быть настоящим гетманом, сносился по царскому приказанию с Юрием Хмельницким и давал советы Москве, как поступать относительно западной стороны Днепра. «Надобно, – говорил Самко, – крепить здешнюю сторону Днепра тем, что по Днепру поставить городки и в них посадить людей, да за Днепром занять городок Канев, чем освободится водяной путь до Переяславля и дальше, а больше того в государеву сторону ничего не надобно. Если же Юрий Хмельницкий придет в подданство к великому государю по-прежнему, то за Днепр надобно будет послать ратных людей 20000 и больше и занять там шесть городов – Чигирин, Корсунь, Умань, Канев, Браславль, Белую Церковь. Из этих городов жителей перезвать бы на сю сторону Днепра, а Заднеприе уступить польскому королю без людей; такая уступка будет из воли: польский король к миру придет скорее, и здешняя сторона Днепра под высокою рукою великого государя утвердится; если же этих заднепровских городов не занять и уступить их Польше, то король и этой стороны Днепра уступить не захочет. Если Юрий Хмельницкий поддастся по-прежнему, то ему бы над полковниками быть владетельну; при гетмане непременно должен быть человек, присланный из Москвы для того: если полковник затеет что-нибудь недоброе, то его наказать тайно, если же не уймется, то казнить смертию, а без присланного из Москвы человека быть нельзя». Таким образом, наказный гетман запорожский сам указывал на условия мира с Польшею, по которым западная сторона Днепра должна быть уступлена королю: мы увидим, что это будет исполнено в Андрусове; сам наказный гетман указывал на необходимость присутствия великороссийского чиновника при гетмане: это будет исполнено при Петре Великом. Наконец, Самко, многие полковники и старшие козаки говорили, чтоб царь указал ведать их окольничему Федору Михайловичу Ртищеву, потому что Ртищев к ним ласков, об их прошенье всякую речь доносит царю, и, что им скажет, то все правдиво.
Имея соперников, Самко хорошо знал, какими средствами действовали обыкновенно соперники друг против друга. «Я, – говорил он, – служу великому государю верно и радетельно, власти себе никакой не ищу и не желаю. Мне лучше с государевыми людьми ссылаться и советоваться, нежели с своими, потому что от своих ненависть и оболгание». Не одного Золотаренка имел в виду Самко, когда говорил о ненависти и оболганиях: на сцену выступил третий искатель гетманства, уже известный нам Иван Мартынович Брюховецкий. «О промысле над татарами, – говорил Самко, – я стану писать в Запорожье к Серку, а к Брюховецкому об этом писать не стану; лучше писать об этом к Серку, а не к Брюховецкому». Самко еще не высказывался, почему не хочет переписываться с Брюховецким, но Брюховецкий в письме к воеводе Касогову (от 14 сентября) уже прямо обвинял Самка в измене.
Но в Москве тревожились тем, что не одни свои доносили на Самка, доносили и государевы люди. В октябре явился к Хмельницкому хан крымский с ордою, и гетман волею-неволею отправился с татарами за Днепр и осадил Переяславль. Неприятелю не удалось ничего сделать над Переяславлем; но воевода Чаадаев доносил государю, что во все осадное время Самко пил и промысла от него никакого не было, на вылазки не выезжал; если козаки с государевыми людьми выйдут на вылазку, то наказный гетман приказывал вгонять их в город; если козаки возьмут в плен татар, то Самко таил их от царских воевод, таил всякую ведомость. Во время осады Самко три раза съезжался с племянником своим Хмельницким на мельничной плотине и разговаривал тайно. Возвращаясь с свидания, он рассказывал Чаадаеву, что обнадеживал племянника государскою милостию, уговаривал быть под рукою великого государя; но Юраска не слушается поневоле: всем владеют Носач, да Грицка миргородский, да Грицка Гуляницкий. В другой раз Самко прислал к Чаадаеву писаря объявить, что у него с Юрасом ссылка о добром деле, как бы всем быть под государевою рукою; а писарь спьяну проговорился, что ссылка между племянником и дядею идет о том, чтоб вместе соединиться с ханом крымским. Доносили на Самка и жители городов, говорили: «У нас бы и медными деньгами торговали, да старшие, полковники и сотники, берут себе за правежом у нас ефимки, серебряные деньги и польские гроши: оттого у нас медные деньги и в расход нейдут; а Самко приказал, чтоб нигде медных денег не брали».
Тяжела становилась для царя смута малороссийская; со всех сторон доносы в измене: кому и чему верить? Московские воеводы, если бы даже были из них люди вполне чистые по характеру и беспристрастные, как люди пришлые в Малороссии, не могли доставить государю вполне верных сведений об отношениях лиц и партий; нужен был человек тамошний, малороссийский, человек, хорошо знающий людей и отношения их, влиятельный по своему званию, чуждый партий и пристрастия, – одним словом, высшее лицо духовное, архиерей. Но мы уже видели, в какое положение ставило себя высшее духовенство малороссийское относительно правительства московского. Мы видели столкновения с Сильвестром Коссовым. Преемник Коссова Дионисий Балабан изменил царю вместе с Выговским. Таким образом, к смуте политической присоединялась смута церковная, и в Киеве не было митрополита, ибо московское правительство не могло признавать в этом звании изменника Дионисия, а политические смуты не позволяли приступать к избранию другого митрополита, поднимать вопрос, от какого патриарха зависеть ему – от константинопольского или московского. Временным правителем, блюстителем митрополии Киевской, был епископ черниговский Лазарь Баранович; но этот архиерей не пользовался большим доверием в Москве. Гораздо более усердия великому государю показывал знакомый уже нам протопоп нежинский Максим Филимонов. Он был вызван в Москву, 5 мая 1661 года поставлен в епископы мстиславские и оршанские под именем Мефодия и отправлен в Малороссию в сане блюстителя митрополии Киевской. Мы скоро увидим его деятельность.
Легко понять, что для восточной Малороссии и для Москвы важно было то обстоятельство, что западная сторона не могла воспользоваться смутою, соперничеством между искателями гетманства. Хмельницкий слишком ничтожен, а Польша ослаблена возмущением войска. Только татары напоминали о себе, и не одной Малороссии. В январе 1662 года многочисленные толпы крымцев под начальством князя Ширинского ворвались в севские и корачевские места и захватили множество пленных. Севский воевода боярин князь Григорий Семенович Куракин отправил против них товарища своего Григория Федоровича Бутурлина. Бутурлин напал на разбойников, взял в плен самого князя Ширинского, много татар и, что всего важнее, освободил русских пленников, которых было до 20000. С другой стороны сам хан подошел к Путивлю, но был отброшен воеводою боярином князем Иваном Ивановичем Лобановым-Ростовским и не пошел дальше.
Татарская туча прошла, и опять все внимание царя сосредоточилось на делах малороссийских. Весною 1662 года в Москве узнали, что в Козельце была рада для избрания гетмана, и немедленно пришли об этой раде различные известия: с одной стороны, писал Самко и преданные ему полковники, что на раде был епископ Мефодий, полковники, сотники и есаулы сей стороны Днепра, а черни и всего поспольства не было; черни и поспольству Самко быть не велел потому, чтоб городу больших убытков не было; на раде выбрали в гетманы Самка до указа великого государя, а как великого государя указ будет о полной раде, то на этой полной раде гетман велит быть всему поспольству и черни. Когда после рады присутствовавшие разъехались по домам и приехали в Нежин епископ Мефодий и Василий Золотаренко, то последний епископу говорил, что Самко принял гетманство самовольством, а он, Василий, с своим полком ни в каких расправах его слушать не хочет. «Васюта, – писали приверженцы Самка, – обещал идти к нам в войско, но когда епископ Мефодий в Нежин приехал, то Васюта обещание свое и присягу отменил, на службу вашего царского величества идти не хочет, нам всем сомненье, а неприятелям потеху сделал; нашу верную службу уничижает, самовольно не повинуется власти войсковой, упрямством дома живет, только казну сбирает и стережет, а границ не обороняет; боимся, чтоб не исполнилось на нем слово Брюховецкого, что Васюта в конституции у короля написан и сделан шляхтичем». Прося о присылке оборонной грамоты на Золотаренка и всех непослушных, приверженцы Самка просили царя, чтоб оборонил их и от Брюховецкого, который их бесчестит; просили, чтоб всему Войску вольно было всякого старшего и меньшего по рассмотрению с гетманом но своему обычаю карать и чтоб виновного в их глазах никто из воевод московских не защищал, а только со всем Войском приговаривал; «а то теперь князь Шаховской, поверивши несправедливому умыслу Васютину, государевых ратных людей в городки Нежинского полка посылает, как будто бы мы с гетманом Нежин разорить хотели». Приверженцы Самка извещали, что жители малороссийских городов, послышав о порче медных денег на Москве, не берут их у войска и живности ниоткуда не привозят, государевы ратные люди с голоду помирают и междоусобие беспрестанное в тех городах, где они живут; полки не берут годового жалованья медными деньгами, хотя бы их рубить велели, но всех не перерубить.
Легко понять, какое впечатление должны были произвести в Москве подобные грамоты: Самко и приверженцы его писали бессмыслицу, за которою скрывалось какое-то незаконное дело: что это была за рада в Козельце без черни и поспольства? Гетман выбран, зачем же еще нужна новая рада? Что-нибудь одно: или рада в Козельце была незаконная, или новая рада не нужна! Из грамот самих приверженцев Самка уже можно было видеть, что в Малороссии начинается то же самое, что было при Выговском: гетман выбирается на какой-то странной раде, но вот новый Пушкарь, Золотаренко нежинский, противится, говорит, что избрание незаконное, гетманство взято самовольством, и, конечно, царь не должен в другой раз поверить новому Выговскому; а тут еще для довершения сходства приверженцы Самка требуют, чтоб царь позволил им разделаться с противниками, карать их, как Выговский спешил покарать непослушника своего Пушкаря.
Епископ Мефодий спешил оправдать подозрения, естественно рождавшиеся по прочтении грамот Самка и его приверженцев. «Пока не видал я подлинного лукавства наказного гетмана Якима Самка, – писал Мефодий, – до тех пор не смел об нем ничего худого тебе, великому государю, объявить; но теперь, когда лукавство его и неправда обнаружились, трудно мне этого тебе, великому государю, не известить, потому что душа моя отдана богу и тебе. Самко обманул меня и полковников – нежинского, черниговского, прилуцкого и других: писал, чтоб съехались в город Козелец с небольшими людьми для великих государевых дел, для скорых войсковых потреб и для разговору, посоветоваться, как бы с неприятелем управиться. Когда мы к нему съехались, то он начал говорить, чтоб полковники выбрали себе совершенного гетмана, чтоб им было у кого быть в послушании и чтоб было кому против неприятелей стоять; и в ту ночь, 14 апреля, ввел в Козелец несколько тысяч козацкой пехоты, расставил везде караулы и не велел никого выпускать из города. Я ему говорил, чтоб он этого не делал и не приказывал выбирать гетмана до твоего, государева, указа; но он меня не послушал и велел полковникам выбирать совершенного гетмана; я стал говорить полковникам, чтоб не выбирали, но он начал грозить им смертию, и они поневоле выбрали его. 15 апреля я выгнал его из церкви от присяги, а он пуще стал грозить полковникам смертью; те бросились ко мне с просьбами, и я, видя их слезное прошение, чтоб не погубить их, как-нибудь из Козельца вывесть, и особенно жалея верного твоего слуги, Василья Золотаренка, позволил Самку делать что хочет». В заключение письма Мефодий просил, чтоб государь поскорее прислал боярина для гетманских выборов, чтоб эти выборы были в поле, а не в городе и чтоб на них были запорожцы с своим кошевым Брюховецким. Мефодий жалел больше всего верного слугу царского Золотаренка и, однако, просил, чтоб на раде был Брюховецкий, который, прокладывая себе путь к гетманству, не щадил ни Самка, ни Золотаренка. Он писал к Мефодию: «Пан Васюта не имеет права перехватывать и драть моих грамот, я не его служка, я царский войсковой холоп; пусть он прежде расплатится за пшеницу, которую с братом покрали в Корсуни, а теперь запрещает не мне, а всему войску. Завидуют нашей бедной саламате; коли хотят, поменяемся: пусть сюда идут, а мы на их место пойдем, в то время узнают, кто кого обманет. Васюта не надейся, чтоб его здесь слушали, потому что войско в откупах не ходит, как они, хотят выманить булаву и указывать тем, кто их не хочет слушать; научились до году откупа откупать и табак, а войско привыкло умирать только за свои вольности. Этим особым гетманством они до конца землю сгубят. Царское величество обещал не делать насилия войску, признавать гетманом только того, кого чернь, по воле божией излюбив, выберет, а не силою; никогда не бывало, чтоб гетманы были накупные, без заслуг войсковых, а теперь прежде невода рыбу начали ловить; теперь прежде всего надобно землю успокоить. Все войско скучает, говорит: долго ль нам еще такую неволю терпеть, что в городах гетманов ставят на нашу пагубу, а теперь и подавно кричат, что никого не было при князе Ромодановском. Васюта только о богатстве хлопочет, которое в земле погниет, а ничего доброго родине этим не насоветует или к ляхам свезет, чтоб заплатить за шляхетство: ведь он там должен в конституцию, как Гуляницкий и другие; боюсь, чтоб он не задумал чего-нибудь недоброго. Бедная наша отчизна гибнет, потому что не хотим оборонять ее от неприятелей, а только за гетманством гоняемся; еще нам нового наследника Выговскому и Хмельницкому паны городовые хлопочут прибавить. Самко пуще цыгана всех людей морочит, а он-то и есть главный изменник, на обличение которого посылаю грамоту к вашей святыне; нам не о гетманстве надобно заботиться, а о князе малороссийском от его царского величества; на это княжество желаю Федора Михайловича (Ртищева)».
Самко хорошо знал, что на него со всех сторон посылаются обвинения в Москву, что его выставляют там изменником – слово, пошедшее в ход в Малороссии с легкой руки Выговского, считавшееся верным средством вредить противнику пред великим государем. 30 мая Самко написал в Москву жалобную грамоту, в стопы ног царских челом бил, посылал тридцать человек татар, взятых в плен. «Из этой посылки, – писал Самко, – ваше царское величество рассмотреть изволишь, что, не щадя головы своей с своими переяславскими козаками, бьюсь с неприятелем за ваше величество и за целость падшей Малороссии. Смиренно молю: покажи премногую милость над верным слугою своим, не дай меня в поношение соперникам моим, которые выставляют меня перед тобою изменником; они в домах своих сидят, помощи нам на неприятеля давать не хотят и, не считая самих себя изменниками, грамотами оправдываются, а работою оправдываться не хотят; а мою работу и верную службу сам господь бог видит; за всех один умирал на пограничье и теперь совсем готовый стою в поле со всеми доброжелательными вашему величеству людьми, жду присылки боярина и милостивого слова от вашего величества. Не знаю, для чего епископ с Васютою меня изменником описывают? Я не перестану плакать об этом до тех пор, пока не пришлешь ко мне таких грамот, чтоб всякий мой противник и непослушник устыдился. Да бью челом, повели, многомилостивый государь, прислать мне деньги, которые я дал взаймы на ратных людей воеводе Чаадаеву: прошу я об этих деньгах, вспомнив, что всякий человек смертен, и если я умру, то некому будет бить о них челом вашему царскому величеству, потому что было у меня два сына, но они вдруг померли, и я хочу, чтоб при жизни моей все мое было у меня. Бью челом вашему царскому величеству, чтоб епископ перестал побуждать на злое, а те люди, которые были надуты советами епископскими, пусть начнут вместе со мною верно служить вашему царскому величеству. Смиренно молим, изволь на все войско пустить вольный голос о выборе гетманском, по старому предков наших порядку, а епископ чтоб в это не вступался; я хлопочу не о гетманстве, проливаю кровь за целость Малой России и за добрый порядок и убиваюсь впрямь верою и правдою за ваше царское величество». Самко утверждал, что не хлопочет о гетманстве, требовал новой рады, выбора вольными голосами, а между тем на той же грамоте подписался гетманом, не хотел отступиться от титула, приобретенного на незаконной Козелецкой раде
Но в то время как раздоры между Самком, Золотаренком и Брюховецким волновали восточную сторону Днепра, на западной Юрий Хмельницкий собрался с силами и, подкрепленный поляками и татарами, начал наступательное движение. 12 июня козаки западной стороны с поляками и татарами, в числе 6000, напали внезапно на Самка, стоявшего табором в трех верстах от Переяславля; битва длилась с полудня до ночи, и Самко отбился. К нему на выручку прислал князь Волконский из Переяславля московских ратных людей, которые и дали ему возможность отступить в Переяславль. Хмельницкий осадил его здесь, но 8 июля Самко с Москвою и козаками вышел на вылазку и поразил неприятеля, который отступил к Каневу. Кременчукские козаки изменили, 23 июня впустили в город две тысячи козаков Хмельницкого, но 500 человек московского гарнизона вместе с мещанами засели в малом городе и отбили осаждавших. Узнав об этом, князь Ромодановский немедленно выслал к ним на помощь десять тысяч московского войска. 1 июля это войско подошло к Кременчуку и ударило на осаждавших; осажденные сделали с своей стороны вылазку, козаки потерпели совершенное поражение, и Кременчук был очищен от изменников. Ромодановский с главными силами своими и с Золотаренком вступил в Переяславль, соединился здесь с Самком и 16 июля напал на таборы Хмельницкого, который потерпел совершенное поражение. Канев и Черкассы были заняты царскими войсками. Но скоро счастье переменилось: Хмельницкому с татарами удалось разбить под Бужином московский отряд, бывший под начальством стольника Приклонского, и прогнать его за Днепр (3 августа); по донесению Хмельницкого королю, 1 августа под Крыловом истреблено было больше 3000 царского войска; под Бужином погибло 10000, козаки и татары взяли семь царских пушек, множество знамен, барабанов и разных военных снарядов. После этого Ромодановский тотчас велел отступать, бросая тяжести; но султан Магмет-Гирей, переправившись с своими татарами через Сулу, настиг Ромодановского, разбил его, взял 18 пушек и весь лагерь. Ромодановский ушел в Лубны. Но Хмельницкий, донося об этих успехах королю, умоляет прислать поскорее помощь, жалуется на свое бессилие, на невозможность удерживать в повиновении украинский народ, шатающийся от малейшего ветра. Тетеря писал королю, что, приехав в стан Хмельницкого на Рассаве, он нашел здесь много беспорядков: сам гетман человек усердный, но войско непослушное. И Тетеря настаивал на том же, что необходимо как можно скорее прислать помощь Хмельницкому, иначе дела примут дурной оборот. В октябре явился к королю Грицка Лесницкий с просьбою от Хмельницкого, чтоб король позволил ему сложить гетманство, ибо он не в состоянии более нести эту трудную должность, будучи молод и разорен подарками, которые должен был давать татарам и которые простираются до миллиона. Лесницкий же привез страшную новость, что соперничество между Москвою и Польшею, соперничество, разорившее Украйну и не могущее окончиться по бессилию обеих держав, пролагает дорогу третьему сопернику: татары, говорил Лесницкий, уговаривают всю Украйну, чтоб она отторглась от республики и отдалась в покровительство хана и Порты, которые способны защищать ее, тогда как Польша этого сделать не хочет и не может: поляки ссорятся между собою у себя дома, войско не слушается короля, и если бы не татары, то Польша давно бы уже погибла. Лесницкий прибавлял, что эти внушения могли иметь сильное влияние на чернь. Тетеря доносил, что Войско не терпит Хмельницкого, требует его смены и что едва он, Тетеря, успел уговорить козаков успокоиться; для этого он употребил угрозу, что если они обидят Хмельницкого, то этот богач наймет татар и опустошит Украйну. Мы не знаем, действительно ли Тетеря уговаривал козаков не сменять Хмельницкого; знаем только то, что последний в конце 1662 года сам отказался от гетманства и постригся в монахи, а Тетеря избран был на его место. Новый гетман начал тем, что уведомил короля о нестерпимых обидах от Орды, повторяя прежнюю просьбу о присылке ратных людей, ибо если хан придет прежде польского войска, то Украйна распрощается с королем. Тетеря писал, что Хмельницкий потому отказался от гетманства, что не мог получить от короля помощи, и он, Тетеря, должен беспрестанно докучать об этом же, а на Войско Запорожское надежда слаба, потому что в нем больше таких, которые желают не спокойствия, а постоянных смятений.
В то время как западная сторона переменила гетмана, на восточной по-прежнему продолжалась борьба между искателями гетманства, борьба, ведшаяся доносами в Москву. Самко бил челом, чтоб государь отставил его от старшинства, потому что нежинский полковник его слушаться не хочет и наносы на него наносит; жаловался, что в Малороссии трое гетманов, кроме него еще Золотаренко и Брюховецкий: последний самовольно прислал своих козаков в города и в полках берет стации; Самко просил уволить его от гетманства и дать оборонную грамоту, чтоб на него и на имение его наступать не смели и никаких обид не делали. Самко жаловался и на князя Ромодановского, просил, чтоб на его место был прислан другой боярин, потому что Ромодановский, не слушая его советов, тратит войско, слушается только Мефодия и Золотаренка, генеральной рады не собирает, отчего смута и своевольство, ибо он, Самко, как гетман несовершенный, распоряжаться не может. «Мефодий и Васюта, – продолжает Самко, – отговариваются от рады отсутствием запорожцев: но у нас всегда, по стародавным правам, гетманов выбирали в городах без запорожцев, потому что Войско Запорожское одно, выходящие из Запорожья должны по своим полкам расходиться. Теперь орда нас заперла и множество людей побила; а на Преображеньев день под самыми Лубнами татары, напавши на табор нежинский, многих побили, сам полковник, табор оставя, наперед ушел в Лубны. Все это приключилось оттого, что епископ и Васюта отвели князя Ромодановского от совета с нами, в поле, в безхлебие вывели; неопытные в делах войсковых, епископ и Васюта были виновниками потери славы и людей. А я, вашего царского величества верный слуга, хотя и уничижен ими, загоны все из-за Днепра вывел и в Переяславль пришел в целости. Умоляю, милосердый государь, вели князю Ромодановскому или кому-нибудь другому собрать полки козацкие, чтоб больше, как бедные овцы без пастыря, не ходили и не гинули, но при своих вольностях стояли бы за веру православную, а теперь и сами не знаем, за что погибаем?» Относительно Юрия Хмельницкого Самко извещал, что он посылал к нему каневского полковника Лизогуба уговаривать покориться государю; но Хмельницкий велел расстрелять посланного в Чигирине и с ним вместе многих других каневцев, черкасцев, корсунцев, которые начали было радеть государю. За это Самко велел порубить 10 человек пленных поляков, «потому что мы, – писал он в Москву, – никакого добра от ляхов не ищем». Потом Хмельницкий дал знать Самку, что слагает с себя гетманство и идет в монахи.
Самко жаловался на Мефодия за то, что епископ этот вместе с Золотаренком советовали Ромодановскому медлить созванием рады; а Мефодий писал царю, что Самко не поехал на раду сам и другим запретил; полковники нежинский и черниговский отговорились дальностью пути и тревожным состоянием страны; иные полковники, боясь Самка и глядя на Золотаренка, не поехали. Брюховецкий писал, что Самко – изменник, потому что хулит московские серебряные копейки, велел спалить суда, которыми царь пожаловал Войско низовое, Кодак уступил татарам, Кременчук, сговорись с Хмельницким, сжег; верных государю людей отослал к Хмельницкому, который, по его письмам, переказнил их. А тут еще церковная усобица: митрополит Дионисий Балабан послал к константинопольскому патриарху с жалобою, что Мефодий изгнал его и силою похитил митрополичий престол посредством мирской власти. По просьбам Балабана и Хмельницкого патриарх выдал на Мефодия проклятие, которое Балабан переслал в Киев, отчего здесь произошло сильное волнение между духовными и мирскими людьми. Мефодий просил царя ходатайствовать у патриарха о снятии проклятия.
В таких смутах проходил 1662 год. Зимою нечего было думать о созвании рады, имевшей прекратить эти смуты, и потому 19 декабря отправлен был из Москвы в Малороссию стольник Ладыженский с объявлением, что весною должна быть непременно рада, на которую обязаны все явиться, а для прекращения неудовольствий на зиму Ладыженский должен был объявить Брюховецкому, стоявшему в Гадяче, чтоб он шел на зиму к себе в Запорожье, а весною приходил опять для рады. Это требование сильно не понравилось Брюховецкому; он отвечал Ладыженскому: «Не дождавшись государева указа и полной рады, в Запороги мне появиться нельзя, свои козаки меня убьют тотчас, зачем я столько людей водил и, не дождавшись рады, пришел. Самко заказ делает в городах крепкий, чтоб в Запорожье никто не ходил и запасов не пропускал; а если надо мною Самко или козаки что сделают, то Запорожье смятется и в городах будет замятия большая. По сношениям с Самком Юраска Хмельницкий многих за Днепром полковников и козаков казнил, которые великому государю добра хотели; а чернь вся и теперь хочет поддаться великому государю; когда выберется гетман всеми вольными голосами, пункты закрепятся и черным людям в поборах легче будет, то за Днепром, смотря на это, черные люди поддадутся великому государю». Ладыженский, по наказу, повторял царское требование; Брюховецкий расплакался: «Рад я государю служить и голову за него положить; но выгреб я с козаками в судах, у козаков лошадей нет, живучи здесь многое время, пропились все донага, зимою идти нельзя, тотчас меня убьют свои козаки; да и Самко великому государю не верен, на дороге меня убьет, как Выговский Барабаша, и если надо мною что случится, то, говорю тебе сущую правду, вся Украйна смутится и Запорожье отложится. Если государь весною полной рады учинить не велит, то я извещаю, что Самко поддастся королю: для этого Юраска Хмельницкий и гетманство сдал Павлу Тетере по родству. Чего прежде у нас никогда не бывало, нынче гетман, полковники и начальные люди все города, места и мельницы пустопорозжие разобрали по себе, всем владеют сами своим самовольством и черных людей отяготили поборами так, что в Цареграде и под бусурманами христианам такой тягости нет. Когда будет полная черная рада и пункты все закрепятся, то все эти доходы у гетмана, полковников и начальных людей отнимут, а станут эти доходы собирать в государеву казну государевым ратным людям на жалованье: поэтому-то наказный гетман и начальные люди полной черной рады и не хотят». 14 января 1663 года у Брюховецкого с его козаками был круг; в кругу козаки кричали, что они наги и бесконны и пешком им в Запорожье никак идти нельзя; а еще накануне, 13-го числа, Брюховецкий написал царю такую грамоту: «Мы, все Войско Запорожское, с великою охотою ради бы указ твой исполнить, но не можем, потому что время зимнее; теперь на зиму из Запорожья в города за хлебом приходят, а не из городов идут в Запорожье; притом же путь туда из Гадяча дальный, с полтораста миль; а за порогами никаких городов нет, ни сеют, ни орут, только отсюда из городов хлеб добывают, и то разве саблею. Умилосердись, государь праведный, не дай погибнуть головам нашим от безбожных изменников, изволь несколько полков ратных людей к нам прислать, а в городах позволь быть нам до полной рады».
В Гадяче Ладыженский нашел и епископа Мефодия, который был совершенно на стороне Брюховецкого и говорил московскому посланнику те же речи, что и тот, так же толковал об измене Самка; приехали полковники – полтавский, миргородский и зенковский – и подтвердили слова Брюховецкого и Мефодия. Ясных доказательств измены Самковой представить не могли и потому внушали, что Юрий Хмельницкий Самку племянник, а Самкова сестра за Павлом Тетерею, которому Хмельницкий сдал гетманство, и как только Самко сделается совершенным гетманом, то непременно изменит. Рассказывали, что Беневский с ханом все пункты положил и хан к королю приказывал, чтоб черкасам для прелести жаловал большие почести, хотя бы кого и в краковские воеводы пожаловал, только бы всех черкас обратил к себе; а когда все черкасы будут под властью короля, то он будет их мало-помалу сжимать и приведет их в свою волю; для этого он и прислал Павла Тетерю и велел ему принять гетманство у Юраски Хмельницкого. В Гадяче Ладыженский узнал, что Золотаренко сблизился с Самком и согласился на избрание его в гетманы; московского посланника известили, что Золотаренко все свое имение перевез из Путивля в Нежин. «По этому их верность знать можно, – толковали Ладыженскому, – пока Золотаренко с Самком не еднался, до тех пор государю и прямил, а теперь имение свое все из Путивля перевез, чтоб у него ничего в старых государевых городах не было». Мефодий говорил Ладыженскому: «Мне по государеву указу ехать в Киев нельзя, не смею, потому что Самко государю не прочит, хочет изменить, а меня велит погубить; государь бы пожаловал, до полной рады велел мне жить в Гадяче».
Когда Ладыженский приехал в Переяславль, то здесь Самко рассыпался перед ним в жалобах, что он служит верою и правдою, а государь его не жалует, гетманом после козелецкого избрания не утверждает. Ладыженский отвечал, что государь не утверждает его по розни полковников, которые не все в Козелецкой раде были, и хочет, чтоб его, Самка, выбрали полною радою, согласно с правами. Самко продолжал: «Если государь епископа Мефодия из Киева и изо всех черкасских городов вывести не велит, а быть ему на раде, то мы и на раду не пойдем; никогда и митрополиты на раду не езжали и в гетманы не выбирали; служить великому государю от таких баламутов нельзя, я гетманство с себя сдаю, выбирайте себе, черкасы, ласкового господаря. Государевы люди живут в Переяславле многое время, государево жалованье дают им деньгами медными, а у нас, в черкасских городах, деньгами медными не торгуют; от этого ратные люди оскудели вконец и начали воровать беспрестанно, многих людей без животов сделали, жить с ними вместе нельзя». Ладыженский упомянул о царской милости к нему. Самку; тот отвечал: «Посланники, приезжая из Москвы, всегда мне государские милости сказывают, а не только что государева жалованья не могу дождаться и своих денег, которые дал взаймы воеводе Чаадаеву на жалованье государевым ратным людям 4000 рублей». Ладыженский отвечал, что деньги не привезены потому, что дороги небезопасны. Потом Самко обратился к Брюховецкому: «Зачем Брюховецкий называется гетманом? В Запорожье бывают только кошевые атаманы; Брюховецкому верить нельзя, потому что он полулях; был ляхом, да крестился, а в войске не служивал и козаком не бывал, служил он у Богдана Хмельницкого, и приказано ему было во дворе, а на войну Богдан его с собою никогда не брал. Козаки порознь по своим лейстрам (реестрам) переписаны, а мужики себе переписаны будут; леестровые козаки станут государю служить, а с мужиков станут собирать государеву казну и хлебные запасы; а теперь, в этой розни, у великого государя все пропадает, называются все козаками, на службу нейдут и государевой казны не платят; а как неприятели наступят, то козаки леестровые многие, не хотя государю служить, а мещане, не хотя податей давать, бегают в Запорожье, да только на себя рыбу ловят, а сказывают, будто против неприятеля ходили».
В то время как Ладыженский жил в Переяславле, приехал человек Самка, Жилка, посыланный к Тетере. Ладыженский зазвал Жилку к себе и расспрашивал, потчевал и дарил и вот что узнал: был он, Жилка, у гетмана Павла Тетери, а Юраска Хмельницкий при нем постригся, и жить ему в Чигирине в Новоскицком монастыре. Писал Самко к Тетере, чтоб им друг с другом жить мирно, а Тетеря писал, чтоб им соединиться и поддаться королю; но козаки говорят, чтоб сложиться с татарами; а татары говорят, что у турского они отягчены великою данью и им бы от турского отложиться да с черкасами жить заодно: Павел Тетеря на той стороне непрочный гетман, пойдет опять в Польшу к королю, потому что он секретарем у короля. Ладыженский после разговоров с Жилкою пошел к Самку и потребовал, чтоб он дал ему все письма, присланные Тетерею. Самко отвечал: «Теперь я начал пить, имею вольность, а какие у меня есть листы, все пошлю в Москву». Тетеря, давая знать королю о сношениях своих с Самкою, писал: «Пан Самченко склоняется отчасти к добру и, как я понял из его письма, прельстится еще больше, если ваша королевская милость уверите его и всех заднепровцев явным ручательством и другою особою привилегиею в том, что не будете мстить ни ему и никому из Заднепровского Войска и что наравне с нами даруете ему свободу и милость».
В Гадяче Ладыженскому говорили, что Золотаренко соединился с Самком, хочет его в гетманы; в Переяславле Самко утверждал, что в Нежине была рада, полковники и чернь выбрали его в совершенные гетманы и лист ему прислали, закрепя руками своими и печатями; а на весну по траве быть раде только затем, чтоб князю Ромодановскому отдать ему при полковниках и при всей черни пункты и привилеи. Но когда Ладыженский сказал об этом в Нежине Золотаренку, тот отвечал: «В Нежине у нас рада была нынче о том, чтоб государь пожаловал, велел до весны полную раду отсрочить, а до полной рады быть старому гетману, Самку, чтоб между нами розни не было; а на полной раде кого всею чернью выберут, тому и быть гетманом; в совершенные гетманы Самка не выбирали; это он затеял; он беспрестанно ссылался с Юраскою Хмельницким, а теперь ссылается с Тетерею, и верить ему нельзя».
И в грамоте к царю Самко повторил просьбу не допускать епископа Мефодия на раду; повторил и жалобу на воровство московских ратных людей, которые били, грабили переяславцев и называли их изменниками; Самко требовал смертной казни виновным и жаловался на переяславского воеводу князя Волконского, который воров не казнит, как будто сам с ними вместе ворует. Царь в марте месяце отправил в Переяславль стольника Петра Бунакова разыскать по жалобе наказного гетмана. Когда Бунаков явился к Самку и подал ему царскую грамоту, тот отвечал, что на царской милости челом бьет, но что розыску обидным делам сделать нельзя: ратные люди обижали персяславцев долгое время, так что иные обиженные побиты на боях, другие взяты в плен, иной челобитчик и есть, да ответчика нет, ответчик налицо, так челобитчика нет, и потому теперь от переяславских жителей на ратных людей челобитья не чаять; пусть великий государь пожалует, вперед своим ратным людям обижать переяславцев не велит. Бунаков жил в Переяславле с 29 мая по 28 июня, на съезжем дворе сидел каждый день, и во все это время только раз приведен был драгун, пойманный в краже, повинился, был бит кнутом на козле и в проводку и отдан на поруки. Бунаков призвал переяславских начальных людей и спросил их, будут ли наконец челобитные от переяславцев на московских ратных людей или нет? Те отвечали, что по прежним челобитным некоторые переяславцы учинили сделки с обидчиками; иные ратные люди в исках сидят в тюрьме и стоят на правеже; а вновь челобитий вскоре не чаять и ему, Бунакову, в Переяславле жить, надобно думать, незачем.
Между тем в апреле месяце Брюховецкий писал к князю Ромодановскому, что Самко с Тетерею тайно войну ведут против великого государя таким обычаем: Тетеря татар призывает, а Самко государевых бедных людей грабит и платеж вымышляет; теперь, говорят, по его же призыву три тысячи татар пошли к Путивлю, чтоб помешать раде. Но татары не помешали раде. Еще в марте государь отправил в Малороссию окольничего князя Данила Великого-Гагина объявить старшине, войску, мещанам и черни, чтоб они учинили черневую генеральную раду для выбора совершенного гетмана всеми вольными голосами, кто им будет люб, по их стародавным войсковым правам и по переяславским статьям. Под Нежином в июне месяце собралась эта рада: приехали епископ Мефодий, Самко, Брюховецкий, все полковники и вся старшина, было все войско и мещане. Брюховецкий и отсюда не замедлил отправить донос в Москву; 8 июня он писал царю: «По указу вашего пресветлого царского величества, благодетеля нашего милостивого, пришел я с войском на раду под Нежин и стою в Новых Млынах, потому что полковники и чернь просят, чтоб я сжидался с ними. А Васюта Золотаренко докладывался у окольничего князя Великого-Гагина, чтоб позволили ему с нами драться, потому что не любит правды, которую ему чернь хочет в глаза говорить и объявлять его измену, что он с Самком усоветовал отложиться от вашего царского величества, для чего и города все укрепили, и колокола на пушки перелили. Только их совет господь разорил счастьем вашего царского пресветлого величества, и если бы эти смутники на сей стороне Днепра чернь не обманывали, то и та сторона давно бы под вашею высокою рукою была; полковник Поволоцкий недавно побил всех ляхов и жидов, которые были в его полку; теперь он один так сделал, а если б не Самко с Васютою смущали здесь народ, то и все полковники за Днепром сделали бы то же, что Поволоцкий». Брюховецкий подписался: «Верный холоп и нижайшая подножка пресветлого престола».
Наконец судьба искателей гетманства решилась. 18 июня была знаменитая черная, или генеральная, рада, о которой так много толковали и переписывались. Не дали еще Гагину дочитать царского указа о гетманском избрании, как с одной стороны раздались крики: «Брюховецкого!», а с другой: «Самка!», но за криками следовала драка: запорожцы Брюховецкого кинулись на приверженцев Самка; бунчук наказного гетмана был сломан, он сам едва мог выдраться из толпы и скрыться в шатер царского воеводы; несколько человек было убито; победители запорожцы столкнули Гагина с его места и выкрикнули своего кошевого гетманом. Гагин, однако, не дал Брюховецкому утверждения от имени царского: Самко объявил ему, что гетманство Брюховецкого, приобретенное насилием, не есть законное, что ни он, ни Войско не признает его гетманом и что необходимо собрать новую раду. Рада была созвана, но Самко не получил от нее никакой выгоды, потому что приверженцы его перешли на сторону Брюховецкого, провозгласили его гетманом и стали грабить возы своей старшины; единственною причиною такого отступничества малороссийский летописец полагает непостоянство своих соотечественников. После этого нового избрания, против которого нельзя было ничего сказать, Гагин дал булаву Брюховецкому. Запорожцы праздновали свое торжество трехдневным убийством: гибли неприязненные Брюховецкому полковники, и их место заступали запорожцы. Новый гетман отправил в Москву благодарственное посольство и вместе с Мефодием по-прежнему твердил об измене Самка и Золотаренка; обвиненные отданы были на войсковой суд, по древнему обычаю казацкому; судьями были враги-победители, которые и приговорили побежденных к смертной казни; приговор был исполнен в Борзне 18 сентября в присутствии обозного Ивана Цесарского, киевского полковника Василия Дворецкого и прилуцкого Данилы Песоцкого. Вместе с Самком и Золотаренком казнены были: Афанасий Щуровский, Аникий Силич (полковник черниговский), Степан Шамрицкий, Павел Киндей, Ананка Семенов, Кирилл Ширяй. Десять человек: Семен Третьяк, Матьяш Панкеев, Дмитрий Черняевский, Самойла Савицкий, Михайла Вуяхеев, Фома Тризнич, Иван Воробей, Семен и Прокофий Кулженские, Левка Бут, лубенского Мгарского монастыря игумен Виктор были отвезены в оковах в Москву; отвезли их те же Цесарский и Дворецкий. Украйна волновалась. В Чернигове все начальные люди радели полякам, купцы и чернь тянули к Москве. Черниговский епископ Лазарь Баранович хвалился, что он удержал Новгород-Северский за Москвою. В Киеве воевода Чаадаев успел приобрести всеобщую любовь, но волновалось войско по причине медных денег: двадцать медных денег платили за одну серебряную.
Таким образом и прекращение распри между искателями гетманства не обещало продолжительного спокойствия в Малороссии; а между тем Польша оправилась, войско получило жалованье, Мы уже упоминали, что в Белоруссии и Литве война продолжалась очень неудачно для Москвы. Осенью 1661 года Хованский вместе с Ординым-Нащокиным потерпел новое поражение при Кушликах от литовского войска, бывшего под начальством Жеромского; из 20000 русских не более тысячи спаслось в Полоцк вместе с Хованским и раненым Нащокиным; Литва хвалилась, что потеряла только человек около 40 убитыми и взяла множество пленных, в том числе сына Хованского; девять пушек, знамена, образ богородицы, бывший с Нащокиным при Валиесаре и которым так дорожили и царь и воевода, достались победителям.
Потеряны были Гродно, Могилев, самая Вильна. В этой столице Литвы сидел воеводою стольник князь Данила Мышецкий только с 78 солдатами. Сам король осадил Вильну и отправил к Мышецкому литовского канцлера Паца и подканцлера Нарушевича с требованием сдачи, обещая для воеводы и всех ратных людей свободный выход к московским границам с казною и со всем имением. Мышецкий отвечал, что сдаст город, если король позволит ему распродать весь хлеб и соль и даст ему под его пожитки 300 подвод. Король не согласился на распродажу хлеба и соли и обещал дать воеводе только 30 подвод. Тогда Мышецкий объявил, что хотя все помрут, а города не сдадут. Король велел своему войску готовиться к приступу. Узнавши об этом от перебежчика, Мышецкий велел у себя в избе, в подполье, приготовить 10 бочек пороху и хотел, зазвавши к себе в избу всех солдат, как будто бы для совещания, запалить порох. Но солдаты проведали об этом умысле, схватили воеводу, сковали и выдали королю. Когда его привели к Яну-Казимиру, то он не поклонился: король, видя его гордость, не захотел с ним говорить сам, а выслал канцлера Паца спросить его, какого он хочет милосердия? «Никакого милосердия от короля не требую, а желаю себе казни», – отвечал Мышецкий. Его желание было исполнено; перед казнью читали сказку, что Мышецкого казнят не за то, что он был добрый кавалер и государю своему служил верно, города не сдал и мужественно защищался, но за то, что он был большой тиран, много людей невинно покарал и, на части рассекши, из пушек ими стрелял, иных на кол сажал, беременных женщин на крюках за ребра вешал, и они, вися на крюках, рождали младенцев. Перед смертию осужденный написал духовную, которую потом один монах доставил в Москву: «Память сыну моему, князю Ивану Даниловичу Мышецкому, да жене моей, княгине Анне Кирилловне: ведайте о мне, убогом: сидел в замке от польских людей в осаде без пяти недель полтора года, принимал от неприятелей своих всякие утеснения и отстоялся от пяти приступов, а людей с нами осталось от осадной болезни только 78 человек; грехов ради моих изменили семь человек: Ивашка Чешиха, Антошка Повар да Сенька подьячий – и польским людям обо всем дали знать. От этого стала в замке между полковниками и солдатами шаткость большая, стали мне говорить шумом, чтоб город сдать; я склонился на это их прошенье, выходил к польским людям на переговоры и просил срока на один день, чтоб в то время, где из пушек разбито, позаделать; но пришли ко мне начальные люди и солдаты все гилем, взяли меня, связали, заковали в железа, рухлядь мою пограбили всю без остатка, впустили польских людей в замок, а меня выдали королю и просили казнить меня смертию, а сами все, кроме пяти человек, приняли службу королевскую. Король, мстя мне за побитие многих польских людей на приступах и за казнь изменников, велел казнить меня смертию». Приговор был исполнен поваром княжеским; тело казненного похоронено в Духовом монастыре. После в Вильне рассказывали, что многие люди видели, как обезглавленный воевода расхаживал около своей могилы.
Смоленский воевода князь Петр Долгорукий, извещая государя об успехе, одержанном князем Данилою Борятинским над поляками при Благовичах (в Могилевском уезде), прибавляет: «В Быхове хлебных запасов ничего нет, ратные люди едят траву и лошадей». В самом Смоленске на рынках не было хлебного привоза, потому что уездные люди, обмолотивши хлеб, ссыпали его в ямы, а солому жгли и никто не вез хлеба на продажу в город. Царь должен был грозить им за это жестоким наказанием безо всякой пощады. Грозя смоленским уездным людям наказанием за укрывательство хлеба, царь приказывал пустошить вконец другие уезды, не имея другого средства вредить усиливающемуся неприятелю. Так, в сентябре он послал указ Долгорукому отправить ратных людей в уезды Дубровинский, Оршанский, Копысский, Шкловский, Могилевский, Кричевский с тем, чтоб они забрали жителей, хлеб и скот, а сено и солому жгли без остатку, чтоб польским людям в зимнее время пристанища не было. Ратные люди исполнили охотно этот царский указ в надежде обогатиться добычею. Они подошли под Копыс, разбили неприятеля, сделавшего на них вылазку из этого города. Ходить на приступы было запрещено, чтоб не тратить людей, в которых чувствовался большой недостаток. Желая постращать жителей Копыса и принудить их к сдаче без бою, воевода Толочанов велел пускать в город гранаты, от которых загорелось два двора. Тут солдаты, ударив в барабаны, закричав ясаком, пошли на приступ. Толочанов бросился к полковникам, крича, что на приступы ходить не велено; полковники отвечали, что солдаты пошли без их приказания, самовольно. Тогда воевода отправил полковников Вильяма Брюса и Николая фон Залена отвести солдат от города, послал с полковниками есаулов и дворян; но полковники, возвратясь из-под города, объявили, что солдаты их не послушали, поручиков и дворян перебили, полковника Брюса ранили по руке, фон Залена кирпичом в голову. Приступ не удался, солдаты были перебиты и переранены. Толочанов спрашивал возвратившихся с приступа, зачем они пошли без приказания? Те отвечали: «Нам обухов не перетерпеть, мы всеми полками скажем, что нам велели идти полковники и начальные люди». Если слышались частые жалобы из Малороссии на побеги ратных людей, то в Белоруссии было то же самое: из отряда майора Дурова убежало 35 человек, у полковника Жданова 57, налицо осталось 564; у стрелецкого головы Колупаева не пошло на службу из Москвы 46 человек, ушло 128, налицо 209; у полковника Дефрома убежало 226 солдат, налицо 330 и т. д. Борисов еще с 1660 года находился в осаде; в 1662 году воевода его Кирилла Хлопов писал, что ратные люди беспрестанно бьют челом о соли, а ему дать им нечего и он боится, чтоб от них не сделалось чего-нибудь дурного, потому что они сильно скучают и изменяют, начали перебегать к польским людям. Смоленский воевода князь Петр Долгорукий доносил, что у него пороху и фитилю нет. В мае месяце из Кобрина вышел полковник Статкеевич с тем, чтоб стянуть литовские отряды, находившиеся в Полоцком, Витебском, Борисовском и Минском поветах, идти с ними в Оршу и стеречь, чтобы осажденные в Быхове и Борисове не получали из Москвы подкреплений и запасов; узнав, что из Смоленска к Быхову идут московские ратные люди с денежною казною и запасами, Статкеевич послал свое войско перенять их. В пяти верстах от Чаус, между реками Пронею и Басею, поляки Статкеевича встретились с русскими, бывшими под начальством иностранца, генерал-майора Вильяма Друмонта: в упорном бою 15 знамен старой королевской пехоты были истреблены все до одного человека, конницу победители топтали на 15 верстах и взяли в плен 70 человек. Но этот частный успех но мог переменить общего хода дел в пользу Москвы. Поляки знали, что пехота начинает перебегать из московских полков вследствие скудного жалованья, получаемого медными деньгами; что для предупреждения побегов солдат и стрельцов в Смоленске не пускают за городские стены; что иностранные офицеры недовольны опять вследствие плохого жалованья медными деньгами и насильственною задержкою в России; что солдаты бегут из самой Москвы и из полков украинских, бегут в степи и в Сибирь; что в Москве сам царь лично два раза упрашивал войско не покидать службы; что большая половина смоленской шляхты склоняется на сторону королевскую; что в самой Москве по причине медных денег дороговизна, голод и возмущения. В Литве, в местечке Виленах, в это время находилось 242 русских чиновных пленника, в том числе один стольник (князь Петр Иванович Хованский), 3 полковника, 2 стрелецких головы, 4 подполковника, 7 ротмистров, 2 майора, 8 капитанов, 15 поручиков, 11 прапорщиков, 103 человека дворян и детей боярских. Так как их содержали очень дурно, то царь считал своим долгом посылать к ним деньги, что еще увеличивало военные расходы: так, в начале 1662 года роздано было пленным в Литве 836 золотых червонных да взаймы, для нужды и голоду, дано 82 золотых. Кроме того, были пленные у короля, Чарнецкого и других сенаторов.
Чем хуже шли дела в Белоруссии и Литве, тем сильнее становилось в Москве желание мира. В 1661 году попытка царя задержать военные действия мирными переговорами не удалась. Съезд посольский, обещанный в октябре, не состоялся. В марте 1662 года новый посланник царский, стольник Нестеров, приезжал в Варшаву с тем же предложением перемирия на время посольских съездов. Сенаторы отвечали, что если царь уступит королю Киев, Переяславль, Нежин и все черкасские города Заднепровской Путивльской стороны, также Полоцк, Витебск, Динабург, Борисов и Быхов, то король велит заключить перемирие и удержать войска месяца на два или на три для посольского съезда, которому быть на Поляновке. Нестеров отвечал, что в два или три месяца уполномоченные не успеют съехаться; для перемирия на два или на три года он уступит королю Борисов, о других же городах ему говорить не наказано; потом согласился уступить еще Динабург: но паны объявили ему решительно, что перемирия не будет, а ратные люди отведутся на 15 миль от того места, где будет назначен съезд уполномоченных; сенаторы прибавили, что если постановлять договор о перемирье, то надобно посылать к крымскому хану, что потребует много времени; без пересылки же с крымским ханом перемирья заключить нельзя. Нестеров отвечал на это: «Удивительно, что королевское величество и вся Речь Посполитая в государстве своем без ведома искони вечного христианского неприятеля крымского хана сделать ничего не можете и не смеете; а крымский хан между христианскими государствами никогда покою не пожелает, и о том королевскому величеству крымского хана спрашивать не доведется». Паны отвечали: «Крымский хан нам товарищ, да и король и вся Речь Посполитая перемирья заключить не хотят». На это Нестеров сказал: «С которой стороны перемирью не быть, с той стороны и правде не быть». Но царские уполномоченные – боярин князь Никита Иванович Одоевский, боярин князь Иван Семенович Прозоровский, думный дворянин Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин и думный дьяк Алмаз Иванов уже отправились в Смоленск, куда к ним высланы были и польские пленники – гетман Гонсевский, полковники Неверовский и Обухович с товарищами, всего 212 человек, потому что за этих пленников король обещал отдать окольничего князя Осипа Щербатого, стольников князей Семена Щербатого и Григорья Козловского, Ивана Акинфова; а гетман Гонсевский обещал государю, что за него король даст кроме означенных пленников еще князя Петра Хованского. Гонсевского немедленно отпустили из Смоленска в Шклов; но русские пленники не были возвращены, потому что Потоцкий, Любомирский, Чарнецкий, на долю которых они достались, не хотели отпустить их без окупу. Между тем из Борисова пришла весть, что съестные запасы все вышли и немцы сильно скучают; в Москве признали невозможным поддерживать долее этот город и послали приказ воеводе его Хлопову покинуть Борисов. 9 июля Хлопов исполнил приказ, вышел из города со всеми ратными людьми, пушками, запасами и казною.
Лето проходило. Польские комиссары не являлись для переговоров. Австрийские послы, приехавшие для посредничества, жили понапрасну в Смоленске. В августе приехал в Смоленск выпущенный из плена окольничий князь Осип Щербатый; но вместе с ним приехал львовский купец грек Кирьяк, который заплатил за пленника Потоцкому 20000 золотых польских и теперь приехал искать своих денег. Так как Потоцкий взял деньги вопреки решению короля и сейма, определивших, чтоб пленных не давать на окуп, то в записи, данной Щербатовым, было означено, что окольничий посулил гетману подарок за его добродейство. Полномочные послы велели выгнать Кирьяка из Смоленска и писали шкловскому коменданту: «Вы пишете в своей грамоте, что окольничий князь Щербатов отпущен из шкловской крепости по приказу королевскому за гетмана Гонсевского: так вопреки указу королевскому с какой стати он будет еще платить деньги за какое-то добродейство гетмана Потоцкого? То ли гетманское добродейство, что вопреки присяге своей вместо увольнения пленником его сделал и, по бусурманскому обычаю, захотел его продать? Когда гетман Гонсевский по милости великого государя нашего из плена был освобожден, то на нем никаких подарков никто не спрашивал. Христианское ли то дело, чтоб христианину христианами как скотом торговать и прибыли по-бусурмански искать?» Несчастный грек считал также себя вправе думать, что с ним поступили по-бусурмански: он писал к Одоевскому с товарищи: «Сам князь Щербатов обещался мне и поручился; вы обещались, что будет мне свободный пропуск в Москву. Я у пленников был отцом и добродеем, а теперь как изменник выгнан из Смоленска. Христианское ли это дело – бедного торгового человека приводить к такой пагубе, что мне уже незачем к бедным моим детям возвратиться? Камень бы заплакал, смотря на мою обиду, какой и бусурманы не делают. Такие обиды государства до пагубы приводят. Со слезами к ногам вашим припадаю, пропустите меня к наияснейшему царю, а он, государь христианский великий, еще ни одному нашему брату торговому человеку обиды не сделал и бедных сирот не ослезил». Потоцкий прикрыл выкуп именем подарка, но Чарнецкий не считал нужным церемониться: он прямо потребовал с пленных, находившихся у него в Тикотине, с 75 человек окупу 16000 рублей, мех рысий или за него сто рублей денег да барса; пленники посулили окуп, не стерпя тяжкой нехристианской неволи и немерной работы. Послы отписали Чарнецкому, чтоб он, зная сеймовое постановление о размене пленных, оставил бусурманский обычай; отписали всему войску коронному, чтоб оно московских пленников высылало на размену на своих поляков, которых множество в Московском государстве. Наконец в сентябре освобождены были обещанные за Гонсевского знатные пленники – князья Семен Щербатый, Григорий Козловский, Петр Хованский, Иван Акинфов. Для остальных назначена была в местечке Горах генеральная размена, для чего съехались с обеих сторон разменные комиссары; меняли чин на чин и человека на человека; на время размены условились прекратить неприятельские действия. В октябре комиссары разъехались, не кончивши размены; русские комиссары жаловались на несоблюдение условий со стороны поляков. Во время размены королевские ратные люди приходили под Витебск, в Витебском повете села и деревни разорили и город держали в большой тесноте; другой отряд поляков приходил под Великие Луки, выжег посады, в уезде села и деревни разорил; наконец во время же размены поляки напали на русский отряд, возвращавшийся с хлебными запасами из Полоцка в Витебск. Польские комиссары не отдавали русских начальных людей на обмен за польских, своих начальных людей называли волонтерами и шишами; за русских полковников и полуполковников просили своих товарищей по шести и по семи человек; товарищей, драгунов и челядников, брали выбором, шляхту, свою братью, родовитых людей, называли челядью и хлопцами и давали за них не против их версты людей боярских и мужиков, побранных в обозах и в дороге за возами, а не на бою. Тщетно русские комиссары настаивали, чтоб поляки брали за полковника шляхты и драгунов по четыре человека, за полуполковника по три, а за иные чины, кроме прапорщиков, по два; поляки делали по-своему и, оставя своих пленных, человек с двести, уехали из Гор и задержали русских пленных, начальных людей, в Шклове. Освобождено же было русских пленников всего 438 человек, поляков отпущено 381 человек; за разменом осталось в Смоленске поляков и литвы 366 человек да у князя Петра Долгорукого 150; польские комиссары потому требовали так много шляхты за начальных русских людей, что между польскими пленными начальных людей не было. Не зная еще о прекращении размены, из Москвы продолжали высылать польских пленников, так что в ноябре в Смоленске было их 611 человек; двор, на котором прежде помещались пленники, и тюрьма стали тесны, а на мещанских дворах ставить их было нельзя, потому что все дворы были заняты ратными людьми. Пленным давали – шляхтичу по десяти медных денег на день, челяднику и драгуну по шести, да каждому по четверику сухарей и по гривенке соли на месяц. Но воевода смоленский князь Петр Долгорукий объявил, что в казне сухарей мало и вперед пленным давать будет нечего. Государь, получив об этом известие, велел Одоевскому давать за русских начальных людей столько польских пленников, сколько запросят комиссары, лишь бы русские люди, будучи в плену, не померли напрасною смертью.
Но число русских пленников, начальных людей, увеличивалось у поляков: 16 декабря королевские войска под начальством полковника Черновского взяли приступом Усвят, пленили воеводу и многих государевых людей побили и побрали в плен; шляхетский ротмистр Глиновецкий, шляхтич Сестринский и мещанский войт были повешены за то, что не сдали города полякам. Посланец Одоевского Дичков понапрасну жил в Вильне, дожидаясь какого-нибудь ответа от комиссаров; те отпустили его ни с чем, отговариваясь, что сами не получают никакого приказа от короля. Дичков привез в Смоленск известие о страшной смерти гетмана Гонсевского и маршалка Жеромского: 16 ноября явились в Вильну товарищи войсковые Хлевинский да Новошинский с толпою ратных людей и спрашивали, где Гонсевский и Жеромский? Им сказали, что Жеромский в церкви у обедни, а Гонсевский у себя дома лежит болен. Новошинский отправился в церковь, где был маршалок, и потребовал, чтоб тот ехал с ним к войску. «Дайте мне отслушать обедню», – отвечал Жеромский. Тут солдаты схватили его и силою повели из церкви. Напрасно служивший обедню священник говорил им. что они этим оскорбляют дом божий; солдаты обругали ксенза изменником, вывели Жеромского и повезли его за город. Отъехавши 12 миль по Гродненской дороге, на реке Немане солдаты бросились на свою жертву, иссекли саблями и забили обухами до смерти. По той же дороге Хлевинский вез в карете больного Гонсевского, с которым сидел его домовый ксенз. В десяти милях от Вильны гетмана встретил еще отряд ратных людей; увидя их, Гонсевский сказал ксензу: «У Минуция написано, что нынешнего дня будет убит великий человек вместе с товарищем своим». Только что он успел сказать это, как ехавшие навстречу солдаты поравнялись с каретою и закричали, чтоб он выходил. «Для чего выходить?» – спросил гетман. «Выходи! – кричали солдаты с ругательствами. – Пришел твой час!» Гонсевский вышел и стал говорить: «Везите меня в войско, потому что по правам нашим и челядника без суда не карают, не только что гетмана». «Не указывай!» – закричали солдаты и хотели немедленно его расстрелять; несчастный мог вымолить только сроку, чтоб исповедаться у ксенза. Убийцы выставили три обвинения против Гонсевского: 1) При освобождении своем из плена присягнул царю, что с помощью Орды и шведов подведет Польшу под власть государеву; разглашали, что у гетмана захвачены царские грамоты. 2) Пропустил в Ригу товарные струги смоленских и витебских мещан. 3) Приехал в Вильну Устин Мещеринов с грамотами, без войскового ведома был у гетмана ночью и грамоты ему отдал. Жеромского убили за то, что был с Гонсевским в одной думе.
В феврале 1663 года царь приказал Одоевскому пересмотреть пленных, находившихся в Смоленске, и разделить их на две части: которые познатнее, тех держать в Смоленске, а которые похуже, тех отпустить в Польшу без размены и наказать им бить челом королю, чтоб он сделал то же и с русскими пленниками. Вслед за тем отпущена была из Москвы другая толпа пленников, также без размены. Одоевский с товарищами получил приказ возвратиться в Москву, а в Польшу еще в 1662 году отправился Ордин-Нащокин с предложением тесного союза под условием уступки Смоленска и северских городов, как было до Смутного времени, с предложением денег для расплаты с бунтующим войском за уступку Южной Ливонии. Но знаменитый московский дипломат не успел в своем деле: чтоб заключить выгодный мир, король считал необходимым перейти самому на восточный берег Днепра.
В третий раз страшная опасность начала грозить Москве. 8 сентября отправлена была к находившемуся при Брюховецком воеводе стольнику Кириллу Хлопову такая грамота: «Говорить гетману тайным обычаем: если король польский со всем войском коронным и с изменниками черкасами той стороны Днепра и с крымскими татарами станет наступать всеми силами, то, по самой конечной мере, если устоять против них будет нельзя, гетман должен укрепить осаду во всех городах и, соединившись с воеводою князем Григорием Григорьевичем Ромодановским, отступать к пограничным московским и черкасским городам, к крепким местам, где пристойнее, по своему рассмотрению». Для удержания союзников королевских, татар, еще прежде успели подкрепить Запорожье: туда от Белгородского полка Ромодановского отделен был отряд из 500 человек драгунов, солдат и донских козаков под начальством стряпчего Григория Касогова. Сначала этого отряда было достаточно, потому что война велась мелкая: кременчугские козаки опять перешли в королевскую сторону, их примеру последовали жители городов Потока и Переволочны. В Кременчуге засел наказный гетман западной стороны Петр Дорошенко. Узнавши, что в Запорожье пробирается московский отряд, Дорошенко в июле месяце послал проведать об нем двести козаков и сотню татар, которые столкнулись с людьми Касогова под Кишенкою и были побиты; переволочане опять поддались великому государю; Касогов в другой раз побил татарских загонщиков под Кишенкою и, соединившись с запорожцами и калмыками, отправился в сентябре за Днестр; здесь выжгли они ханские села, много в них побили армян и волохов и 20 сентября возвратились в Сечь все в целости; на другой день, 21-го числа, явились в Сечь 1200 запорожцев, которые ходили на море, пришли они пешком и рассказывали кошевому своему Ивану Серко и Касогову, что настигли их на море турецкие суда, бились с ними три дня и две ночи, на третью ночь козаки утекли от турок к берегу, изрубили свои суда и полем пустились домой. 2 октября Серко и Касогов выступили под Перекопь; 11-го числа ночью Серко с пешими черкасами и солдатами вошел в Перекопский посад с крымской стороны, а Касогов с конными черкасами и русскими людьми пришел к воротам перекопским с русской стороны; большой каменный город был взят, но малого русские взять не могли и ушли, зажегши большой город; янычары и татары преследовали их верст с пять. 16 октября Касогов и Серко возвратились в Сечь; из отряда Касогова было убито только десять человек; пленных в Сечь не привели, порубили, не пощадив ни жен, ни детей, на том основании, как доносил Касогов, что в Крыму и Перекопи было поветрие; но приехали в Москву запорожские посланцы с тою же вестию о походе под Перекопь и объявили: «В Перекопи при нас морового поветрия не было, слышали они, что было поветрие, но задолго до их прихода; пленных мы всех порубили, будучи между собою в ссоре, а кошевой атаман Иван Серко писал про моровое поветрие к гетману Брюховецкому, думаем, от стыда, что языков к нему послать было некого, потому что войском всех побили».
Скоро после этого начали приходить от Касогова печальные вести: он писал, что 23 ноября прислал изменник Тетеря в Запорожскую Сечь посланцев своих двух крыловских мещан с прелестными листами, и когда эти листы читали в раде, то половина запорожцев не хотели и слушать, но другие обрадовались; начались шатости в Запорогах большие; Серко боится за себя, за московского воеводу и за всех государевых ратных людей; запасы, привезенные Касоговым, вышли, а покупать в Запорожье – осминка муки ржаной стоит пять рублей, а пшена и не добыть ни за какие деньги, отчего многие ратные люди разбежались. Касогов приготовился уже к смерти и писал к отцу своему: «Батюшка! Помилуй меня, дай благословение и прости, потому что, думаю, в последний раз пишу к тебе. Если черкасские города сдадутся, то и Запорожье сдастся королю и мне с Серком тут мат: и теперь бунтуют и на нас совещаются; чуть только осилят, сейчас выдадут нас или ляхам, или татарам. Смилуйся, государь! девочку мою не покинь! Ох, жаль, как душе с телом, с нею расстаться и не видеть до дня Судного! Больше писать не умею от печали лютой; помилуй меня, прости грешника и не забудь за меня к богу через нищих послать и душу мою бедную помянуть; челядь мою русскую вели отпустить на волю, а татар вели удержать, на обмену пригодятся. Умились над бедною, век свой в горе скоротавшею моею женою-сиротою, не вели ее оскорбить после меня; не утешилась, бедная, при мне, только состарилась и от бедного житья сокрушилась».
От гетмана сначала приходили хорошие вести: осенью 1663 года, 15 октября, Брюховецкий дал знать царю, что генеральный есаул взял приступом город Поток; 23-го воевода Хлопов дал знать, что они с гетманом ходили под Кременчуг и взяли его со всеми людьми, нарядом и знаменами. Но в то же самое время получена была в Москве грамота Мефодия из Киева (от 12 октября); епископ писал, что 8 октября король Ян-Казимир пришел в Белую Церковь, которая от Киева только в 60 верстах; в Киеве малолюдно, а город большой. «Бога ради, – писал Мефодий, – изволь, великий государь, в прибавку прислать в Киев ратных людей поскорее; да и к гетману изволь прислать войска, а гетман Иван Брюховецкий тебе от всего сердца верно служить хочет; укажи князю Григорию Григорьевичу Ромодановскому поспешить в украинские и черкасские города, также и другим войскам от Севска, Путивля и Брянска, потому что там войска эти даром стоят, только даром людей едят, а здесь очень надобны. Киев, Чернигов и вся Украйна тебе, великому государю, очень надобны, потому что за этими черкасскими городами твое Российское государство как за стеною твердою стоит и стоять будет; сохрани боже уступить Киева и других черкасских городов, тогда король и ляхи дальше пойдут; кто тебе об уступке Киева станет советовать, тот богу и тебе враг и изменник. Прошу также милости, вели переменить переяславского воеводу князя Василия Богдановича Волконского: человек упрямый; лучше его переменить, нежели из-за его вражды с гетманом какая поруха учинится». Царь отвечал, что велел сменить Волконского и на его место будет пока воевода Хлопов. 11 ноября получено было письмо от Брюховецкого (из Гадяча от 30 октября). «Верный и во веки неотступный холоп, низко пред пресветлыми царского пресветлого величества престола ногами до лица земли упадая и смиренно бьючи челом», уведомлял, что король имел совещание в Белой Церкви со всеми начальными людьми, изменниками и султаном крымским, после чего король придвинулся к городу Ржищеву на берег Днепра и войска его начали переправляться за реку у Ржищевской пристани. «Я, – писал Брюховецкий, – все свои полки против неприятеля собираю и иду вместе с воеводою Кириллом Осиповичем Хлоповым. Но высоким своим разумом извольте рассмотреть, что нам с такими малыми войсками на польские, татарские и изменничьи войска идти опасно; а князь Ромодановский ваших указов не исполняет и с войском на оборону малороссийских городов нейдет, пишет ко мне, что войско распустил, пишет ко мне, что пойдет в малороссийские города, когда к нему калмыки придут, тем самым поход свой вдаль откладывает, а неприятель, не слыша о силах, против него идущих, в отчине вашего царского величества распространяется и города прельщать будет. Не только князю Ромодановскому, но и боярину Петру Васильевичу Шереметеву и калмыкам надобно со мною соединиться; против короля надобно приготовиться строем, ибо хотя при нем и малые силы, однако это не Выговский и не Гуляницкий; надобно готовиться, чтоб города на этой стороне удержались в верности; неприятель готовится на бой кровавый, и султан крымский загонов не распускает; я послал в Запорожье к Серку, чтоб с калмыками шел к Чигирину». Киевскому полковнику Василию Дворецкому, бывшему тогда в Москве, Брюховецкий писал: «Удивляюсь радению князя Ромодановского, который, собравши войско, все лето стоял в Белгороде, а как узнал о приходе королевском, то войско по домам распустил: не знаю, уж не пришла ли к нему грамотка от брата его, Выговского? Приход королевский на Украйну дело великое: никто ни чем не откупится, а я своею лысою головою силы неприятельские не сдержу, некому уже стало верить! Изволь Федору Михайловичу (Ртищеву) обо всем словесно объяснить, пусть не кручинится, что пишу обо всем правду: когда Украйну потеряют, то и всем достанется».
В это время приезжает в Малороссию для переговоров с гетманом государевых тайных дел дьяк Дементий Минич Башмаков, привозит старшине соболей на 1700 рублей, и вот со всех сторон сыплются к нему доносы. Мефодий дал ему знать из Киева, чтоб охал осторожнее: малороссийские жители шатки и непостоянны, верить им нечего; под час неприятельского прихода чаять от них всякого дурна; в Глухове атаман и войт толковали, что черкасам никому верить нельзя, люди непостоянные и некрепкие, против неприятелей долго стоять не будут. Воевода Хлопов передавал вести, полученные тайно от Брюховецкого, что в Киеве дела очень плохи от умысла злых людей: король идет к Киеву по присылке киевских жителей, а вся злая беда учинилась от старицы Ангелины, которая учит в Киеве епископову дочь грамоте и, что услышит от ученицы, про все дает знать в Польшу и к Тетере. «Надобно думать, – говорил Брюховецкий, – что у епископа есть прозябь большая и неверность в раденье великому государю; об этом я заключаю из того, что киевские монахи взяли себе на поруки нежинского атамана Шлютовича, который ушел, отпустили его монахи нарочно и велели ему, собрав козаков и татар, приходить на государевы черкасские города. Я за этими монахами посылал прилуцкого полковника Песоцкого, но епископ их ко мне не присылал, а взял с них золотые червонные. Боюсь, чтоб епископ злым своим умыслом не сдал Киева королю. Если король через Днепр переправится, то боюсь, чтоб все малороссийские города вдруг ему не сдались; при мне войска в сборе ничего нет, и рад бы я собраться, но козаки меня не слушают, не собираются нигде, и потому буду сидеть в городах в осаде до прихода государевых больших полков».
17 ноября свиделся Башмаков с гетманом в Батурине и говорил ему: «В Нежине на генеральной черновой раде ты выбран гетманом всеми вольными голосами и присягнул на верное и вечное подданство великому государю; и великий государь вас, гетмана, старшину и всю чернь, держит под своею самодержавною высокою рукою в милостивом жалованье по прежним вашим правам и вольностям и по переяславским статьям, какие постановлены в 59 году при прежнем гетмане, Юрии Хмельницком, и вам бы, выслушав те статьи, подписать». Статьи были прочтены; но гетман и старшина, выслушав их, отвечали: «Нам всех этих статей за разореньем от неприятельских приходов и за скудостью никак содержать теперь невозможно; в то время, когда эти статьи становлены, Малая Россия вся, обеих сторон Днепра, была в соединении и у царского величества в подданстве, и города хотя и были поразорены, да все не так, как теперь». «Постановление этим статьям давнее, а не новое, – возразил Башмаков, – гетман Богдан Хмельницкий их содержал». «При Богдане Хмельницком, – отвечал гетман, – неприятели так, как теперь, не наступали, да и наступать было нельзя, за обороною великого государя сами неприятелей гоняли, и малороссийские жители в то время были во всяких покоях и зажитках». Пуще всего гетман с старшинами из статей Богдана Хмельницкого отговаривали вторую статью, о сборе в царскую казну денежных доходов, да шестую, о раздаче жалованья Войска Запорожского начальным людям и козакам. «Пристойное ли это дело, – говорили они, – что у сбору и раздаче быть войтам, бурмистрам, радцам, и с кого теперь такие многие доходы сбирать и козакам раздавать; только это дело начать, и мне, гетману, от козаков и места не будет, всякий захочет жалованья, а собрать будет не с кого». Громче всех кричали судья войсковой Юрий Незамай да стародубский полковник Иван Плотник; чтоб подкрепить себя перед царским посланцем, они наконец сказали: «Новые переяславские статьи принимали заднепряне, а теперь они в измене». «На Нежинской раде, – возражал Башмаков, – вы этих статей не оспаривали, под статьями приложены руки таких людей, которые теперь у государя в подданстве вместе с вами, служат верно и ни в какой измене не оказались; потом, вы хотите оставить именно те статьи, которые были присланы гетманом Богданом Хмельницким и содержаны им до конца жизни, и потому оставить их никак нельзя. Ты, Незамай, и ты, Плотник, говорите, что заднепровские жители все в измене; но этими словами вы и себя к изменникам причисляете, потому что жены ваши, дети и родичи теперь за Днепром, а можно было вам до неприятельского прихода на эту сторону Днепра их перевесть. Вы все отговариваете вторую и шестую статьи за скудостию и неприятельским нашествием, но тому не всегда быть. Если вы в статьях усмотрели что-нибудь ненадобное, то вы бы прислали бить челом об этом великому государю, а самим бы вам его государской воли не отговаривать; помните ли, что Павел-апостол написал: рабы владыкам во всем да повинуются».
Гетман и старшина уступили, приняли все статьи и подписали 19 ноября, обещая бить челом о тех статьях, которых по настоящему времени содержать нельзя. Башмаков объявил, что государь жалует Войску имение Самка и его советников; гетман и старшина били челом до лица земли, но приговорили с Войском, чтоб все это имение, по стародавнему обычаю, отдать вдовам и сиротам казненных, потому что за одну вину дважды не карают. Башмаков потребовал, чтоб во все малороссийские города послать универсалы под войсковым жестоким караньем, велеть всех прежних и нынешних перебежчиков сыскать и отправить на прежние места жительства и учинить впредь заказ крепкий под смертною казнью – Московского государства служилых и всяких чинов людей, боярских холеней и крестьян в малороссийские города не принимать, чтоб от этого государевой службе и податям порухи, а помещикам и вотчинникам напрасного разоренья и убытков не было. Гетман отвечал, что теперь этого сделать нельзя, ибо жители здешней стороны Днепра, услыша о таком договоре, могут передаться королю; а как война минует, тогда царское требование исполнить будет можно. Башмаков говорил: козельские и остренские жители, скупая хлеб в Глухове и других местах, отпускают за Днепр без ведома гетмана и старшин, этим поднимают цены на хлеб здесь и помогают заднепровским изменникам и татарам; так надобно запретить продавать хлеб за Днепр, кроме Киева. Если же запретить этого нельзя для удабривания заднепровских жителей, чтоб они склонялись под царскую руку, то позволять им покупать хлеба указное число с гетманского и старшин ведома, и они станут считать это себе за великое благодеяние и друг другу начнут выставлять вашу доброту и переселяться на здешнюю сторону от тамошнего разоренья. Гетман с старшинами отвечали, что по этому предмету уже давно выданы крепкие универсалы и еще будут выданы.
Потом Башмаков указал гетману на беспорядки, господствующие в Малороссии: «Не только козаки не переписаны, но и мещане и поселяне, их земли, мельницы и угодья, не переписаны ранды и коморы для поборов, оброков ни на что не положено; ты, гетман, и вы, старшина, не знаете, сколько теперь в Войске козаков и что им доведется дать жалованья в год, сколько с мещан и с угодий их каких поборов в год собрать можно? Козаки без переписи на службе бывают не все, ездят по своей воле и из полков отъезжают без вашего отпуска». Гетман и старшина отвечали, что теперь, когда неприятель над головами, реестра писать и казны собирать нельзя, а как военная пора минется, тогда будет можно. Наконец Башмаков потребовал, чтобы малороссиянам запрещено было ездить в Великороссию с заповедными товарами, с вином и табаком; гетман обещал разослать универсалы с угрозою, что, если кто из малороссиян будет пойман в великороссийских городах с вином и табаком, у тех вино и табак будут отбираться на царское величество безденежно. Наконец, гетман обещал давать на прокормление московским ратным людям, которые будут в Малороссии для ее защиты: воеводам – по мельнице с двумя колесами мучными, головам и полковникам – по 50 осмачек, подполковникам и майорам – по 25, ротмистрам и капитанам – по 20, поручикам, прапорщикам и сотникам – по 10, рейтарам, драгунам, солдатам и стрельцам – по 4 осмачки ржаной муки на год.
Толкуя с царским дьяком, гетман постоянно напоминал, что неприятель над головами, и наконец гроза разразилась: король перешел на восточную сторону. Чтоб привлечь к себе малороссиян, он выкупал у татар русских пленников и отпускал их по домам; ратным людям запрещено было брать что-либо силою у жителей, и три шляхтича были повешены за нарушение этого предписания. Надобно было употреблять нравственные средства, ибо материальных было у короля очень недостаточно: для завоевания страны при самом Яне-Казимире находилось только три полка конных, в них 25 хоругвей, под хоругвию человек по 50 и по 60; пехоты при короле было только 300 человек; у гетмана Потоцкого – три полка конных козацких, пехоты 4000 человек да две роты гусар; у Чарнецкого – три хоругви гусар, три полка козацких, в которых 36 хоругвей, под хоругвию человек по 60 и по 80, да 400 драгун; у Песочинского – 9 рот немцев, 150 солдат (жалдаков), три полка поляков, в которых 800 человек. Союзных татар было 5000; 14000 литовского войска, под начальством Сапеги, Паца и Полубенского, стояло в Досугове. Король надеялся, что одного появления его достаточно, чтоб вырвать восточную сторону из рук царя, и сначала действительно успех порадовал его: тринадцать городов отворили ворота полякам; но потом дела приняли другой оборот: надобно было останавливаться под городами, тратить время и людей. Лохвица не сдавалась и была взята только жестоким приступом, на котором осаждающие потеряли много народу. Не сдался и Гадяч: к нему подошел Тетеря с ляхами и козаками, изготовил уже приступные вымыслы, но отошел прочь, услыхав о движении калмыков и князя Григория Ромодановского. Сам король потерпел неудачу под Глуховом и должен был вывести за Десну свое голодное войско: только оплошность царского воеводы князя Якова Куденетовича Черкасского спасла поляков от совершенного истребления.
Прошла и третья туча. Неуспех Яна-Казимира поддержал спокойствие в Запорожье. Серко и Касогов остались целы и невредимы и не сидели праздно в Сечи: 6 декабря вместе с калмыками отправились они опять под Перекопь, чтоб мешать хану идти на помощь к королю и взять языков. Они спокойно жгли татарские села в кутах над Черным морем, отгромили русского и черкасского полона больше ста человек, как 11 декабря напали на них Татарские толпы из Перекопи; русские и калмыки, отбиваясь, отступали две мили к реке Колончаку, здесь устроили кош, учинили бой, перекопскую орду побили и рубили татар до самой Перекопи, живых брать в плен калмыки не дали, в руках кололи. Эти подвиги по-прежнему совершались с самыми незначительными силами: с Серком было 90 человек черкас, с Касоговым 30 человек донских козаков да 60 калмыков, а татар, если верить Касогову, было человек с тысячу. В январе 1664 года Серко отправился за две реки – за Буг и за Днепр, где, напавши на турецкие села повыше Тягина, многих бусурман побил и добычу великую взял; из-под Тягина пошел на черкасские города, лежащие по Бугу; жители этих городов, как только заслышали о приходе Серка, так тотчас же начали ляхов и жидов сечь и рубить; Браславский полк и Калницкий, Могилев (на Днестре), Рашков, Уманский повет поддались московскому царю. Вследствие этих успехов Москвы на западной стороне Днепра составился план – вытеснить поляков отовсюду и провозгласить господство царя; начальниками движения были митрополит Иосиф Тукальский, преемник Дионисия Балабана в королевской стороне, и киевский воевода, бывший гетман, которого в Москве не иначе называли как изменником, Иван Астафьевич Выговский. Еще в 1662 году освободившийся из польского плена князь Козловский объявил: «В Вильне наместник Духова монастыря Дорофеевич говорил мне: приехал в Духов монастырь архимандрит Бутович, духовный отец Выговскому; великому государю надобно бы его пожаловать соболями, а он говорит, что надеется Выговского и заднепровских козаков уговорить поддаться по-прежнему государю». Неизвестно, воспользовались ли в Москве этим объявлением и завязали ли сношения с Выговским посредством Бутовича, только в начале 1664 года Выговский вошел в сношения с полковником Сулимою, который должен был поднимать восстание во имя царя и Выговского, истреблять польских старост, отнимать имения у шляхты. Но польский полковник Маховский предупредил замысел, захватил Выговского и после военного суда расстрелял его как уличенного изменника, а Брюховецкий в универсале своем от 23 марта провозгласил, что Выговский погиб за веру христианскую. Иосиф Тукальский был заточен в Мариенбург вместе с монахом Гедеоном Хмельницким. Несмотря на неудачу этого предприятия, поляки должны были теперь уже защищать западную сторону Днепра от царских войск: 4 апреля в Крылове сошлись с Серком Касогов с своею маленькою дружиною и остальные запорожцы с наказным кошевым Сацком Туровцом. Касогов доносил, что заднепровские полки, чернь вся с радостью поддались под государеву руку, ляхов и Тетериных единомышленников побили. Но не поддавался Чигирин и призвал к себе Чарнецкого, который с 2000 конницы 7 апреля напал на Серка и Касогова под Бужином; после жестокого боя русские, по словам Касогова, пришли к Бужину в целости, а поляков побили много. Чарнецкий осадил их в Бужине; они отбивались от него день и ночь с 7 по 13 апреля и отбились. Чарнецкий отступил; Серко и Касогов воспользовались этим и перешли в Смелую, но здесь были снова осаждены Чарнецким и Тетерею и снова отсиделись без урона для себя. Освободившись в другой раз от осады, Серко и Касогов отправились на восточную сторону Днепра, где соединились с новым отрядом московских ратных людей и с калмыками. Тетеря писал к канцлеру Пражмовскому, что только мир с Москвою может успокоить Украйну; он предлагал также, опираясь на мнение Чарнецкого и всей старшины козацкой, что самым лучшим средством для предупреждения бунтов козацких будет отделение нескольких староств, где бы козаки жили под управлением своих гетманов, не зная старост и подстарост; этим уничтожатся все неприязненные столкновения козаков с республикою. Тетеря опять указывал на страшную опасность со стороны татар, явно стремящихся оторвать Украйну от Польши; и на этом основании Тетеря считал мир с Москвою необходимым, в противном случае просил короля уволить его от гетманской должности.
Между тем Брюховецкий с московским воеводою Петром Скуратовым стояли обозом под Каневом. 21 мая напали на их обоз поляки и татары и, побившись, отошли прочь, В тот же день Брюховецкий и Скуратов вошли в Канев, а на другой день, 22-го числа, явился под городом сам Чарнецкий с хорунжим коронным Собеским, с полковником Маховским, Тетерею и татарами; бой под Каневом продолжался с утра до вечера; неприятель отступил и стал с версту от города. Шесть дней было спокойно, на седьмой, 29-го числа, Чарнецкий, отпустив свои обозы ко Ржищеву, сам двинулся опять под город и всеми своими силами ударил на гетманскую пехоту. Та дрогнула и опрокинулась на Московский солдатский полк Юрья Пальта; солдаты выдержали натиск; того же дня Чарнецкий пошел из-под Канева и, отошедши десять верст, стал на Днепре выше Канева, а 2 июня пошел от Днепра к Корсуни, отправив под Канев небольшой отряд конницы, чтоб помешать русским преследовать его по дороге. От Корсуни Чарнецкий отступил за Белую Церковь, под местечко Ставищи, приступал к нему жестокими приступами, но не мог ничего сделать, потерял, как доносили в Москву, 3000 человек и сам был ранен. Чарнецкий остался под Ставищами, а Тетеря с половиною татар пошел к Умани и к Днестру, чтоб жителям Уманского и Браславского полков, поддавшимся московскому государю, не дать убрать хлеба с полей и попытаться, нельзя ли опять склонить их в королевскую сторону. На прелестных письмах его нарисован был крест и образ богородицы: этим крестом и образом он клялся, что не будет никому мстить, и обещал, что ляхи не будут начальствовать над малороссиянами.
Обращая все более и более внимания на Европу, в Москве боялись невыгодного впечатления, какое произведут на нее разглашения поляков о своих торжествах над русскими, и сочли за нужное противодействовать этим разглашениям путем печати. Написано было изложение военных действий 1660 года, где выставлены успехи Долгорукого и вначале Шереметева, коварство польских комиссаров, дливших время нарочно, чтоб дать своим возможность собрать войско и дождаться татар; наконец, измена Хмельницкого и дурной поступок поляков с Шереметевым под Чудновом. Это известие отправлено было в Любек к Ягану фон Горну, чтоб он напечатал его на немецком языке и разослал по окрестным государствам.
Между тем поляки хлопотали, как бы в другой раз не выпустить из своих рук Войска Запорожского. Здесь опять является главным действующим лицом известный нам Беневский. Юрий дал ему знать, что он собрал раду в Корсуни, и приглашал его на ней присутствовать. Беневский немедленно отправился и узнал на месте, что Хмельницкий непременно хочет сложить булаву, что некоторые под личиною дружбы к нему уговаривают его отказаться от гетманства, проча булаву кому-то другому (Выговскому). Но Беневский, опасаясь от этого другого беды для республики, начал хлопотать, чтоб булава осталась за Хмельницким, который, по слабости своей, как нельзя лучше приходился для Польши. Чтоб окончательно убедиться, кого хотят выбрать в гетманы, Беневский призвал к себе полковников и начал им говорить, что Хмельницкий непременно хочет оставить булаву, так кого бы они считали достойным гетманства? Большая часть полковников сейчас же отвечали: «Об этом нечего беспокоиться: у нас уже готов гетман, мы пошлем кой к кому и тут же его изберем», – и начали расхваливать своего избранника, воображая, что эти похвалы приятны Беневскому. Ночью последний свиделся с Хмельницким и стал расспрашивать его, что за причины, по которым он непременно хочет сложить булаву? «Я молод, несчастлив, болен (падучею болезнию и грыжею)», – отвечал Юрий, насказал и много других, менее важных причин. Беневский стал уговаривать его. «Из-за пустых причин, – говорил он, – ты хочешь отказаться от гетманства, не думая, каким опасностям подвергаешь себя, имение свое и дом!» Беневский открыл ему интриги его соперника и что его ждет, когда этот соперник сделается гетманом. Хмельницкий не верил, чтоб интриги соперника шли так далеко; тогда Беневский предложил ему призвать немедленно же полковников, которые сами скажут ему о своем избраннике. Полковники были призваны и объявили: «Завтра же надобно созвать раду, и если ты, пан гетман, покинешь булаву, то без гетмана быть не можем и сейчас же посылаем кой к кому, которому отдаем в опеку себя, жен и детей наших». Это объявление убило несчастного Хмельницкого. «Завтра будет рада», – сказал он и отпустил полковников. Оставшись наедине с Беневским, он начал срывать сердце, обвинять каждого полковника в измене против республики и коварстве. «И теперь они хотят выбрать того в гетманы, чтоб опять своевольничать», – говорил он. Беневский торжествовал: он пустил черную кошку между гетманом и полковниками и, чтоб еще больше раздражить Хмельницкого и выведать все нужное, стал говорить: «А полковники, пан гетман, все зло складывают на тебя, говорят, что и Серко, и Апостол, и Цецура, и Пушкарь из-за тебя возмутились; говорят, что ваша милость и Брюховецкого с частию казны отправил к царю московскому, и Самченко, твой родной дядя, по твоему внушению поднял бунт в Переяславле». Бедный Хмельниченко совсем растерялся: стал оправдываться, в ином признавался, наконец стал умолять искусителя: «Будь отцом, советником, ходатаем у короля и королевы; клянусь, что буду следовать твоим советам, не буду слушать злых речей». Беневский, разумеется, прежде всего присоветовал не покидать гетманства, потом, так как Юрий по молодости и нездоровью нуждался в помощнике, Беневский присоветовал ему взять на писарство Тетерю, чем приобретет доверенность короля и республики, потому что настоящий писарь, Семен Голуховский, предан царю и царем поставлен. Хмельницкий на все согласился, требуя одного, чтоб Беневский оставался ему другом и добрым советником.
10 ноября собралась рада из одной старшины на дворе гетманском; Беневский начал первый говорить, объявил, что ни одно из царских распоряжений не может иметь больше силы, и от имени королевского вручил булаву Хмельницкому при всеобщем восторге, как будто бы никогда не думали ни о ком другом. Но к вечеру торжество Беневского было нарушено: ему дали знать, что чернь бунтует, зачем рада была в избе не по старине, подозревает тут злой умысел против Войска. Беневский послал сказать гетману, чтоб на другой день созвал черную раду и на ней снова принял от него булаву. Хмельницкому не хотелось созывать черни. «Если пан воевода, – отвечал он, – хочет черной рады, да еще во время ярмарки, то пусть знает, что погубит и себя, и меня, и полковников и учинит смуту большую». Новый посланец от воеводы к гетману: «Напрасно беспокоишься; если не будет черной рады, то все равно что ничего!» Не один Хмельницкий, все старшие козаки, все домашние Беневского были против черной рады, но воевода был непреклонен, и Хмельницкий, раскаиваясь, что обещал его слушаться, велел повестить раду.
11 ноября площадь у церкви св. Спаса шумела глухим шумом: стояло тысяч двадцать черни, а гетманский двор был назаперти: там тихо сидели перетрусившие полковники и гетман, дожидались, пока приедет на раду Беневский: что-то будет, как-то примет его чернь? И вот толпы расколыхались, едет воевода, сходит с лошади, садится на скамью, озирается: «Где же пан гетман?» В ответ раздался крик: «Ваша милость на месте королевском: пошлешь за гетманом, и должен прийти». Беневский послал, и гетман явился с полковниками: без шапки, кланяясь на все стороны, вошел он в круг, положил шапку наземь, на шапку булаву – знак, что слагает с себя гетманство. Но вот он начинает говорить: «По божией и по вашей воле возвратились мы к пану прирожденному, и чтоб не оставалось больше между нами московских распорядков, король, его милость, прислал комиссара своего: он введет между нами порядок». Смолк Хмельницкий, не владевший даром слова, и начал широкую речь Беневский об отеческом милосердии короля; кончил тем, что король прощает все их вины. В ответ раздались крики: «Благодарим бога и короля; это все старшие нас обманывали для своего лакомства; если теперь кто вздумает бунтовать против короля, того сами побьем, не пощадим и отца родного!» Когда поустали кричать, Беневский подошел к булаве, поднял ее и от королевского имени передал Хмельницкому, тут же Носач объявлен был обозным. Раздались новые крики в честь Хмельницкого, и толпы двинулись в церковь присягать королю. Вечером гетманский дом заблистал яркими огнями, гремели пушки, шел роскошный польский пир; подпившие козаки особенно расхваливали королеву, только и слышалось: «Мать наша!» На другой день новая рада: читали гадяцкие привилегии Войску Запорожскому; все были очень довольны и ругали Выговского: «Если бы он, такой и такой, прочел нам эти привилеи, то ничего бы дурного не случилось». На третьей раде отдана была печать войсковая Тетере. Новый писарь – это наш старый знакомый: мы видели его в Москве, слышали, какую великолепную речь он говорил царю Алексею Михайловичу, как ставил его выше св. Владимира, слышали, как потом он рассказывал о непорядках малороссийских и как проговорился, что некоторые из его земляков желают непосредственно зависеть от царского величества. И теперь Тетеря начал рассказывать, как он был в Москве, но не повторил своей приветственной речи и своих разговоров с думными людьми; он рассказывал козакам, какие страшные замыслы против Малороссии питает царь! Он все это проведал, будучи на Москве! Оратор произвел сильное впечатление на слушателей. «Не дай нам, боже, мыслить о царе, ни о бунтах!» – говорили козаки. Они глубоко были тронуты: мудр, добродетелен, велик явился перед ними пан писарь Тетеря, так безукоризненно, так свято ведший себя в Москве. «Пан писарь! – говорили они, – будь милостив, учи гетмана уму-разуму, ведь он молоденький еще! Поручаем его тебе, поручаем тебе жен, детей, имение наше!»
В то время как в Корсуни происходили эти чувствительные сцены, в то время как в здешней соборной церкви козаки присягали королю, на другой стороне Днепра, в Переяславле, также толпился народ в соборной церкви: дядя Хмельницкого, полковник Яким Самко, вместе с козаками, горожанами и духовенством клялся умирать за великого государя, за церкви божии и за веру православную, а городов малороссийских врагам не сдавать, против неприятелей стоять и отпор давать. Получив от племянника грамоту с увещанием покориться королю, Самко отвечал: «Я с вашею милостию, приятелем своим, свойства не разрываю; только удивляюсь, что ваша милость, веры своей не поддержав, разрываешь свойство наше с православием. Ты пишешь, что король видит руку промысла в беде, случившейся с Шереметевым; правда, что бог всем управляет, сокрушает и милует, немощных сильными делает, но надобно знать, что счастье и что грех. Потому что счастье изменчиво. Я не изменник потому только, что не хочу ляхам сдаться; я знаю и вижу приязнь ляцкую и татарскую. Ваша милость человек еще молодой, не знаешь, что делалось в прошлых годах над козацкими головами; а царское величество никаких поборов не требует и, начавши войну с королем, здоровья своего не жалеет; мы теперь должны немощных немощь носить, а не себе угождать; лучше с добрыми делами умереть, нежели дурно жить. Пишете, что царское величество никакой помощи к нам не присылает; верь, ваша милость, что есть у нас царские люди и будут; а если б даже их и не было, то его воля, государева, а мы будем обороняться от наступающих на нас врагов, пока сил станет, помня пример Шереметева, который хотя и сдался, однако мало хорошего получил: вопреки присяге сенаторской со всем войском в неволю татарскую пошел. Видя, что сделалось с Шереметевым и Цецурою, хотя умру, а на прелести ваши не сдамся». Выбранный наказным гетманом, Самко в начале декабря прислал сказать в Москву о своей верности и что боярин Шереметев выдал Войско Запорожское, при нем бывшее, в неволю татарам; ему, разумеется, отвечали, что во всем виноват Хмельницкий, а не Шереметев.
Запорожье было также за царя, Запорожье, пустившее от себя отпрыск: лихой козак Серко, с которым так часто будем встречаться впоследствии, составил свою особую дружину и действовал самостоятельно. Вскоре после чудновского дела прискакал в Москву запорожский кошевой Иван Брюховецкий и объявил: «Мир с поляками Хмельницкий заключил по наговору тех, которым от короля дана честь: Носача, Лесницкого, Гуляницкого; у гетмана наперед была ли о том мысль или нет – не знаю, только гетман шел в сход к Шереметеву не на то место, где ближе, и ставился не там, где надобно; пришедши в Слободище от боярина за три мили, стоял три дня, а к боярину в сход не шел. Как на Кодачке, на раде был договор у гетмана с боярином, тут впервые изменили но вымыслу Выговского: уговорились, что боярину идти наперед, тогда как довелось идти наперед черкасским полкам, а гетману быть с боярином, от него не отставать. Яким Самко царскому величеству верен ли, про то я не знаю, а гетману Юрию Хмельницкому он дядя родной; только ему, Самку, недруг Иван Выговский; и прежде он от Выговского отбегал и жил на Дону, а в Войске при нем жить не смел. Василий Золотаренко царскому величеству верен, и Семен-писарь верен, только разве помешает ему то, что он теперь женился на Дорошенковой сестре».
Чтоб разузнать, в каком действительно состоянии находятся дела в Малороссии, кто верен и кто нет, кто кому дядя и кто кому зять и как это родство и свойство мешает верности, отправился стрелецкий голова Иван Полтев. Приехавши в Нежин 29 декабря, Полтев прежде всего повидался с тамошним царским воеводою, князем Семеном Шаховским, и спросил его: «Нежинский полковник Василий Золотаренко великому государю верен ли, к нему, воеводе, советен ли, сколько при нем козаков, в козаках и мещанах нет ли какой шатости и Василью Золотаренку они послушны ли?» «Золотаренко великому государю верен, – отвечал Шаховской, – со мною советен: козаков при нем тысяч с десять: между немногими козаками и мещанами была шатость». На другой день к Золотаренку явился сотник города Девицы Демид Рагоза с изветом на козака Тараса Незная, который говорил при многих людях: «Полковник Золотаренко хочет быть под московским царем, а мы хотим быть у польского короля при Юрии Хмельницком». Незная схватили, привели к полковнику, и, когда козак повинился, Золотаренко велел собрать раду; на раде приговорили: казнить Незная за такие речи, и приговор был исполнен. Полтев объявил Золотаренку, что великий государь все Войско Запорожское этой стороны Днепра пожаловал, гетмана избрать позволил, кого Войском изберут. «Ты бы, полковник, – продолжал Полтев, – согласился с гетманом наказным Якимом Самком и с другими полковниками, которые великому государю верны, и с Войском Запорожским и чернью, и выбрали бы гетмана». «Царского величества бояре и воеводы с войском к нам будут ли?» – спросил Золотаренко. «Когда царские ратные люди в Нежине будут, то Украйна всего Нежинского полка будет крепка: мы великому государю верно служить рады». «В Севске, – отвечал Полтев, – будет боярин Петр Михайлович Салтыков с конными и пешими людьми, а в Путивле окольничий князь Иван Лобанов-Ростовский». Золотаренко обрадовался и сказал: «Если б царские воеводы пришли ко мне в Нежин скоро, то Украйна по сю сторону Днепра была бы цела, неприятелей всех бы выбили за Днепр: если же воеводы ко мне скоро не придут, то к Киеву и Переяславлю из Нежина проезду не будет; стоят крепко и великому государю верно служат только Нежинский да Черниговский полки; если же этих полков не будет, то и Переяславский полк не устоит».
Московские воеводы скоро прийти не могли после недавних несчастий, а уже 2 января 1661 года заднепровские черкасы с поляками приступали к Козельцу. Они были отбиты с уроном, но Золотаренко ждал гостей к себе и сказал Полтеву: «Теперь нам гетмана выбирать некогда: наступают со всех сторон неприятели». Действительно, 6 января враги явились под Нежином, ворвались в посад и завязали бой с нежинцами. На бою взят был татарин, который объявил, что послал их Хмельницкий из Чигирина для проведывания, есть ли на восточной стороне Днепра царские ратные люди? И черкасы с горожанами хотят ли здесь великому государю верно служить или хотят поддаться польскому королю? Если царских ратных людей нет, то он с заднепровскими козаками, татарами и поляками пойдет под Переяславль, Нежин и Чернигов, скоро к нему придут из Крыма татары, охочие люди, пока еще Днепр стоит. Услыхав эти вести, Золотаренко сказал Полтеву: «Оставайся здесь, в Переяславль тебе ехать нельзя чрез неприятелей» – и прибавил прежнее: «О гетманском избрании теперь нечего думать: наступают ляхи и татары», 10 января поляки опять приступили к Козельцу и опять были отбиты. Верные черкасы начали наступательные действия и бились с поляками под Остром; а 30 января и 2, 4 и 6 февраля приходили поляки и татары под Нежин и бились с его жителями, но без успеха. С другой стороны, князь Иван Андреевич Хованский в феврале под Друею разбил и взял в плен изменившего государю полковника Лисовского. Скоро пришла весть, что поляки с Чарнецким и татары ушли за Днепр, оставя на восточной стороне татар с тысячу человек да поляков два полка; а в апреле приехали в Москву посланцы от Самка и объявили, что ляхов на восточной стороне Днепра нигде нет, дороги к Киеву, Нежину и другим местам чисты; немногие ляхи, которые были в Триполе, Оржищеве и у Белой Церкви, все отступили в коронные города; остались больные, и тех около Белой Церкви черкасы тайно всех побили; татар также нигде нет; полки Лубенский, Миргородский, Прилуцкий и Полтавский великому государю добили челом; не сдаются только остряне; Серко в Запорожье великому государю служит верно.
Что же это значило? В Москве боялись, что поляки воспользуются чудновскою победою, перейдут немедленно со всеми силами на левый берег Днепра, займут всю Малороссию и двинутся к беззащитной столице царской, а между тем это страшное войско исчезает отвсюду! Уж не шведы ли опять напали на Польшу? Не турки ли собрались ворваться в Подолию? Нет: победоносное воинство потребовало жалованья и, не получа его, по обычаю своему, взволновалось, отказалось повиноваться вождям, составило союз под именем священного и стало жить на счет польских крестьян.
Таким образом, Польша своею безурядицею дала возможность Москве несколько отдохнуть после ударов 1660 года. Но временное облегчение для Москвы последовало только с одной стороны, с юго-запада, со стороны коронного войска, а в Литве и Белоруссии не прекращались наступательные действия врагов, которым Москва при тогдашнем истощении в людях и казне не могла давать успешного отпора. При этом Малороссия не хотела понимать затруднительного положения Великой России и беспрестанно докучала просьбами о присылке войска, которого негде было взять царю. Самко жаловался, что, кроме небольшого (в 2500 человек) отряда князя Бориса Ефимовича Мышецкого, он не имел никакой помощи от царских воевод; несмотря, однако, на такую беспомощность, он, Самко, не только давал отпор неприятелю, но и сам ходил на него: в Терехтемирове громил татар, под Стайками – ляхов, под Козловом – изменника Сулиму. Посланцы наказного гетмана подали следующие просьбы: 1) чтобы государь прислал в Переяславль ратных людей на помощь; 2) прислал жалованье козакам, которые, будучи с боярином Шереметевым, коней и оружие растеряли, а теперь служат великому государю; 3) чтоб великий государь велел деньги Самковы обменять и прислать к нему; 4) чтоб указал быть у них в городе и над ратными людьми одному воеводе, а не двоим, потому что от двоих порядка не будет; именно приказал бы у них быть стольнику князю Василию Волконскому; 5) чтоб царские грамоты посылались к ним для уверения за большою печатью. В заключение посланцы объявили от имени Самка, что нежинский полковник Василий Золотаренко с ним в сопротивлении и на раду не поехал. Государь отвечал, что воеводам уже дан указ помогать черкасам, жалованье им князь Ромодановский роздал, деньги Самковы медные обменены на серебряные и отправлены с Мефодием, епископом Мстиславским.
В мае приехали новые посланцы и объявили, что в третье воскресенье после Пасхи была у них рада в поле в Быкове, с милю от Нежина; были на раде князь Григорий Григорьевич Ромодановский с своими ратными людьми, стольник Семен Змеев, наказной гетман Яким Самко, нежинский полковник Золотаренко, полковники прилуцкий, лубенский, миргородский, из Полтавского полка сотники тех городов, которые великому государю добили челом, и все войско тех полков, которые при Якиме Самке. Все выбирали в гетманы Якима Самка, одни нежинцы хотели выбрать своего полковника Золотаренка и приговорили на раде всем Войском отдать гетманское избрание на волю царского величества, кого он, великий государь, пожалует в гетманы. Полтавский полковник Жученко на раде не был, потому что вины свои великому государю не принес и сидит в Полтаве, а при нем держатся городки: Опушня, Котельва, два Санжарова, новый да старый, да Кобыляки. Юрий Хмельницкий в Чигирине, при нем писарь генеральный Тетеря, да Носач, да Грицка Лесницкий, судья войсковой, а войска при Хмельницком никакого нет; посылал он к королю на сейм, и посланец приехал назад ни с чем, даже корму ему королевского не давали. Серко пошел для добычи на Буг, на Андреевский остров, и там стоит с войском своим для татарского прихода; атаман стоит в Запорогах с большим войском; с Серком они сходятся для порядка во всяких войсковых делах, а ни к кому не приклоняются: ни к государю, ни к польскому королю. Посланцы говорили, что на раде положено отдать гетманское избрание на волю царскую, кого государь пожалует в гетманы, но в грамоте, привезенной ими от всех бывших на раде, говорилось: «Мы на той раде между собой усоветовали, что нам самим без ведома вашего царского величества нельзя гетмана выбирать, и потому через послов своих просим: извольте милость свою над нами, верными своими, показать и нам, по давнему обычаю, того гетмана избрать, кого все войско любит, и к нам на это избрание прислать кого-нибудь из ближних своих людей». Государь отвечал, что о гетманском избрании будет им указ вперед.
Указ замедлился в Москве, потому что здесь видели новую смуту в Малороссии вследствие соперничества Самка и Золотаренка; в Москве не хотели спешить выборами и потому, что являлась надежда без кровопролития подчинить себе и западную сторону Днепра. Юрий Хмельницкий, оставленный поляками и татарами, прислал в Москву с объявлением, что он в Слободищах должен был перейти на королевскую сторону поневоле. Он писал государю: «Если что со мною по принуждению заднепровских полковников учинится, если я должен буду повиноваться их принуждению, то вам бы, великому государю, не обвинять меня за это, а я вперед, как можно, стану промышлять о своем обращении и желаю быть по-прежнему в подданстве у вашего царского величества». Действительно, в Польше шли слухи, что Хмельницкий посылал монаха Шафранского в Константинополь к патриарху с просьбою разрешить его от присяги королю, а сам намеревался условиться с Брюховецким и Самком, чтоб они напали на него с московским войском: тогда он, как будто поневоле, сдался бы на царское имя, извиняясь тем, что поляки не прислали к нему помощи. Говорили также, что Выговский замышляет быть гетманом, но под покровительством Турции. Вследствие присылки Хмельницкого 26 июня отправлен был в Малороссию дворянин Протасьев; царь писал с ним к Самку: «Юрия Хмельницкого не допускают до обращения к нам немногие изменники, заднепровские полковники, которые по ляцкому хотению давно ищут погибели всему Войску Запорожскому; так вы бы, гетман наказный, служа нам, к родственнику своему Юрию Хмельницкому написали, чтоб он обратился и был под нашею высокою рукою по-прежнему; обнадежь его, что если обратится, то вины его все будут забыты и получит он от нас город Гадяч, который прежде был пожалован отцу его; если захочет ехать к нам, то пусть едет безо всякого опасения, увидит милость нашу, получит многое жалованье и честь, а твоя служба забыта никогда не будет». Приехавши в Нежин, Протасьев обратился к воеводе князю Семену Шаховскому с обычным вопросом, как идут дела? Шаховской отвечал, что все хорошо, в полковнике Золотаренке и козаках шатости нет, но есть шатость в мещанах, переписываются с изменником Грицкою Гуляницким и дают ему знать обо всем, что делается в Нежине. Потом Протасьев виделся с полковником, отдал ему царскую грамоту и дары – соболя. Золотаренко тут же стал дарить этими соболями сотников и других начальных людей, говоря им: «Служите великому государю во всем правдою так же, как и я служу, и ни на какие бы вам ляцкие прелести не уклоняться и с изменниками не ссылаться». И июля Протасьев приехал в Переяславль; здесь воевода князь Волконский объявил ему, что Самко великому государю верен, в переяславских козаках и мещанах до сих пор никакой шатости нет, о ляхах и татарах по сю сторону Днепра не слыхать. Получивши эти сведения, посланник обратился к Самку с требованием, чтоб тот по указу царскому завел сношения с Хмельницким. Самко отвечал: «Я великому государю служить рад и к Юрасу Хмельницкому писать стану скоро; но государь прислал бы для него, Юраса, милостивую грамоту, которую я перешлю к нему тайно». Протасьев перешел к другому делу: «Ты, Яким, пишешься к великому государю с вичем мимо прежних обычаев, а прежде гетманы, Богдан Хмельницкий и сын его Юрий, писались без вича, просто». Самко отвечал на это: «Я человек неграмотный, а писарь у меня новый, и такие государевы дела мне и писарю не за обычай, вперед я с вичем писаться не стану». Самко выразил беспокойство, что в последней грамоте его к царю была прописка в титулах; Протасьев отвечал: «Прописка есть, и посланцам твоим за это выговорено; только царского гнева за это на тебя нет, не сомневайся, а пиши вперед остерегательно». «В письме к Змееву, – продолжал Протасьев, – ты жаловался на царскую немилость, объяви мне, какая это немилость?» «Писал я это прежде, – отвечал Самко, – писал, что служу великому государю, не щадя головы своей, и за мою службу в то время ко мне и к козакам государева жалованья ничего не было, и я думал, что на меня государь гневается, что кто-нибудь ему на меня нанос; думал, что царскому величеству город Переяславль не надобен, потому что князь Григорий Григорьевич Ромодановский и остальных людей из Переяславля взял, и козаки, видя, что город остался безлюден, начали было шататься. Но теперь, когда великого государя милость объявилась, в городе людей прибавляется и в козаках шатости никакой нет. Пожаловал бы великий государь, не велел города безлюдным оставлять, потому что город украйный; наступит неприятель безвестно, а людей в нем будет мало, так чтоб какая поруха городу не учинилась. Изволил бы государь поскорее прислать своих ратных людей в Переяславль, так я бы стал промышлять над неприятелями, которые за Днепром, чтоб не дать ляхам и татарам собраться вместе». Протасьев уговаривал Самка, чтоб он не оскорблялся, от царского величества немилости к нему никакой нет, писем на него от воевод ни от кого не бывало, и вперед государь ссорам никаким верить не станет. «Великому государю рад служить, – отвечал на это Самко, – на том я ему крест целовал; а великий государь пожаловал бы, ссорам и наносным словам верить не велел, потому что я человек беззаступный и простой».
В Малороссии оправдывали медленность Москвы, уговаривали не давать гетманства ни тому, ни другому сопернику. Во время бытности Протасьева в Переяславле приехал туда нежинский протопоп и говорил царскому посланнику: «Слух у нас есть, что Самко и Золотаренко домогаются от великого государя созвания рады для гетманского избрания. Великий государь не велел бы сказывать гетманства ни Самку, ни Золотаренку потому: если будет Самко гетманом, то Золотаренко не будет ему послушен; а будет гетманом Золотаренко, то Самко станет под ним подкапываться. Пусть великий государь не велит сказывать гетманства ни тому, ни другому, пока утишится вся Украйна, а между тем, быть может, обратится к царскому величеству и Юрий Хмельницкий с заднепровскими полками». Сам наказный гетман по крайней мере, по-видимому, отчаивался быть настоящим гетманом, сносился по царскому приказанию с Юрием Хмельницким и давал советы Москве, как поступать относительно западной стороны Днепра. «Надобно, – говорил Самко, – крепить здешнюю сторону Днепра тем, что по Днепру поставить городки и в них посадить людей, да за Днепром занять городок Канев, чем освободится водяной путь до Переяславля и дальше, а больше того в государеву сторону ничего не надобно. Если же Юрий Хмельницкий придет в подданство к великому государю по-прежнему, то за Днепр надобно будет послать ратных людей 20000 и больше и занять там шесть городов – Чигирин, Корсунь, Умань, Канев, Браславль, Белую Церковь. Из этих городов жителей перезвать бы на сю сторону Днепра, а Заднеприе уступить польскому королю без людей; такая уступка будет из воли: польский король к миру придет скорее, и здешняя сторона Днепра под высокою рукою великого государя утвердится; если же этих заднепровских городов не занять и уступить их Польше, то король и этой стороны Днепра уступить не захочет. Если Юрий Хмельницкий поддастся по-прежнему, то ему бы над полковниками быть владетельну; при гетмане непременно должен быть человек, присланный из Москвы для того: если полковник затеет что-нибудь недоброе, то его наказать тайно, если же не уймется, то казнить смертию, а без присланного из Москвы человека быть нельзя». Таким образом, наказный гетман запорожский сам указывал на условия мира с Польшею, по которым западная сторона Днепра должна быть уступлена королю: мы увидим, что это будет исполнено в Андрусове; сам наказный гетман указывал на необходимость присутствия великороссийского чиновника при гетмане: это будет исполнено при Петре Великом. Наконец, Самко, многие полковники и старшие козаки говорили, чтоб царь указал ведать их окольничему Федору Михайловичу Ртищеву, потому что Ртищев к ним ласков, об их прошенье всякую речь доносит царю, и, что им скажет, то все правдиво.
Имея соперников, Самко хорошо знал, какими средствами действовали обыкновенно соперники друг против друга. «Я, – говорил он, – служу великому государю верно и радетельно, власти себе никакой не ищу и не желаю. Мне лучше с государевыми людьми ссылаться и советоваться, нежели с своими, потому что от своих ненависть и оболгание». Не одного Золотаренка имел в виду Самко, когда говорил о ненависти и оболганиях: на сцену выступил третий искатель гетманства, уже известный нам Иван Мартынович Брюховецкий. «О промысле над татарами, – говорил Самко, – я стану писать в Запорожье к Серку, а к Брюховецкому об этом писать не стану; лучше писать об этом к Серку, а не к Брюховецкому». Самко еще не высказывался, почему не хочет переписываться с Брюховецким, но Брюховецкий в письме к воеводе Касогову (от 14 сентября) уже прямо обвинял Самка в измене.
Но в Москве тревожились тем, что не одни свои доносили на Самка, доносили и государевы люди. В октябре явился к Хмельницкому хан крымский с ордою, и гетман волею-неволею отправился с татарами за Днепр и осадил Переяславль. Неприятелю не удалось ничего сделать над Переяславлем; но воевода Чаадаев доносил государю, что во все осадное время Самко пил и промысла от него никакого не было, на вылазки не выезжал; если козаки с государевыми людьми выйдут на вылазку, то наказный гетман приказывал вгонять их в город; если козаки возьмут в плен татар, то Самко таил их от царских воевод, таил всякую ведомость. Во время осады Самко три раза съезжался с племянником своим Хмельницким на мельничной плотине и разговаривал тайно. Возвращаясь с свидания, он рассказывал Чаадаеву, что обнадеживал племянника государскою милостию, уговаривал быть под рукою великого государя; но Юраска не слушается поневоле: всем владеют Носач, да Грицка миргородский, да Грицка Гуляницкий. В другой раз Самко прислал к Чаадаеву писаря объявить, что у него с Юрасом ссылка о добром деле, как бы всем быть под государевою рукою; а писарь спьяну проговорился, что ссылка между племянником и дядею идет о том, чтоб вместе соединиться с ханом крымским. Доносили на Самка и жители городов, говорили: «У нас бы и медными деньгами торговали, да старшие, полковники и сотники, берут себе за правежом у нас ефимки, серебряные деньги и польские гроши: оттого у нас медные деньги и в расход нейдут; а Самко приказал, чтоб нигде медных денег не брали».
Тяжела становилась для царя смута малороссийская; со всех сторон доносы в измене: кому и чему верить? Московские воеводы, если бы даже были из них люди вполне чистые по характеру и беспристрастные, как люди пришлые в Малороссии, не могли доставить государю вполне верных сведений об отношениях лиц и партий; нужен был человек тамошний, малороссийский, человек, хорошо знающий людей и отношения их, влиятельный по своему званию, чуждый партий и пристрастия, – одним словом, высшее лицо духовное, архиерей. Но мы уже видели, в какое положение ставило себя высшее духовенство малороссийское относительно правительства московского. Мы видели столкновения с Сильвестром Коссовым. Преемник Коссова Дионисий Балабан изменил царю вместе с Выговским. Таким образом, к смуте политической присоединялась смута церковная, и в Киеве не было митрополита, ибо московское правительство не могло признавать в этом звании изменника Дионисия, а политические смуты не позволяли приступать к избранию другого митрополита, поднимать вопрос, от какого патриарха зависеть ему – от константинопольского или московского. Временным правителем, блюстителем митрополии Киевской, был епископ черниговский Лазарь Баранович; но этот архиерей не пользовался большим доверием в Москве. Гораздо более усердия великому государю показывал знакомый уже нам протопоп нежинский Максим Филимонов. Он был вызван в Москву, 5 мая 1661 года поставлен в епископы мстиславские и оршанские под именем Мефодия и отправлен в Малороссию в сане блюстителя митрополии Киевской. Мы скоро увидим его деятельность.
Легко понять, что для восточной Малороссии и для Москвы важно было то обстоятельство, что западная сторона не могла воспользоваться смутою, соперничеством между искателями гетманства. Хмельницкий слишком ничтожен, а Польша ослаблена возмущением войска. Только татары напоминали о себе, и не одной Малороссии. В январе 1662 года многочисленные толпы крымцев под начальством князя Ширинского ворвались в севские и корачевские места и захватили множество пленных. Севский воевода боярин князь Григорий Семенович Куракин отправил против них товарища своего Григория Федоровича Бутурлина. Бутурлин напал на разбойников, взял в плен самого князя Ширинского, много татар и, что всего важнее, освободил русских пленников, которых было до 20000. С другой стороны сам хан подошел к Путивлю, но был отброшен воеводою боярином князем Иваном Ивановичем Лобановым-Ростовским и не пошел дальше.
Татарская туча прошла, и опять все внимание царя сосредоточилось на делах малороссийских. Весною 1662 года в Москве узнали, что в Козельце была рада для избрания гетмана, и немедленно пришли об этой раде различные известия: с одной стороны, писал Самко и преданные ему полковники, что на раде был епископ Мефодий, полковники, сотники и есаулы сей стороны Днепра, а черни и всего поспольства не было; черни и поспольству Самко быть не велел потому, чтоб городу больших убытков не было; на раде выбрали в гетманы Самка до указа великого государя, а как великого государя указ будет о полной раде, то на этой полной раде гетман велит быть всему поспольству и черни. Когда после рады присутствовавшие разъехались по домам и приехали в Нежин епископ Мефодий и Василий Золотаренко, то последний епископу говорил, что Самко принял гетманство самовольством, а он, Василий, с своим полком ни в каких расправах его слушать не хочет. «Васюта, – писали приверженцы Самка, – обещал идти к нам в войско, но когда епископ Мефодий в Нежин приехал, то Васюта обещание свое и присягу отменил, на службу вашего царского величества идти не хочет, нам всем сомненье, а неприятелям потеху сделал; нашу верную службу уничижает, самовольно не повинуется власти войсковой, упрямством дома живет, только казну сбирает и стережет, а границ не обороняет; боимся, чтоб не исполнилось на нем слово Брюховецкого, что Васюта в конституции у короля написан и сделан шляхтичем». Прося о присылке оборонной грамоты на Золотаренка и всех непослушных, приверженцы Самка просили царя, чтоб оборонил их и от Брюховецкого, который их бесчестит; просили, чтоб всему Войску вольно было всякого старшего и меньшего по рассмотрению с гетманом но своему обычаю карать и чтоб виновного в их глазах никто из воевод московских не защищал, а только со всем Войском приговаривал; «а то теперь князь Шаховской, поверивши несправедливому умыслу Васютину, государевых ратных людей в городки Нежинского полка посылает, как будто бы мы с гетманом Нежин разорить хотели». Приверженцы Самка извещали, что жители малороссийских городов, послышав о порче медных денег на Москве, не берут их у войска и живности ниоткуда не привозят, государевы ратные люди с голоду помирают и междоусобие беспрестанное в тех городах, где они живут; полки не берут годового жалованья медными деньгами, хотя бы их рубить велели, но всех не перерубить.
Легко понять, какое впечатление должны были произвести в Москве подобные грамоты: Самко и приверженцы его писали бессмыслицу, за которою скрывалось какое-то незаконное дело: что это была за рада в Козельце без черни и поспольства? Гетман выбран, зачем же еще нужна новая рада? Что-нибудь одно: или рада в Козельце была незаконная, или новая рада не нужна! Из грамот самих приверженцев Самка уже можно было видеть, что в Малороссии начинается то же самое, что было при Выговском: гетман выбирается на какой-то странной раде, но вот новый Пушкарь, Золотаренко нежинский, противится, говорит, что избрание незаконное, гетманство взято самовольством, и, конечно, царь не должен в другой раз поверить новому Выговскому; а тут еще для довершения сходства приверженцы Самка требуют, чтоб царь позволил им разделаться с противниками, карать их, как Выговский спешил покарать непослушника своего Пушкаря.
Епископ Мефодий спешил оправдать подозрения, естественно рождавшиеся по прочтении грамот Самка и его приверженцев. «Пока не видал я подлинного лукавства наказного гетмана Якима Самка, – писал Мефодий, – до тех пор не смел об нем ничего худого тебе, великому государю, объявить; но теперь, когда лукавство его и неправда обнаружились, трудно мне этого тебе, великому государю, не известить, потому что душа моя отдана богу и тебе. Самко обманул меня и полковников – нежинского, черниговского, прилуцкого и других: писал, чтоб съехались в город Козелец с небольшими людьми для великих государевых дел, для скорых войсковых потреб и для разговору, посоветоваться, как бы с неприятелем управиться. Когда мы к нему съехались, то он начал говорить, чтоб полковники выбрали себе совершенного гетмана, чтоб им было у кого быть в послушании и чтоб было кому против неприятелей стоять; и в ту ночь, 14 апреля, ввел в Козелец несколько тысяч козацкой пехоты, расставил везде караулы и не велел никого выпускать из города. Я ему говорил, чтоб он этого не делал и не приказывал выбирать гетмана до твоего, государева, указа; но он меня не послушал и велел полковникам выбирать совершенного гетмана; я стал говорить полковникам, чтоб не выбирали, но он начал грозить им смертию, и они поневоле выбрали его. 15 апреля я выгнал его из церкви от присяги, а он пуще стал грозить полковникам смертью; те бросились ко мне с просьбами, и я, видя их слезное прошение, чтоб не погубить их, как-нибудь из Козельца вывесть, и особенно жалея верного твоего слуги, Василья Золотаренка, позволил Самку делать что хочет». В заключение письма Мефодий просил, чтоб государь поскорее прислал боярина для гетманских выборов, чтоб эти выборы были в поле, а не в городе и чтоб на них были запорожцы с своим кошевым Брюховецким. Мефодий жалел больше всего верного слугу царского Золотаренка и, однако, просил, чтоб на раде был Брюховецкий, который, прокладывая себе путь к гетманству, не щадил ни Самка, ни Золотаренка. Он писал к Мефодию: «Пан Васюта не имеет права перехватывать и драть моих грамот, я не его служка, я царский войсковой холоп; пусть он прежде расплатится за пшеницу, которую с братом покрали в Корсуни, а теперь запрещает не мне, а всему войску. Завидуют нашей бедной саламате; коли хотят, поменяемся: пусть сюда идут, а мы на их место пойдем, в то время узнают, кто кого обманет. Васюта не надейся, чтоб его здесь слушали, потому что войско в откупах не ходит, как они, хотят выманить булаву и указывать тем, кто их не хочет слушать; научились до году откупа откупать и табак, а войско привыкло умирать только за свои вольности. Этим особым гетманством они до конца землю сгубят. Царское величество обещал не делать насилия войску, признавать гетманом только того, кого чернь, по воле божией излюбив, выберет, а не силою; никогда не бывало, чтоб гетманы были накупные, без заслуг войсковых, а теперь прежде невода рыбу начали ловить; теперь прежде всего надобно землю успокоить. Все войско скучает, говорит: долго ль нам еще такую неволю терпеть, что в городах гетманов ставят на нашу пагубу, а теперь и подавно кричат, что никого не было при князе Ромодановском. Васюта только о богатстве хлопочет, которое в земле погниет, а ничего доброго родине этим не насоветует или к ляхам свезет, чтоб заплатить за шляхетство: ведь он там должен в конституцию, как Гуляницкий и другие; боюсь, чтоб он не задумал чего-нибудь недоброго. Бедная наша отчизна гибнет, потому что не хотим оборонять ее от неприятелей, а только за гетманством гоняемся; еще нам нового наследника Выговскому и Хмельницкому паны городовые хлопочут прибавить. Самко пуще цыгана всех людей морочит, а он-то и есть главный изменник, на обличение которого посылаю грамоту к вашей святыне; нам не о гетманстве надобно заботиться, а о князе малороссийском от его царского величества; на это княжество желаю Федора Михайловича (Ртищева)».
Самко хорошо знал, что на него со всех сторон посылаются обвинения в Москву, что его выставляют там изменником – слово, пошедшее в ход в Малороссии с легкой руки Выговского, считавшееся верным средством вредить противнику пред великим государем. 30 мая Самко написал в Москву жалобную грамоту, в стопы ног царских челом бил, посылал тридцать человек татар, взятых в плен. «Из этой посылки, – писал Самко, – ваше царское величество рассмотреть изволишь, что, не щадя головы своей с своими переяславскими козаками, бьюсь с неприятелем за ваше величество и за целость падшей Малороссии. Смиренно молю: покажи премногую милость над верным слугою своим, не дай меня в поношение соперникам моим, которые выставляют меня перед тобою изменником; они в домах своих сидят, помощи нам на неприятеля давать не хотят и, не считая самих себя изменниками, грамотами оправдываются, а работою оправдываться не хотят; а мою работу и верную службу сам господь бог видит; за всех один умирал на пограничье и теперь совсем готовый стою в поле со всеми доброжелательными вашему величеству людьми, жду присылки боярина и милостивого слова от вашего величества. Не знаю, для чего епископ с Васютою меня изменником описывают? Я не перестану плакать об этом до тех пор, пока не пришлешь ко мне таких грамот, чтоб всякий мой противник и непослушник устыдился. Да бью челом, повели, многомилостивый государь, прислать мне деньги, которые я дал взаймы на ратных людей воеводе Чаадаеву: прошу я об этих деньгах, вспомнив, что всякий человек смертен, и если я умру, то некому будет бить о них челом вашему царскому величеству, потому что было у меня два сына, но они вдруг померли, и я хочу, чтоб при жизни моей все мое было у меня. Бью челом вашему царскому величеству, чтоб епископ перестал побуждать на злое, а те люди, которые были надуты советами епископскими, пусть начнут вместе со мною верно служить вашему царскому величеству. Смиренно молим, изволь на все войско пустить вольный голос о выборе гетманском, по старому предков наших порядку, а епископ чтоб в это не вступался; я хлопочу не о гетманстве, проливаю кровь за целость Малой России и за добрый порядок и убиваюсь впрямь верою и правдою за ваше царское величество». Самко утверждал, что не хлопочет о гетманстве, требовал новой рады, выбора вольными голосами, а между тем на той же грамоте подписался гетманом, не хотел отступиться от титула, приобретенного на незаконной Козелецкой раде
Но в то время как раздоры между Самком, Золотаренком и Брюховецким волновали восточную сторону Днепра, на западной Юрий Хмельницкий собрался с силами и, подкрепленный поляками и татарами, начал наступательное движение. 12 июня козаки западной стороны с поляками и татарами, в числе 6000, напали внезапно на Самка, стоявшего табором в трех верстах от Переяславля; битва длилась с полудня до ночи, и Самко отбился. К нему на выручку прислал князь Волконский из Переяславля московских ратных людей, которые и дали ему возможность отступить в Переяславль. Хмельницкий осадил его здесь, но 8 июля Самко с Москвою и козаками вышел на вылазку и поразил неприятеля, который отступил к Каневу. Кременчукские козаки изменили, 23 июня впустили в город две тысячи козаков Хмельницкого, но 500 человек московского гарнизона вместе с мещанами засели в малом городе и отбили осаждавших. Узнав об этом, князь Ромодановский немедленно выслал к ним на помощь десять тысяч московского войска. 1 июля это войско подошло к Кременчуку и ударило на осаждавших; осажденные сделали с своей стороны вылазку, козаки потерпели совершенное поражение, и Кременчук был очищен от изменников. Ромодановский с главными силами своими и с Золотаренком вступил в Переяславль, соединился здесь с Самком и 16 июля напал на таборы Хмельницкого, который потерпел совершенное поражение. Канев и Черкассы были заняты царскими войсками. Но скоро счастье переменилось: Хмельницкому с татарами удалось разбить под Бужином московский отряд, бывший под начальством стольника Приклонского, и прогнать его за Днепр (3 августа); по донесению Хмельницкого королю, 1 августа под Крыловом истреблено было больше 3000 царского войска; под Бужином погибло 10000, козаки и татары взяли семь царских пушек, множество знамен, барабанов и разных военных снарядов. После этого Ромодановский тотчас велел отступать, бросая тяжести; но султан Магмет-Гирей, переправившись с своими татарами через Сулу, настиг Ромодановского, разбил его, взял 18 пушек и весь лагерь. Ромодановский ушел в Лубны. Но Хмельницкий, донося об этих успехах королю, умоляет прислать поскорее помощь, жалуется на свое бессилие, на невозможность удерживать в повиновении украинский народ, шатающийся от малейшего ветра. Тетеря писал королю, что, приехав в стан Хмельницкого на Рассаве, он нашел здесь много беспорядков: сам гетман человек усердный, но войско непослушное. И Тетеря настаивал на том же, что необходимо как можно скорее прислать помощь Хмельницкому, иначе дела примут дурной оборот. В октябре явился к королю Грицка Лесницкий с просьбою от Хмельницкого, чтоб король позволил ему сложить гетманство, ибо он не в состоянии более нести эту трудную должность, будучи молод и разорен подарками, которые должен был давать татарам и которые простираются до миллиона. Лесницкий же привез страшную новость, что соперничество между Москвою и Польшею, соперничество, разорившее Украйну и не могущее окончиться по бессилию обеих держав, пролагает дорогу третьему сопернику: татары, говорил Лесницкий, уговаривают всю Украйну, чтоб она отторглась от республики и отдалась в покровительство хана и Порты, которые способны защищать ее, тогда как Польша этого сделать не хочет и не может: поляки ссорятся между собою у себя дома, войско не слушается короля, и если бы не татары, то Польша давно бы уже погибла. Лесницкий прибавлял, что эти внушения могли иметь сильное влияние на чернь. Тетеря доносил, что Войско не терпит Хмельницкого, требует его смены и что едва он, Тетеря, успел уговорить козаков успокоиться; для этого он употребил угрозу, что если они обидят Хмельницкого, то этот богач наймет татар и опустошит Украйну. Мы не знаем, действительно ли Тетеря уговаривал козаков не сменять Хмельницкого; знаем только то, что последний в конце 1662 года сам отказался от гетманства и постригся в монахи, а Тетеря избран был на его место. Новый гетман начал тем, что уведомил короля о нестерпимых обидах от Орды, повторяя прежнюю просьбу о присылке ратных людей, ибо если хан придет прежде польского войска, то Украйна распрощается с королем. Тетеря писал, что Хмельницкий потому отказался от гетманства, что не мог получить от короля помощи, и он, Тетеря, должен беспрестанно докучать об этом же, а на Войско Запорожское надежда слаба, потому что в нем больше таких, которые желают не спокойствия, а постоянных смятений.
В то время как западная сторона переменила гетмана, на восточной по-прежнему продолжалась борьба между искателями гетманства, борьба, ведшаяся доносами в Москву. Самко бил челом, чтоб государь отставил его от старшинства, потому что нежинский полковник его слушаться не хочет и наносы на него наносит; жаловался, что в Малороссии трое гетманов, кроме него еще Золотаренко и Брюховецкий: последний самовольно прислал своих козаков в города и в полках берет стации; Самко просил уволить его от гетманства и дать оборонную грамоту, чтоб на него и на имение его наступать не смели и никаких обид не делали. Самко жаловался и на князя Ромодановского, просил, чтоб на его место был прислан другой боярин, потому что Ромодановский, не слушая его советов, тратит войско, слушается только Мефодия и Золотаренка, генеральной рады не собирает, отчего смута и своевольство, ибо он, Самко, как гетман несовершенный, распоряжаться не может. «Мефодий и Васюта, – продолжает Самко, – отговариваются от рады отсутствием запорожцев: но у нас всегда, по стародавным правам, гетманов выбирали в городах без запорожцев, потому что Войско Запорожское одно, выходящие из Запорожья должны по своим полкам расходиться. Теперь орда нас заперла и множество людей побила; а на Преображеньев день под самыми Лубнами татары, напавши на табор нежинский, многих побили, сам полковник, табор оставя, наперед ушел в Лубны. Все это приключилось оттого, что епископ и Васюта отвели князя Ромодановского от совета с нами, в поле, в безхлебие вывели; неопытные в делах войсковых, епископ и Васюта были виновниками потери славы и людей. А я, вашего царского величества верный слуга, хотя и уничижен ими, загоны все из-за Днепра вывел и в Переяславль пришел в целости. Умоляю, милосердый государь, вели князю Ромодановскому или кому-нибудь другому собрать полки козацкие, чтоб больше, как бедные овцы без пастыря, не ходили и не гинули, но при своих вольностях стояли бы за веру православную, а теперь и сами не знаем, за что погибаем?» Относительно Юрия Хмельницкого Самко извещал, что он посылал к нему каневского полковника Лизогуба уговаривать покориться государю; но Хмельницкий велел расстрелять посланного в Чигирине и с ним вместе многих других каневцев, черкасцев, корсунцев, которые начали было радеть государю. За это Самко велел порубить 10 человек пленных поляков, «потому что мы, – писал он в Москву, – никакого добра от ляхов не ищем». Потом Хмельницкий дал знать Самку, что слагает с себя гетманство и идет в монахи.
Самко жаловался на Мефодия за то, что епископ этот вместе с Золотаренком советовали Ромодановскому медлить созванием рады; а Мефодий писал царю, что Самко не поехал на раду сам и другим запретил; полковники нежинский и черниговский отговорились дальностью пути и тревожным состоянием страны; иные полковники, боясь Самка и глядя на Золотаренка, не поехали. Брюховецкий писал, что Самко – изменник, потому что хулит московские серебряные копейки, велел спалить суда, которыми царь пожаловал Войско низовое, Кодак уступил татарам, Кременчук, сговорись с Хмельницким, сжег; верных государю людей отослал к Хмельницкому, который, по его письмам, переказнил их. А тут еще церковная усобица: митрополит Дионисий Балабан послал к константинопольскому патриарху с жалобою, что Мефодий изгнал его и силою похитил митрополичий престол посредством мирской власти. По просьбам Балабана и Хмельницкого патриарх выдал на Мефодия проклятие, которое Балабан переслал в Киев, отчего здесь произошло сильное волнение между духовными и мирскими людьми. Мефодий просил царя ходатайствовать у патриарха о снятии проклятия.
В таких смутах проходил 1662 год. Зимою нечего было думать о созвании рады, имевшей прекратить эти смуты, и потому 19 декабря отправлен был из Москвы в Малороссию стольник Ладыженский с объявлением, что весною должна быть непременно рада, на которую обязаны все явиться, а для прекращения неудовольствий на зиму Ладыженский должен был объявить Брюховецкому, стоявшему в Гадяче, чтоб он шел на зиму к себе в Запорожье, а весною приходил опять для рады. Это требование сильно не понравилось Брюховецкому; он отвечал Ладыженскому: «Не дождавшись государева указа и полной рады, в Запороги мне появиться нельзя, свои козаки меня убьют тотчас, зачем я столько людей водил и, не дождавшись рады, пришел. Самко заказ делает в городах крепкий, чтоб в Запорожье никто не ходил и запасов не пропускал; а если надо мною Самко или козаки что сделают, то Запорожье смятется и в городах будет замятия большая. По сношениям с Самком Юраска Хмельницкий многих за Днепром полковников и козаков казнил, которые великому государю добра хотели; а чернь вся и теперь хочет поддаться великому государю; когда выберется гетман всеми вольными голосами, пункты закрепятся и черным людям в поборах легче будет, то за Днепром, смотря на это, черные люди поддадутся великому государю». Ладыженский, по наказу, повторял царское требование; Брюховецкий расплакался: «Рад я государю служить и голову за него положить; но выгреб я с козаками в судах, у козаков лошадей нет, живучи здесь многое время, пропились все донага, зимою идти нельзя, тотчас меня убьют свои козаки; да и Самко великому государю не верен, на дороге меня убьет, как Выговский Барабаша, и если надо мною что случится, то, говорю тебе сущую правду, вся Украйна смутится и Запорожье отложится. Если государь весною полной рады учинить не велит, то я извещаю, что Самко поддастся королю: для этого Юраска Хмельницкий и гетманство сдал Павлу Тетере по родству. Чего прежде у нас никогда не бывало, нынче гетман, полковники и начальные люди все города, места и мельницы пустопорозжие разобрали по себе, всем владеют сами своим самовольством и черных людей отяготили поборами так, что в Цареграде и под бусурманами христианам такой тягости нет. Когда будет полная черная рада и пункты все закрепятся, то все эти доходы у гетмана, полковников и начальных людей отнимут, а станут эти доходы собирать в государеву казну государевым ратным людям на жалованье: поэтому-то наказный гетман и начальные люди полной черной рады и не хотят». 14 января 1663 года у Брюховецкого с его козаками был круг; в кругу козаки кричали, что они наги и бесконны и пешком им в Запорожье никак идти нельзя; а еще накануне, 13-го числа, Брюховецкий написал царю такую грамоту: «Мы, все Войско Запорожское, с великою охотою ради бы указ твой исполнить, но не можем, потому что время зимнее; теперь на зиму из Запорожья в города за хлебом приходят, а не из городов идут в Запорожье; притом же путь туда из Гадяча дальный, с полтораста миль; а за порогами никаких городов нет, ни сеют, ни орут, только отсюда из городов хлеб добывают, и то разве саблею. Умилосердись, государь праведный, не дай погибнуть головам нашим от безбожных изменников, изволь несколько полков ратных людей к нам прислать, а в городах позволь быть нам до полной рады».
В Гадяче Ладыженский нашел и епископа Мефодия, который был совершенно на стороне Брюховецкого и говорил московскому посланнику те же речи, что и тот, так же толковал об измене Самка; приехали полковники – полтавский, миргородский и зенковский – и подтвердили слова Брюховецкого и Мефодия. Ясных доказательств измены Самковой представить не могли и потому внушали, что Юрий Хмельницкий Самку племянник, а Самкова сестра за Павлом Тетерею, которому Хмельницкий сдал гетманство, и как только Самко сделается совершенным гетманом, то непременно изменит. Рассказывали, что Беневский с ханом все пункты положил и хан к королю приказывал, чтоб черкасам для прелести жаловал большие почести, хотя бы кого и в краковские воеводы пожаловал, только бы всех черкас обратил к себе; а когда все черкасы будут под властью короля, то он будет их мало-помалу сжимать и приведет их в свою волю; для этого он и прислал Павла Тетерю и велел ему принять гетманство у Юраски Хмельницкого. В Гадяче Ладыженский узнал, что Золотаренко сблизился с Самком и согласился на избрание его в гетманы; московского посланника известили, что Золотаренко все свое имение перевез из Путивля в Нежин. «По этому их верность знать можно, – толковали Ладыженскому, – пока Золотаренко с Самком не еднался, до тех пор государю и прямил, а теперь имение свое все из Путивля перевез, чтоб у него ничего в старых государевых городах не было». Мефодий говорил Ладыженскому: «Мне по государеву указу ехать в Киев нельзя, не смею, потому что Самко государю не прочит, хочет изменить, а меня велит погубить; государь бы пожаловал, до полной рады велел мне жить в Гадяче».
Когда Ладыженский приехал в Переяславль, то здесь Самко рассыпался перед ним в жалобах, что он служит верою и правдою, а государь его не жалует, гетманом после козелецкого избрания не утверждает. Ладыженский отвечал, что государь не утверждает его по розни полковников, которые не все в Козелецкой раде были, и хочет, чтоб его, Самка, выбрали полною радою, согласно с правами. Самко продолжал: «Если государь епископа Мефодия из Киева и изо всех черкасских городов вывести не велит, а быть ему на раде, то мы и на раду не пойдем; никогда и митрополиты на раду не езжали и в гетманы не выбирали; служить великому государю от таких баламутов нельзя, я гетманство с себя сдаю, выбирайте себе, черкасы, ласкового господаря. Государевы люди живут в Переяславле многое время, государево жалованье дают им деньгами медными, а у нас, в черкасских городах, деньгами медными не торгуют; от этого ратные люди оскудели вконец и начали воровать беспрестанно, многих людей без животов сделали, жить с ними вместе нельзя». Ладыженский упомянул о царской милости к нему. Самку; тот отвечал: «Посланники, приезжая из Москвы, всегда мне государские милости сказывают, а не только что государева жалованья не могу дождаться и своих денег, которые дал взаймы воеводе Чаадаеву на жалованье государевым ратным людям 4000 рублей». Ладыженский отвечал, что деньги не привезены потому, что дороги небезопасны. Потом Самко обратился к Брюховецкому: «Зачем Брюховецкий называется гетманом? В Запорожье бывают только кошевые атаманы; Брюховецкому верить нельзя, потому что он полулях; был ляхом, да крестился, а в войске не служивал и козаком не бывал, служил он у Богдана Хмельницкого, и приказано ему было во дворе, а на войну Богдан его с собою никогда не брал. Козаки порознь по своим лейстрам (реестрам) переписаны, а мужики себе переписаны будут; леестровые козаки станут государю служить, а с мужиков станут собирать государеву казну и хлебные запасы; а теперь, в этой розни, у великого государя все пропадает, называются все козаками, на службу нейдут и государевой казны не платят; а как неприятели наступят, то козаки леестровые многие, не хотя государю служить, а мещане, не хотя податей давать, бегают в Запорожье, да только на себя рыбу ловят, а сказывают, будто против неприятеля ходили».
В то время как Ладыженский жил в Переяславле, приехал человек Самка, Жилка, посыланный к Тетере. Ладыженский зазвал Жилку к себе и расспрашивал, потчевал и дарил и вот что узнал: был он, Жилка, у гетмана Павла Тетери, а Юраска Хмельницкий при нем постригся, и жить ему в Чигирине в Новоскицком монастыре. Писал Самко к Тетере, чтоб им друг с другом жить мирно, а Тетеря писал, чтоб им соединиться и поддаться королю; но козаки говорят, чтоб сложиться с татарами; а татары говорят, что у турского они отягчены великою данью и им бы от турского отложиться да с черкасами жить заодно: Павел Тетеря на той стороне непрочный гетман, пойдет опять в Польшу к королю, потому что он секретарем у короля. Ладыженский после разговоров с Жилкою пошел к Самку и потребовал, чтоб он дал ему все письма, присланные Тетерею. Самко отвечал: «Теперь я начал пить, имею вольность, а какие у меня есть листы, все пошлю в Москву». Тетеря, давая знать королю о сношениях своих с Самкою, писал: «Пан Самченко склоняется отчасти к добру и, как я понял из его письма, прельстится еще больше, если ваша королевская милость уверите его и всех заднепровцев явным ручательством и другою особою привилегиею в том, что не будете мстить ни ему и никому из Заднепровского Войска и что наравне с нами даруете ему свободу и милость».
В Гадяче Ладыженскому говорили, что Золотаренко соединился с Самком, хочет его в гетманы; в Переяславле Самко утверждал, что в Нежине была рада, полковники и чернь выбрали его в совершенные гетманы и лист ему прислали, закрепя руками своими и печатями; а на весну по траве быть раде только затем, чтоб князю Ромодановскому отдать ему при полковниках и при всей черни пункты и привилеи. Но когда Ладыженский сказал об этом в Нежине Золотаренку, тот отвечал: «В Нежине у нас рада была нынче о том, чтоб государь пожаловал, велел до весны полную раду отсрочить, а до полной рады быть старому гетману, Самку, чтоб между нами розни не было; а на полной раде кого всею чернью выберут, тому и быть гетманом; в совершенные гетманы Самка не выбирали; это он затеял; он беспрестанно ссылался с Юраскою Хмельницким, а теперь ссылается с Тетерею, и верить ему нельзя».
И в грамоте к царю Самко повторил просьбу не допускать епископа Мефодия на раду; повторил и жалобу на воровство московских ратных людей, которые били, грабили переяславцев и называли их изменниками; Самко требовал смертной казни виновным и жаловался на переяславского воеводу князя Волконского, который воров не казнит, как будто сам с ними вместе ворует. Царь в марте месяце отправил в Переяславль стольника Петра Бунакова разыскать по жалобе наказного гетмана. Когда Бунаков явился к Самку и подал ему царскую грамоту, тот отвечал, что на царской милости челом бьет, но что розыску обидным делам сделать нельзя: ратные люди обижали персяславцев долгое время, так что иные обиженные побиты на боях, другие взяты в плен, иной челобитчик и есть, да ответчика нет, ответчик налицо, так челобитчика нет, и потому теперь от переяславских жителей на ратных людей челобитья не чаять; пусть великий государь пожалует, вперед своим ратным людям обижать переяславцев не велит. Бунаков жил в Переяславле с 29 мая по 28 июня, на съезжем дворе сидел каждый день, и во все это время только раз приведен был драгун, пойманный в краже, повинился, был бит кнутом на козле и в проводку и отдан на поруки. Бунаков призвал переяславских начальных людей и спросил их, будут ли наконец челобитные от переяславцев на московских ратных людей или нет? Те отвечали, что по прежним челобитным некоторые переяславцы учинили сделки с обидчиками; иные ратные люди в исках сидят в тюрьме и стоят на правеже; а вновь челобитий вскоре не чаять и ему, Бунакову, в Переяславле жить, надобно думать, незачем.
Между тем в апреле месяце Брюховецкий писал к князю Ромодановскому, что Самко с Тетерею тайно войну ведут против великого государя таким обычаем: Тетеря татар призывает, а Самко государевых бедных людей грабит и платеж вымышляет; теперь, говорят, по его же призыву три тысячи татар пошли к Путивлю, чтоб помешать раде. Но татары не помешали раде. Еще в марте государь отправил в Малороссию окольничего князя Данила Великого-Гагина объявить старшине, войску, мещанам и черни, чтоб они учинили черневую генеральную раду для выбора совершенного гетмана всеми вольными голосами, кто им будет люб, по их стародавным войсковым правам и по переяславским статьям. Под Нежином в июне месяце собралась эта рада: приехали епископ Мефодий, Самко, Брюховецкий, все полковники и вся старшина, было все войско и мещане. Брюховецкий и отсюда не замедлил отправить донос в Москву; 8 июня он писал царю: «По указу вашего пресветлого царского величества, благодетеля нашего милостивого, пришел я с войском на раду под Нежин и стою в Новых Млынах, потому что полковники и чернь просят, чтоб я сжидался с ними. А Васюта Золотаренко докладывался у окольничего князя Великого-Гагина, чтоб позволили ему с нами драться, потому что не любит правды, которую ему чернь хочет в глаза говорить и объявлять его измену, что он с Самком усоветовал отложиться от вашего царского величества, для чего и города все укрепили, и колокола на пушки перелили. Только их совет господь разорил счастьем вашего царского пресветлого величества, и если бы эти смутники на сей стороне Днепра чернь не обманывали, то и та сторона давно бы под вашею высокою рукою была; полковник Поволоцкий недавно побил всех ляхов и жидов, которые были в его полку; теперь он один так сделал, а если б не Самко с Васютою смущали здесь народ, то и все полковники за Днепром сделали бы то же, что Поволоцкий». Брюховецкий подписался: «Верный холоп и нижайшая подножка пресветлого престола».
Наконец судьба искателей гетманства решилась. 18 июня была знаменитая черная, или генеральная, рада, о которой так много толковали и переписывались. Не дали еще Гагину дочитать царского указа о гетманском избрании, как с одной стороны раздались крики: «Брюховецкого!», а с другой: «Самка!», но за криками следовала драка: запорожцы Брюховецкого кинулись на приверженцев Самка; бунчук наказного гетмана был сломан, он сам едва мог выдраться из толпы и скрыться в шатер царского воеводы; несколько человек было убито; победители запорожцы столкнули Гагина с его места и выкрикнули своего кошевого гетманом. Гагин, однако, не дал Брюховецкому утверждения от имени царского: Самко объявил ему, что гетманство Брюховецкого, приобретенное насилием, не есть законное, что ни он, ни Войско не признает его гетманом и что необходимо собрать новую раду. Рада была созвана, но Самко не получил от нее никакой выгоды, потому что приверженцы его перешли на сторону Брюховецкого, провозгласили его гетманом и стали грабить возы своей старшины; единственною причиною такого отступничества малороссийский летописец полагает непостоянство своих соотечественников. После этого нового избрания, против которого нельзя было ничего сказать, Гагин дал булаву Брюховецкому. Запорожцы праздновали свое торжество трехдневным убийством: гибли неприязненные Брюховецкому полковники, и их место заступали запорожцы. Новый гетман отправил в Москву благодарственное посольство и вместе с Мефодием по-прежнему твердил об измене Самка и Золотаренка; обвиненные отданы были на войсковой суд, по древнему обычаю казацкому; судьями были враги-победители, которые и приговорили побежденных к смертной казни; приговор был исполнен в Борзне 18 сентября в присутствии обозного Ивана Цесарского, киевского полковника Василия Дворецкого и прилуцкого Данилы Песоцкого. Вместе с Самком и Золотаренком казнены были: Афанасий Щуровский, Аникий Силич (полковник черниговский), Степан Шамрицкий, Павел Киндей, Ананка Семенов, Кирилл Ширяй. Десять человек: Семен Третьяк, Матьяш Панкеев, Дмитрий Черняевский, Самойла Савицкий, Михайла Вуяхеев, Фома Тризнич, Иван Воробей, Семен и Прокофий Кулженские, Левка Бут, лубенского Мгарского монастыря игумен Виктор были отвезены в оковах в Москву; отвезли их те же Цесарский и Дворецкий. Украйна волновалась. В Чернигове все начальные люди радели полякам, купцы и чернь тянули к Москве. Черниговский епископ Лазарь Баранович хвалился, что он удержал Новгород-Северский за Москвою. В Киеве воевода Чаадаев успел приобрести всеобщую любовь, но волновалось войско по причине медных денег: двадцать медных денег платили за одну серебряную.
Таким образом и прекращение распри между искателями гетманства не обещало продолжительного спокойствия в Малороссии; а между тем Польша оправилась, войско получило жалованье, Мы уже упоминали, что в Белоруссии и Литве война продолжалась очень неудачно для Москвы. Осенью 1661 года Хованский вместе с Ординым-Нащокиным потерпел новое поражение при Кушликах от литовского войска, бывшего под начальством Жеромского; из 20000 русских не более тысячи спаслось в Полоцк вместе с Хованским и раненым Нащокиным; Литва хвалилась, что потеряла только человек около 40 убитыми и взяла множество пленных, в том числе сына Хованского; девять пушек, знамена, образ богородицы, бывший с Нащокиным при Валиесаре и которым так дорожили и царь и воевода, достались победителям.
Потеряны были Гродно, Могилев, самая Вильна. В этой столице Литвы сидел воеводою стольник князь Данила Мышецкий только с 78 солдатами. Сам король осадил Вильну и отправил к Мышецкому литовского канцлера Паца и подканцлера Нарушевича с требованием сдачи, обещая для воеводы и всех ратных людей свободный выход к московским границам с казною и со всем имением. Мышецкий отвечал, что сдаст город, если король позволит ему распродать весь хлеб и соль и даст ему под его пожитки 300 подвод. Король не согласился на распродажу хлеба и соли и обещал дать воеводе только 30 подвод. Тогда Мышецкий объявил, что хотя все помрут, а города не сдадут. Король велел своему войску готовиться к приступу. Узнавши об этом от перебежчика, Мышецкий велел у себя в избе, в подполье, приготовить 10 бочек пороху и хотел, зазвавши к себе в избу всех солдат, как будто бы для совещания, запалить порох. Но солдаты проведали об этом умысле, схватили воеводу, сковали и выдали королю. Когда его привели к Яну-Казимиру, то он не поклонился: король, видя его гордость, не захотел с ним говорить сам, а выслал канцлера Паца спросить его, какого он хочет милосердия? «Никакого милосердия от короля не требую, а желаю себе казни», – отвечал Мышецкий. Его желание было исполнено; перед казнью читали сказку, что Мышецкого казнят не за то, что он был добрый кавалер и государю своему служил верно, города не сдал и мужественно защищался, но за то, что он был большой тиран, много людей невинно покарал и, на части рассекши, из пушек ими стрелял, иных на кол сажал, беременных женщин на крюках за ребра вешал, и они, вися на крюках, рождали младенцев. Перед смертию осужденный написал духовную, которую потом один монах доставил в Москву: «Память сыну моему, князю Ивану Даниловичу Мышецкому, да жене моей, княгине Анне Кирилловне: ведайте о мне, убогом: сидел в замке от польских людей в осаде без пяти недель полтора года, принимал от неприятелей своих всякие утеснения и отстоялся от пяти приступов, а людей с нами осталось от осадной болезни только 78 человек; грехов ради моих изменили семь человек: Ивашка Чешиха, Антошка Повар да Сенька подьячий – и польским людям обо всем дали знать. От этого стала в замке между полковниками и солдатами шаткость большая, стали мне говорить шумом, чтоб город сдать; я склонился на это их прошенье, выходил к польским людям на переговоры и просил срока на один день, чтоб в то время, где из пушек разбито, позаделать; но пришли ко мне начальные люди и солдаты все гилем, взяли меня, связали, заковали в железа, рухлядь мою пограбили всю без остатка, впустили польских людей в замок, а меня выдали королю и просили казнить меня смертию, а сами все, кроме пяти человек, приняли службу королевскую. Король, мстя мне за побитие многих польских людей на приступах и за казнь изменников, велел казнить меня смертию». Приговор был исполнен поваром княжеским; тело казненного похоронено в Духовом монастыре. После в Вильне рассказывали, что многие люди видели, как обезглавленный воевода расхаживал около своей могилы.
Смоленский воевода князь Петр Долгорукий, извещая государя об успехе, одержанном князем Данилою Борятинским над поляками при Благовичах (в Могилевском уезде), прибавляет: «В Быхове хлебных запасов ничего нет, ратные люди едят траву и лошадей». В самом Смоленске на рынках не было хлебного привоза, потому что уездные люди, обмолотивши хлеб, ссыпали его в ямы, а солому жгли и никто не вез хлеба на продажу в город. Царь должен был грозить им за это жестоким наказанием безо всякой пощады. Грозя смоленским уездным людям наказанием за укрывательство хлеба, царь приказывал пустошить вконец другие уезды, не имея другого средства вредить усиливающемуся неприятелю. Так, в сентябре он послал указ Долгорукому отправить ратных людей в уезды Дубровинский, Оршанский, Копысский, Шкловский, Могилевский, Кричевский с тем, чтоб они забрали жителей, хлеб и скот, а сено и солому жгли без остатку, чтоб польским людям в зимнее время пристанища не было. Ратные люди исполнили охотно этот царский указ в надежде обогатиться добычею. Они подошли под Копыс, разбили неприятеля, сделавшего на них вылазку из этого города. Ходить на приступы было запрещено, чтоб не тратить людей, в которых чувствовался большой недостаток. Желая постращать жителей Копыса и принудить их к сдаче без бою, воевода Толочанов велел пускать в город гранаты, от которых загорелось два двора. Тут солдаты, ударив в барабаны, закричав ясаком, пошли на приступ. Толочанов бросился к полковникам, крича, что на приступы ходить не велено; полковники отвечали, что солдаты пошли без их приказания, самовольно. Тогда воевода отправил полковников Вильяма Брюса и Николая фон Залена отвести солдат от города, послал с полковниками есаулов и дворян; но полковники, возвратясь из-под города, объявили, что солдаты их не послушали, поручиков и дворян перебили, полковника Брюса ранили по руке, фон Залена кирпичом в голову. Приступ не удался, солдаты были перебиты и переранены. Толочанов спрашивал возвратившихся с приступа, зачем они пошли без приказания? Те отвечали: «Нам обухов не перетерпеть, мы всеми полками скажем, что нам велели идти полковники и начальные люди». Если слышались частые жалобы из Малороссии на побеги ратных людей, то в Белоруссии было то же самое: из отряда майора Дурова убежало 35 человек, у полковника Жданова 57, налицо осталось 564; у стрелецкого головы Колупаева не пошло на службу из Москвы 46 человек, ушло 128, налицо 209; у полковника Дефрома убежало 226 солдат, налицо 330 и т. д. Борисов еще с 1660 года находился в осаде; в 1662 году воевода его Кирилла Хлопов писал, что ратные люди беспрестанно бьют челом о соли, а ему дать им нечего и он боится, чтоб от них не сделалось чего-нибудь дурного, потому что они сильно скучают и изменяют, начали перебегать к польским людям. Смоленский воевода князь Петр Долгорукий доносил, что у него пороху и фитилю нет. В мае месяце из Кобрина вышел полковник Статкеевич с тем, чтоб стянуть литовские отряды, находившиеся в Полоцком, Витебском, Борисовском и Минском поветах, идти с ними в Оршу и стеречь, чтобы осажденные в Быхове и Борисове не получали из Москвы подкреплений и запасов; узнав, что из Смоленска к Быхову идут московские ратные люди с денежною казною и запасами, Статкеевич послал свое войско перенять их. В пяти верстах от Чаус, между реками Пронею и Басею, поляки Статкеевича встретились с русскими, бывшими под начальством иностранца, генерал-майора Вильяма Друмонта: в упорном бою 15 знамен старой королевской пехоты были истреблены все до одного человека, конницу победители топтали на 15 верстах и взяли в плен 70 человек. Но этот частный успех но мог переменить общего хода дел в пользу Москвы. Поляки знали, что пехота начинает перебегать из московских полков вследствие скудного жалованья, получаемого медными деньгами; что для предупреждения побегов солдат и стрельцов в Смоленске не пускают за городские стены; что иностранные офицеры недовольны опять вследствие плохого жалованья медными деньгами и насильственною задержкою в России; что солдаты бегут из самой Москвы и из полков украинских, бегут в степи и в Сибирь; что в Москве сам царь лично два раза упрашивал войско не покидать службы; что большая половина смоленской шляхты склоняется на сторону королевскую; что в самой Москве по причине медных денег дороговизна, голод и возмущения. В Литве, в местечке Виленах, в это время находилось 242 русских чиновных пленника, в том числе один стольник (князь Петр Иванович Хованский), 3 полковника, 2 стрелецких головы, 4 подполковника, 7 ротмистров, 2 майора, 8 капитанов, 15 поручиков, 11 прапорщиков, 103 человека дворян и детей боярских. Так как их содержали очень дурно, то царь считал своим долгом посылать к ним деньги, что еще увеличивало военные расходы: так, в начале 1662 года роздано было пленным в Литве 836 золотых червонных да взаймы, для нужды и голоду, дано 82 золотых. Кроме того, были пленные у короля, Чарнецкого и других сенаторов.
Чем хуже шли дела в Белоруссии и Литве, тем сильнее становилось в Москве желание мира. В 1661 году попытка царя задержать военные действия мирными переговорами не удалась. Съезд посольский, обещанный в октябре, не состоялся. В марте 1662 года новый посланник царский, стольник Нестеров, приезжал в Варшаву с тем же предложением перемирия на время посольских съездов. Сенаторы отвечали, что если царь уступит королю Киев, Переяславль, Нежин и все черкасские города Заднепровской Путивльской стороны, также Полоцк, Витебск, Динабург, Борисов и Быхов, то король велит заключить перемирие и удержать войска месяца на два или на три для посольского съезда, которому быть на Поляновке. Нестеров отвечал, что в два или три месяца уполномоченные не успеют съехаться; для перемирия на два или на три года он уступит королю Борисов, о других же городах ему говорить не наказано; потом согласился уступить еще Динабург: но паны объявили ему решительно, что перемирия не будет, а ратные люди отведутся на 15 миль от того места, где будет назначен съезд уполномоченных; сенаторы прибавили, что если постановлять договор о перемирье, то надобно посылать к крымскому хану, что потребует много времени; без пересылки же с крымским ханом перемирья заключить нельзя. Нестеров отвечал на это: «Удивительно, что королевское величество и вся Речь Посполитая в государстве своем без ведома искони вечного христианского неприятеля крымского хана сделать ничего не можете и не смеете; а крымский хан между христианскими государствами никогда покою не пожелает, и о том королевскому величеству крымского хана спрашивать не доведется». Паны отвечали: «Крымский хан нам товарищ, да и король и вся Речь Посполитая перемирья заключить не хотят». На это Нестеров сказал: «С которой стороны перемирью не быть, с той стороны и правде не быть». Но царские уполномоченные – боярин князь Никита Иванович Одоевский, боярин князь Иван Семенович Прозоровский, думный дворянин Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин и думный дьяк Алмаз Иванов уже отправились в Смоленск, куда к ним высланы были и польские пленники – гетман Гонсевский, полковники Неверовский и Обухович с товарищами, всего 212 человек, потому что за этих пленников король обещал отдать окольничего князя Осипа Щербатого, стольников князей Семена Щербатого и Григорья Козловского, Ивана Акинфова; а гетман Гонсевский обещал государю, что за него король даст кроме означенных пленников еще князя Петра Хованского. Гонсевского немедленно отпустили из Смоленска в Шклов; но русские пленники не были возвращены, потому что Потоцкий, Любомирский, Чарнецкий, на долю которых они достались, не хотели отпустить их без окупу. Между тем из Борисова пришла весть, что съестные запасы все вышли и немцы сильно скучают; в Москве признали невозможным поддерживать долее этот город и послали приказ воеводе его Хлопову покинуть Борисов. 9 июля Хлопов исполнил приказ, вышел из города со всеми ратными людьми, пушками, запасами и казною.
Лето проходило. Польские комиссары не являлись для переговоров. Австрийские послы, приехавшие для посредничества, жили понапрасну в Смоленске. В августе приехал в Смоленск выпущенный из плена окольничий князь Осип Щербатый; но вместе с ним приехал львовский купец грек Кирьяк, который заплатил за пленника Потоцкому 20000 золотых польских и теперь приехал искать своих денег. Так как Потоцкий взял деньги вопреки решению короля и сейма, определивших, чтоб пленных не давать на окуп, то в записи, данной Щербатовым, было означено, что окольничий посулил гетману подарок за его добродейство. Полномочные послы велели выгнать Кирьяка из Смоленска и писали шкловскому коменданту: «Вы пишете в своей грамоте, что окольничий князь Щербатов отпущен из шкловской крепости по приказу королевскому за гетмана Гонсевского: так вопреки указу королевскому с какой стати он будет еще платить деньги за какое-то добродейство гетмана Потоцкого? То ли гетманское добродейство, что вопреки присяге своей вместо увольнения пленником его сделал и, по бусурманскому обычаю, захотел его продать? Когда гетман Гонсевский по милости великого государя нашего из плена был освобожден, то на нем никаких подарков никто не спрашивал. Христианское ли то дело, чтоб христианину христианами как скотом торговать и прибыли по-бусурмански искать?» Несчастный грек считал также себя вправе думать, что с ним поступили по-бусурмански: он писал к Одоевскому с товарищи: «Сам князь Щербатов обещался мне и поручился; вы обещались, что будет мне свободный пропуск в Москву. Я у пленников был отцом и добродеем, а теперь как изменник выгнан из Смоленска. Христианское ли это дело – бедного торгового человека приводить к такой пагубе, что мне уже незачем к бедным моим детям возвратиться? Камень бы заплакал, смотря на мою обиду, какой и бусурманы не делают. Такие обиды государства до пагубы приводят. Со слезами к ногам вашим припадаю, пропустите меня к наияснейшему царю, а он, государь христианский великий, еще ни одному нашему брату торговому человеку обиды не сделал и бедных сирот не ослезил». Потоцкий прикрыл выкуп именем подарка, но Чарнецкий не считал нужным церемониться: он прямо потребовал с пленных, находившихся у него в Тикотине, с 75 человек окупу 16000 рублей, мех рысий или за него сто рублей денег да барса; пленники посулили окуп, не стерпя тяжкой нехристианской неволи и немерной работы. Послы отписали Чарнецкому, чтоб он, зная сеймовое постановление о размене пленных, оставил бусурманский обычай; отписали всему войску коронному, чтоб оно московских пленников высылало на размену на своих поляков, которых множество в Московском государстве. Наконец в сентябре освобождены были обещанные за Гонсевского знатные пленники – князья Семен Щербатый, Григорий Козловский, Петр Хованский, Иван Акинфов. Для остальных назначена была в местечке Горах генеральная размена, для чего съехались с обеих сторон разменные комиссары; меняли чин на чин и человека на человека; на время размены условились прекратить неприятельские действия. В октябре комиссары разъехались, не кончивши размены; русские комиссары жаловались на несоблюдение условий со стороны поляков. Во время размены королевские ратные люди приходили под Витебск, в Витебском повете села и деревни разорили и город держали в большой тесноте; другой отряд поляков приходил под Великие Луки, выжег посады, в уезде села и деревни разорил; наконец во время же размены поляки напали на русский отряд, возвращавшийся с хлебными запасами из Полоцка в Витебск. Польские комиссары не отдавали русских начальных людей на обмен за польских, своих начальных людей называли волонтерами и шишами; за русских полковников и полуполковников просили своих товарищей по шести и по семи человек; товарищей, драгунов и челядников, брали выбором, шляхту, свою братью, родовитых людей, называли челядью и хлопцами и давали за них не против их версты людей боярских и мужиков, побранных в обозах и в дороге за возами, а не на бою. Тщетно русские комиссары настаивали, чтоб поляки брали за полковника шляхты и драгунов по четыре человека, за полуполковника по три, а за иные чины, кроме прапорщиков, по два; поляки делали по-своему и, оставя своих пленных, человек с двести, уехали из Гор и задержали русских пленных, начальных людей, в Шклове. Освобождено же было русских пленников всего 438 человек, поляков отпущено 381 человек; за разменом осталось в Смоленске поляков и литвы 366 человек да у князя Петра Долгорукого 150; польские комиссары потому требовали так много шляхты за начальных русских людей, что между польскими пленными начальных людей не было. Не зная еще о прекращении размены, из Москвы продолжали высылать польских пленников, так что в ноябре в Смоленске было их 611 человек; двор, на котором прежде помещались пленники, и тюрьма стали тесны, а на мещанских дворах ставить их было нельзя, потому что все дворы были заняты ратными людьми. Пленным давали – шляхтичу по десяти медных денег на день, челяднику и драгуну по шести, да каждому по четверику сухарей и по гривенке соли на месяц. Но воевода смоленский князь Петр Долгорукий объявил, что в казне сухарей мало и вперед пленным давать будет нечего. Государь, получив об этом известие, велел Одоевскому давать за русских начальных людей столько польских пленников, сколько запросят комиссары, лишь бы русские люди, будучи в плену, не померли напрасною смертью.
Но число русских пленников, начальных людей, увеличивалось у поляков: 16 декабря королевские войска под начальством полковника Черновского взяли приступом Усвят, пленили воеводу и многих государевых людей побили и побрали в плен; шляхетский ротмистр Глиновецкий, шляхтич Сестринский и мещанский войт были повешены за то, что не сдали города полякам. Посланец Одоевского Дичков понапрасну жил в Вильне, дожидаясь какого-нибудь ответа от комиссаров; те отпустили его ни с чем, отговариваясь, что сами не получают никакого приказа от короля. Дичков привез в Смоленск известие о страшной смерти гетмана Гонсевского и маршалка Жеромского: 16 ноября явились в Вильну товарищи войсковые Хлевинский да Новошинский с толпою ратных людей и спрашивали, где Гонсевский и Жеромский? Им сказали, что Жеромский в церкви у обедни, а Гонсевский у себя дома лежит болен. Новошинский отправился в церковь, где был маршалок, и потребовал, чтоб тот ехал с ним к войску. «Дайте мне отслушать обедню», – отвечал Жеромский. Тут солдаты схватили его и силою повели из церкви. Напрасно служивший обедню священник говорил им. что они этим оскорбляют дом божий; солдаты обругали ксенза изменником, вывели Жеромского и повезли его за город. Отъехавши 12 миль по Гродненской дороге, на реке Немане солдаты бросились на свою жертву, иссекли саблями и забили обухами до смерти. По той же дороге Хлевинский вез в карете больного Гонсевского, с которым сидел его домовый ксенз. В десяти милях от Вильны гетмана встретил еще отряд ратных людей; увидя их, Гонсевский сказал ксензу: «У Минуция написано, что нынешнего дня будет убит великий человек вместе с товарищем своим». Только что он успел сказать это, как ехавшие навстречу солдаты поравнялись с каретою и закричали, чтоб он выходил. «Для чего выходить?» – спросил гетман. «Выходи! – кричали солдаты с ругательствами. – Пришел твой час!» Гонсевский вышел и стал говорить: «Везите меня в войско, потому что по правам нашим и челядника без суда не карают, не только что гетмана». «Не указывай!» – закричали солдаты и хотели немедленно его расстрелять; несчастный мог вымолить только сроку, чтоб исповедаться у ксенза. Убийцы выставили три обвинения против Гонсевского: 1) При освобождении своем из плена присягнул царю, что с помощью Орды и шведов подведет Польшу под власть государеву; разглашали, что у гетмана захвачены царские грамоты. 2) Пропустил в Ригу товарные струги смоленских и витебских мещан. 3) Приехал в Вильну Устин Мещеринов с грамотами, без войскового ведома был у гетмана ночью и грамоты ему отдал. Жеромского убили за то, что был с Гонсевским в одной думе.
В феврале 1663 года царь приказал Одоевскому пересмотреть пленных, находившихся в Смоленске, и разделить их на две части: которые познатнее, тех держать в Смоленске, а которые похуже, тех отпустить в Польшу без размены и наказать им бить челом королю, чтоб он сделал то же и с русскими пленниками. Вслед за тем отпущена была из Москвы другая толпа пленников, также без размены. Одоевский с товарищами получил приказ возвратиться в Москву, а в Польшу еще в 1662 году отправился Ордин-Нащокин с предложением тесного союза под условием уступки Смоленска и северских городов, как было до Смутного времени, с предложением денег для расплаты с бунтующим войском за уступку Южной Ливонии. Но знаменитый московский дипломат не успел в своем деле: чтоб заключить выгодный мир, король считал необходимым перейти самому на восточный берег Днепра.
В третий раз страшная опасность начала грозить Москве. 8 сентября отправлена была к находившемуся при Брюховецком воеводе стольнику Кириллу Хлопову такая грамота: «Говорить гетману тайным обычаем: если король польский со всем войском коронным и с изменниками черкасами той стороны Днепра и с крымскими татарами станет наступать всеми силами, то, по самой конечной мере, если устоять против них будет нельзя, гетман должен укрепить осаду во всех городах и, соединившись с воеводою князем Григорием Григорьевичем Ромодановским, отступать к пограничным московским и черкасским городам, к крепким местам, где пристойнее, по своему рассмотрению». Для удержания союзников королевских, татар, еще прежде успели подкрепить Запорожье: туда от Белгородского полка Ромодановского отделен был отряд из 500 человек драгунов, солдат и донских козаков под начальством стряпчего Григория Касогова. Сначала этого отряда было достаточно, потому что война велась мелкая: кременчугские козаки опять перешли в королевскую сторону, их примеру последовали жители городов Потока и Переволочны. В Кременчуге засел наказный гетман западной стороны Петр Дорошенко. Узнавши, что в Запорожье пробирается московский отряд, Дорошенко в июле месяце послал проведать об нем двести козаков и сотню татар, которые столкнулись с людьми Касогова под Кишенкою и были побиты; переволочане опять поддались великому государю; Касогов в другой раз побил татарских загонщиков под Кишенкою и, соединившись с запорожцами и калмыками, отправился в сентябре за Днестр; здесь выжгли они ханские села, много в них побили армян и волохов и 20 сентября возвратились в Сечь все в целости; на другой день, 21-го числа, явились в Сечь 1200 запорожцев, которые ходили на море, пришли они пешком и рассказывали кошевому своему Ивану Серко и Касогову, что настигли их на море турецкие суда, бились с ними три дня и две ночи, на третью ночь козаки утекли от турок к берегу, изрубили свои суда и полем пустились домой. 2 октября Серко и Касогов выступили под Перекопь; 11-го числа ночью Серко с пешими черкасами и солдатами вошел в Перекопский посад с крымской стороны, а Касогов с конными черкасами и русскими людьми пришел к воротам перекопским с русской стороны; большой каменный город был взят, но малого русские взять не могли и ушли, зажегши большой город; янычары и татары преследовали их верст с пять. 16 октября Касогов и Серко возвратились в Сечь; из отряда Касогова было убито только десять человек; пленных в Сечь не привели, порубили, не пощадив ни жен, ни детей, на том основании, как доносил Касогов, что в Крыму и Перекопи было поветрие; но приехали в Москву запорожские посланцы с тою же вестию о походе под Перекопь и объявили: «В Перекопи при нас морового поветрия не было, слышали они, что было поветрие, но задолго до их прихода; пленных мы всех порубили, будучи между собою в ссоре, а кошевой атаман Иван Серко писал про моровое поветрие к гетману Брюховецкому, думаем, от стыда, что языков к нему послать было некого, потому что войском всех побили».
Скоро после этого начали приходить от Касогова печальные вести: он писал, что 23 ноября прислал изменник Тетеря в Запорожскую Сечь посланцев своих двух крыловских мещан с прелестными листами, и когда эти листы читали в раде, то половина запорожцев не хотели и слушать, но другие обрадовались; начались шатости в Запорогах большие; Серко боится за себя, за московского воеводу и за всех государевых ратных людей; запасы, привезенные Касоговым, вышли, а покупать в Запорожье – осминка муки ржаной стоит пять рублей, а пшена и не добыть ни за какие деньги, отчего многие ратные люди разбежались. Касогов приготовился уже к смерти и писал к отцу своему: «Батюшка! Помилуй меня, дай благословение и прости, потому что, думаю, в последний раз пишу к тебе. Если черкасские города сдадутся, то и Запорожье сдастся королю и мне с Серком тут мат: и теперь бунтуют и на нас совещаются; чуть только осилят, сейчас выдадут нас или ляхам, или татарам. Смилуйся, государь! девочку мою не покинь! Ох, жаль, как душе с телом, с нею расстаться и не видеть до дня Судного! Больше писать не умею от печали лютой; помилуй меня, прости грешника и не забудь за меня к богу через нищих послать и душу мою бедную помянуть; челядь мою русскую вели отпустить на волю, а татар вели удержать, на обмену пригодятся. Умились над бедною, век свой в горе скоротавшею моею женою-сиротою, не вели ее оскорбить после меня; не утешилась, бедная, при мне, только состарилась и от бедного житья сокрушилась».
От гетмана сначала приходили хорошие вести: осенью 1663 года, 15 октября, Брюховецкий дал знать царю, что генеральный есаул взял приступом город Поток; 23-го воевода Хлопов дал знать, что они с гетманом ходили под Кременчуг и взяли его со всеми людьми, нарядом и знаменами. Но в то же самое время получена была в Москве грамота Мефодия из Киева (от 12 октября); епископ писал, что 8 октября король Ян-Казимир пришел в Белую Церковь, которая от Киева только в 60 верстах; в Киеве малолюдно, а город большой. «Бога ради, – писал Мефодий, – изволь, великий государь, в прибавку прислать в Киев ратных людей поскорее; да и к гетману изволь прислать войска, а гетман Иван Брюховецкий тебе от всего сердца верно служить хочет; укажи князю Григорию Григорьевичу Ромодановскому поспешить в украинские и черкасские города, также и другим войскам от Севска, Путивля и Брянска, потому что там войска эти даром стоят, только даром людей едят, а здесь очень надобны. Киев, Чернигов и вся Украйна тебе, великому государю, очень надобны, потому что за этими черкасскими городами твое Российское государство как за стеною твердою стоит и стоять будет; сохрани боже уступить Киева и других черкасских городов, тогда король и ляхи дальше пойдут; кто тебе об уступке Киева станет советовать, тот богу и тебе враг и изменник. Прошу также милости, вели переменить переяславского воеводу князя Василия Богдановича Волконского: человек упрямый; лучше его переменить, нежели из-за его вражды с гетманом какая поруха учинится». Царь отвечал, что велел сменить Волконского и на его место будет пока воевода Хлопов. 11 ноября получено было письмо от Брюховецкого (из Гадяча от 30 октября). «Верный и во веки неотступный холоп, низко пред пресветлыми царского пресветлого величества престола ногами до лица земли упадая и смиренно бьючи челом», уведомлял, что король имел совещание в Белой Церкви со всеми начальными людьми, изменниками и султаном крымским, после чего король придвинулся к городу Ржищеву на берег Днепра и войска его начали переправляться за реку у Ржищевской пристани. «Я, – писал Брюховецкий, – все свои полки против неприятеля собираю и иду вместе с воеводою Кириллом Осиповичем Хлоповым. Но высоким своим разумом извольте рассмотреть, что нам с такими малыми войсками на польские, татарские и изменничьи войска идти опасно; а князь Ромодановский ваших указов не исполняет и с войском на оборону малороссийских городов нейдет, пишет ко мне, что войско распустил, пишет ко мне, что пойдет в малороссийские города, когда к нему калмыки придут, тем самым поход свой вдаль откладывает, а неприятель, не слыша о силах, против него идущих, в отчине вашего царского величества распространяется и города прельщать будет. Не только князю Ромодановскому, но и боярину Петру Васильевичу Шереметеву и калмыкам надобно со мною соединиться; против короля надобно приготовиться строем, ибо хотя при нем и малые силы, однако это не Выговский и не Гуляницкий; надобно готовиться, чтоб города на этой стороне удержались в верности; неприятель готовится на бой кровавый, и султан крымский загонов не распускает; я послал в Запорожье к Серку, чтоб с калмыками шел к Чигирину». Киевскому полковнику Василию Дворецкому, бывшему тогда в Москве, Брюховецкий писал: «Удивляюсь радению князя Ромодановского, который, собравши войско, все лето стоял в Белгороде, а как узнал о приходе королевском, то войско по домам распустил: не знаю, уж не пришла ли к нему грамотка от брата его, Выговского? Приход королевский на Украйну дело великое: никто ни чем не откупится, а я своею лысою головою силы неприятельские не сдержу, некому уже стало верить! Изволь Федору Михайловичу (Ртищеву) обо всем словесно объяснить, пусть не кручинится, что пишу обо всем правду: когда Украйну потеряют, то и всем достанется».
В это время приезжает в Малороссию для переговоров с гетманом государевых тайных дел дьяк Дементий Минич Башмаков, привозит старшине соболей на 1700 рублей, и вот со всех сторон сыплются к нему доносы. Мефодий дал ему знать из Киева, чтоб охал осторожнее: малороссийские жители шатки и непостоянны, верить им нечего; под час неприятельского прихода чаять от них всякого дурна; в Глухове атаман и войт толковали, что черкасам никому верить нельзя, люди непостоянные и некрепкие, против неприятелей долго стоять не будут. Воевода Хлопов передавал вести, полученные тайно от Брюховецкого, что в Киеве дела очень плохи от умысла злых людей: король идет к Киеву по присылке киевских жителей, а вся злая беда учинилась от старицы Ангелины, которая учит в Киеве епископову дочь грамоте и, что услышит от ученицы, про все дает знать в Польшу и к Тетере. «Надобно думать, – говорил Брюховецкий, – что у епископа есть прозябь большая и неверность в раденье великому государю; об этом я заключаю из того, что киевские монахи взяли себе на поруки нежинского атамана Шлютовича, который ушел, отпустили его монахи нарочно и велели ему, собрав козаков и татар, приходить на государевы черкасские города. Я за этими монахами посылал прилуцкого полковника Песоцкого, но епископ их ко мне не присылал, а взял с них золотые червонные. Боюсь, чтоб епископ злым своим умыслом не сдал Киева королю. Если король через Днепр переправится, то боюсь, чтоб все малороссийские города вдруг ему не сдались; при мне войска в сборе ничего нет, и рад бы я собраться, но козаки меня не слушают, не собираются нигде, и потому буду сидеть в городах в осаде до прихода государевых больших полков».
17 ноября свиделся Башмаков с гетманом в Батурине и говорил ему: «В Нежине на генеральной черновой раде ты выбран гетманом всеми вольными голосами и присягнул на верное и вечное подданство великому государю; и великий государь вас, гетмана, старшину и всю чернь, держит под своею самодержавною высокою рукою в милостивом жалованье по прежним вашим правам и вольностям и по переяславским статьям, какие постановлены в 59 году при прежнем гетмане, Юрии Хмельницком, и вам бы, выслушав те статьи, подписать». Статьи были прочтены; но гетман и старшина, выслушав их, отвечали: «Нам всех этих статей за разореньем от неприятельских приходов и за скудостью никак содержать теперь невозможно; в то время, когда эти статьи становлены, Малая Россия вся, обеих сторон Днепра, была в соединении и у царского величества в подданстве, и города хотя и были поразорены, да все не так, как теперь». «Постановление этим статьям давнее, а не новое, – возразил Башмаков, – гетман Богдан Хмельницкий их содержал». «При Богдане Хмельницком, – отвечал гетман, – неприятели так, как теперь, не наступали, да и наступать было нельзя, за обороною великого государя сами неприятелей гоняли, и малороссийские жители в то время были во всяких покоях и зажитках». Пуще всего гетман с старшинами из статей Богдана Хмельницкого отговаривали вторую статью, о сборе в царскую казну денежных доходов, да шестую, о раздаче жалованья Войска Запорожского начальным людям и козакам. «Пристойное ли это дело, – говорили они, – что у сбору и раздаче быть войтам, бурмистрам, радцам, и с кого теперь такие многие доходы сбирать и козакам раздавать; только это дело начать, и мне, гетману, от козаков и места не будет, всякий захочет жалованья, а собрать будет не с кого». Громче всех кричали судья войсковой Юрий Незамай да стародубский полковник Иван Плотник; чтоб подкрепить себя перед царским посланцем, они наконец сказали: «Новые переяславские статьи принимали заднепряне, а теперь они в измене». «На Нежинской раде, – возражал Башмаков, – вы этих статей не оспаривали, под статьями приложены руки таких людей, которые теперь у государя в подданстве вместе с вами, служат верно и ни в какой измене не оказались; потом, вы хотите оставить именно те статьи, которые были присланы гетманом Богданом Хмельницким и содержаны им до конца жизни, и потому оставить их никак нельзя. Ты, Незамай, и ты, Плотник, говорите, что заднепровские жители все в измене; но этими словами вы и себя к изменникам причисляете, потому что жены ваши, дети и родичи теперь за Днепром, а можно было вам до неприятельского прихода на эту сторону Днепра их перевесть. Вы все отговариваете вторую и шестую статьи за скудостию и неприятельским нашествием, но тому не всегда быть. Если вы в статьях усмотрели что-нибудь ненадобное, то вы бы прислали бить челом об этом великому государю, а самим бы вам его государской воли не отговаривать; помните ли, что Павел-апостол написал: рабы владыкам во всем да повинуются».
Гетман и старшина уступили, приняли все статьи и подписали 19 ноября, обещая бить челом о тех статьях, которых по настоящему времени содержать нельзя. Башмаков объявил, что государь жалует Войску имение Самка и его советников; гетман и старшина били челом до лица земли, но приговорили с Войском, чтоб все это имение, по стародавнему обычаю, отдать вдовам и сиротам казненных, потому что за одну вину дважды не карают. Башмаков потребовал, чтоб во все малороссийские города послать универсалы под войсковым жестоким караньем, велеть всех прежних и нынешних перебежчиков сыскать и отправить на прежние места жительства и учинить впредь заказ крепкий под смертною казнью – Московского государства служилых и всяких чинов людей, боярских холеней и крестьян в малороссийские города не принимать, чтоб от этого государевой службе и податям порухи, а помещикам и вотчинникам напрасного разоренья и убытков не было. Гетман отвечал, что теперь этого сделать нельзя, ибо жители здешней стороны Днепра, услыша о таком договоре, могут передаться королю; а как война минует, тогда царское требование исполнить будет можно. Башмаков говорил: козельские и остренские жители, скупая хлеб в Глухове и других местах, отпускают за Днепр без ведома гетмана и старшин, этим поднимают цены на хлеб здесь и помогают заднепровским изменникам и татарам; так надобно запретить продавать хлеб за Днепр, кроме Киева. Если же запретить этого нельзя для удабривания заднепровских жителей, чтоб они склонялись под царскую руку, то позволять им покупать хлеба указное число с гетманского и старшин ведома, и они станут считать это себе за великое благодеяние и друг другу начнут выставлять вашу доброту и переселяться на здешнюю сторону от тамошнего разоренья. Гетман с старшинами отвечали, что по этому предмету уже давно выданы крепкие универсалы и еще будут выданы.
Потом Башмаков указал гетману на беспорядки, господствующие в Малороссии: «Не только козаки не переписаны, но и мещане и поселяне, их земли, мельницы и угодья, не переписаны ранды и коморы для поборов, оброков ни на что не положено; ты, гетман, и вы, старшина, не знаете, сколько теперь в Войске козаков и что им доведется дать жалованья в год, сколько с мещан и с угодий их каких поборов в год собрать можно? Козаки без переписи на службе бывают не все, ездят по своей воле и из полков отъезжают без вашего отпуска». Гетман и старшина отвечали, что теперь, когда неприятель над головами, реестра писать и казны собирать нельзя, а как военная пора минется, тогда будет можно. Наконец Башмаков потребовал, чтобы малороссиянам запрещено было ездить в Великороссию с заповедными товарами, с вином и табаком; гетман обещал разослать универсалы с угрозою, что, если кто из малороссиян будет пойман в великороссийских городах с вином и табаком, у тех вино и табак будут отбираться на царское величество безденежно. Наконец, гетман обещал давать на прокормление московским ратным людям, которые будут в Малороссии для ее защиты: воеводам – по мельнице с двумя колесами мучными, головам и полковникам – по 50 осмачек, подполковникам и майорам – по 25, ротмистрам и капитанам – по 20, поручикам, прапорщикам и сотникам – по 10, рейтарам, драгунам, солдатам и стрельцам – по 4 осмачки ржаной муки на год.
Толкуя с царским дьяком, гетман постоянно напоминал, что неприятель над головами, и наконец гроза разразилась: король перешел на восточную сторону. Чтоб привлечь к себе малороссиян, он выкупал у татар русских пленников и отпускал их по домам; ратным людям запрещено было брать что-либо силою у жителей, и три шляхтича были повешены за нарушение этого предписания. Надобно было употреблять нравственные средства, ибо материальных было у короля очень недостаточно: для завоевания страны при самом Яне-Казимире находилось только три полка конных, в них 25 хоругвей, под хоругвию человек по 50 и по 60; пехоты при короле было только 300 человек; у гетмана Потоцкого – три полка конных козацких, пехоты 4000 человек да две роты гусар; у Чарнецкого – три хоругви гусар, три полка козацких, в которых 36 хоругвей, под хоругвию человек по 60 и по 80, да 400 драгун; у Песочинского – 9 рот немцев, 150 солдат (жалдаков), три полка поляков, в которых 800 человек. Союзных татар было 5000; 14000 литовского войска, под начальством Сапеги, Паца и Полубенского, стояло в Досугове. Король надеялся, что одного появления его достаточно, чтоб вырвать восточную сторону из рук царя, и сначала действительно успех порадовал его: тринадцать городов отворили ворота полякам; но потом дела приняли другой оборот: надобно было останавливаться под городами, тратить время и людей. Лохвица не сдавалась и была взята только жестоким приступом, на котором осаждающие потеряли много народу. Не сдался и Гадяч: к нему подошел Тетеря с ляхами и козаками, изготовил уже приступные вымыслы, но отошел прочь, услыхав о движении калмыков и князя Григория Ромодановского. Сам король потерпел неудачу под Глуховом и должен был вывести за Десну свое голодное войско: только оплошность царского воеводы князя Якова Куденетовича Черкасского спасла поляков от совершенного истребления.
Прошла и третья туча. Неуспех Яна-Казимира поддержал спокойствие в Запорожье. Серко и Касогов остались целы и невредимы и не сидели праздно в Сечи: 6 декабря вместе с калмыками отправились они опять под Перекопь, чтоб мешать хану идти на помощь к королю и взять языков. Они спокойно жгли татарские села в кутах над Черным морем, отгромили русского и черкасского полона больше ста человек, как 11 декабря напали на них Татарские толпы из Перекопи; русские и калмыки, отбиваясь, отступали две мили к реке Колончаку, здесь устроили кош, учинили бой, перекопскую орду побили и рубили татар до самой Перекопи, живых брать в плен калмыки не дали, в руках кололи. Эти подвиги по-прежнему совершались с самыми незначительными силами: с Серком было 90 человек черкас, с Касоговым 30 человек донских козаков да 60 калмыков, а татар, если верить Касогову, было человек с тысячу. В январе 1664 года Серко отправился за две реки – за Буг и за Днепр, где, напавши на турецкие села повыше Тягина, многих бусурман побил и добычу великую взял; из-под Тягина пошел на черкасские города, лежащие по Бугу; жители этих городов, как только заслышали о приходе Серка, так тотчас же начали ляхов и жидов сечь и рубить; Браславский полк и Калницкий, Могилев (на Днестре), Рашков, Уманский повет поддались московскому царю. Вследствие этих успехов Москвы на западной стороне Днепра составился план – вытеснить поляков отовсюду и провозгласить господство царя; начальниками движения были митрополит Иосиф Тукальский, преемник Дионисия Балабана в королевской стороне, и киевский воевода, бывший гетман, которого в Москве не иначе называли как изменником, Иван Астафьевич Выговский. Еще в 1662 году освободившийся из польского плена князь Козловский объявил: «В Вильне наместник Духова монастыря Дорофеевич говорил мне: приехал в Духов монастырь архимандрит Бутович, духовный отец Выговскому; великому государю надобно бы его пожаловать соболями, а он говорит, что надеется Выговского и заднепровских козаков уговорить поддаться по-прежнему государю». Неизвестно, воспользовались ли в Москве этим объявлением и завязали ли сношения с Выговским посредством Бутовича, только в начале 1664 года Выговский вошел в сношения с полковником Сулимою, который должен был поднимать восстание во имя царя и Выговского, истреблять польских старост, отнимать имения у шляхты. Но польский полковник Маховский предупредил замысел, захватил Выговского и после военного суда расстрелял его как уличенного изменника, а Брюховецкий в универсале своем от 23 марта провозгласил, что Выговский погиб за веру христианскую. Иосиф Тукальский был заточен в Мариенбург вместе с монахом Гедеоном Хмельницким. Несмотря на неудачу этого предприятия, поляки должны были теперь уже защищать западную сторону Днепра от царских войск: 4 апреля в Крылове сошлись с Серком Касогов с своею маленькою дружиною и остальные запорожцы с наказным кошевым Сацком Туровцом. Касогов доносил, что заднепровские полки, чернь вся с радостью поддались под государеву руку, ляхов и Тетериных единомышленников побили. Но не поддавался Чигирин и призвал к себе Чарнецкого, который с 2000 конницы 7 апреля напал на Серка и Касогова под Бужином; после жестокого боя русские, по словам Касогова, пришли к Бужину в целости, а поляков побили много. Чарнецкий осадил их в Бужине; они отбивались от него день и ночь с 7 по 13 апреля и отбились. Чарнецкий отступил; Серко и Касогов воспользовались этим и перешли в Смелую, но здесь были снова осаждены Чарнецким и Тетерею и снова отсиделись без урона для себя. Освободившись в другой раз от осады, Серко и Касогов отправились на восточную сторону Днепра, где соединились с новым отрядом московских ратных людей и с калмыками. Тетеря писал к канцлеру Пражмовскому, что только мир с Москвою может успокоить Украйну; он предлагал также, опираясь на мнение Чарнецкого и всей старшины козацкой, что самым лучшим средством для предупреждения бунтов козацких будет отделение нескольких староств, где бы козаки жили под управлением своих гетманов, не зная старост и подстарост; этим уничтожатся все неприязненные столкновения козаков с республикою. Тетеря опять указывал на страшную опасность со стороны татар, явно стремящихся оторвать Украйну от Польши; и на этом основании Тетеря считал мир с Москвою необходимым, в противном случае просил короля уволить его от гетманской должности.
Между тем Брюховецкий с московским воеводою Петром Скуратовым стояли обозом под Каневом. 21 мая напали на их обоз поляки и татары и, побившись, отошли прочь, В тот же день Брюховецкий и Скуратов вошли в Канев, а на другой день, 22-го числа, явился под городом сам Чарнецкий с хорунжим коронным Собеским, с полковником Маховским, Тетерею и татарами; бой под Каневом продолжался с утра до вечера; неприятель отступил и стал с версту от города. Шесть дней было спокойно, на седьмой, 29-го числа, Чарнецкий, отпустив свои обозы ко Ржищеву, сам двинулся опять под город и всеми своими силами ударил на гетманскую пехоту. Та дрогнула и опрокинулась на Московский солдатский полк Юрья Пальта; солдаты выдержали натиск; того же дня Чарнецкий пошел из-под Канева и, отошедши десять верст, стал на Днепре выше Канева, а 2 июня пошел от Днепра к Корсуни, отправив под Канев небольшой отряд конницы, чтоб помешать русским преследовать его по дороге. От Корсуни Чарнецкий отступил за Белую Церковь, под местечко Ставищи, приступал к нему жестокими приступами, но не мог ничего сделать, потерял, как доносили в Москву, 3000 человек и сам был ранен. Чарнецкий остался под Ставищами, а Тетеря с половиною татар пошел к Умани и к Днестру, чтоб жителям Уманского и Браславского полков, поддавшимся московскому государю, не дать убрать хлеба с полей и попытаться, нельзя ли опять склонить их в королевскую сторону. На прелестных письмах его нарисован был крест и образ богородицы: этим крестом и образом он клялся, что не будет никому мстить, и обещал, что ляхи не будут начальствовать над малороссиянами.