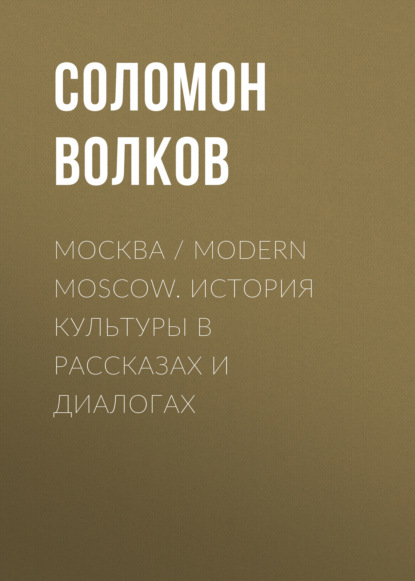По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Москва / Modern Moscow. История культуры в рассказах и диалогах
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Хотя буйный вождь грубо нападал на писателей, поэтов и других “пидорасов” и “абстрактистов”, их все же не арестовывали и не расстреливали. Страха поубавилось.
Многое из того, что создавалось в советской столице в 1920–1930-е, на Западе по справедливости воспринималось как прогрессивное и даже авангардное искусство (к примеру, театр Мейерхольда, те же фильмы Эйзенштейна или музыка Шостаковича). Железный занавес перекрыл это взаимооживляющее культурное кровообращение. И лишь в 1960-е мы вновь смогли наблюдать удивительные переклички между культурой Москвы и Парижа, Рима или Нью-Йорка (поздние сюрреалисты, “Новая волна”, поэты-битники).
* * *
Когда Хрущева сменил гораздо более предсказуемый и осмотрительный Брежнев, это странным образом не пошло на пользу культурным поискам. Советское вторжение в Чехословакию в августе 1968 года, многими из нас пережитое как личная катастрофа, уничтожило идеалистические надежды на “социализм с человеческим лицом”.
Воцарилась эпоха, столь точно определенная как “застойная”. (Интересно, что поздний сталинизм, несравненно более затхлый и тяжелый по своей атмосфере, до сих пор не получил такого же точного и емкого определения.) Многие московские интеллигенты эмигрировали, благо это стало осуществимо. Некоторых выслали или лишили советского гражданства (случаи Солженицына, Ростроповича и Вишневской, Аксенова, Юрия Любимова).
Повальный алкоголизм и бегство в социальное подполье сделались мрачным фоном культурного застоя. Трагическая смерть Высоцкого, больше похожая на растянувшееся во времени самоубийство, была воспринята москвичами как национальное бедствие и как символ времени. Подпольной Библией той эпохи стала поэма в прозе Венедикта (“Венички”) Ерофеева “Москва – Петушки”, а ироническим “постмодернистским” комментарием к ней – стихи Дмитрия Александровича Пригова.
Со смертью Пригова московский постмодернизм и концептуализм, по точному наблюдению Дмитрия Бавильского, “музеефицировался”. Солидный том воспоминаний о Пригове, выпущенный издательством “НЛО”, был назван “Неканонический классик” (2010). Арсенал приговских креативных стратегий используется его многочисленными эпигонами и сейчас.
Это и дает мне возможность и повод обозначить данную – по необходимости краткую – историю культуры Новой Москвы за сто десять лет ее существования как воображаемую арку “от Чехова до Пригова”. В ней прочерчена общая линия “модерной” московской культуры и представлены некоторые из ее наиболее характерных – в разное время и в разных сферах – фигур.
Чехов и расцвет (в значительной мере под эгидой его драматургии) МХАТа представительствуют здесь театр, отмечая одновременно выход культуры первопрестольной столицы на мировую арену.
Этой теме посвящена и глава о Щукине. Как и Станиславский, Щукин был купцом, в своей собирательской деятельности (вновь ставшей важным фактором столичной художественной жизни в постсоветское время) совершившим беспрецедентный прорыв к авангарду. Плоды этого смелого прорыва отечественные музеи пожинают по сию пору.
В той же главе я касаюсь оказавшихся жизненно важными связей московского авангарда с древнерусским искусством. На них во многом базировались поиски “лучистов” – Ларионова и Гончаровой. Уехав в поисках творческой свободы на Запад и насладившись (непродолжительным) успехом, связанным с оформлением дягилевских постановок, они жили там в бедности и умерли в забвении. По контрасту участники группы “Бубновый валет”, в особенности Кончаловский, жили в Советской России в довольстве, но заплатили за это художественными компромиссами. Любопытно наблюдать, как в наши дни возрастает слава (и цены) творений и “лучистов”, и “бубнововалетовцев” на международном рынке.
Тема мирового признания (и связанных с ним противоречий и конфликтов) новой московской культуры – одна из важнейших в моей истории. Эйзенштейн, чьи фильмы при всех сменах моды неизменно продолжают входить в топ-списки международных киноведческих опросов, – яркий тому пример. У Эйзенштейна была возможность перебраться на Запад, но он предпочел вернуться в Советский Союз, где ему пришлось включиться в работу государственной пропагандистской машины.
Здесь впервые на сцене появляется зловещая фигура Сталина. Этот диктатор, в отличие от Ленина, занимался “микроменеджментом” советской культуры, вступая в личные, тщательно им подготавливаемые и осуществляемые контакты со многими ее наиболее выдающимися представителями.
Сталин был Карабасом-Барабасом отечественной культуры, ее коварным кукловодом. Он мог по-царски наградить, а мог жестоко наказать подвластных ему гениев. Иные из них на протяжении всей жизни оставались словно бы зачарованными этой демонической фигурой. (В великом “московском” романе Булгакова “Мастер и Маргарита” Сталин-Воланд – один из центральных персонажей.)
Закрывать на это глаза – значит уподобляться страусу. Участие диктатора в создании новой московской культуры было велико и нуждается в исследовании и обсуждении.
Один из малоизученных аспектов этой проблемы – формирование под эгидой Сталина основ советской музыкальной исполнительской школы. В качестве примера я разбираю “случаи” Гилельса и Рихтера, двух титанов отечественного пианизма (и лауреатов Сталинских премий), до сих пор служащих образцами для начинающих пианистов всего мира. Эта страница московской культуры, с ее внешним блеском и скрытым драматизмом, не должна быть забыта.
Смерть тирана в 1953 году обозначила переход к оттепели, увы, частенько прерываемой “заморозками”. Историю постсталинской художественной жизни в моей книге продолжают до сих пор болезненно саднящие эпизоды: “всенародное” осуждение прочитанного в ту пору единицами романа “Доктор Живаго” и попытка запретить исполнение Тринадцатой симфонии Шостаковича, положенной на стихи Евтушенко, среди которых всемирно известная поэма “Бабий Яр” (1961).
Написанию этой книги и пониманию породившей ее сложной и турбулентной эпохи способствовали беседы автора с некоторыми из ее протагонистов и свидетелей той поры: Василием Аксеновым, Григорием Александровым, Татьяной Бек, Никитой Богословским, Лилей Брик, Гришей Брускиным, Андреем Вознесенским, Владимиром Высоцким, Эмилем Гилельсом, Олегом Ефремовым, Евгением Евтушенко, Вячеславом Вс. Ивановым, Василием Катаняном, Эдуардом Лимоновым, Юрием Любимовым, Владимиром Максимовым, Юрием Мамлеевым, Евгением Мравинским, Эрнстом Неизвестным, Давидом Ойстрахом, Булатом Окуджавой, Владимиром Паперным, Виктором Пивоваровым, Майей Плисецкой, Линой Прокофьевой, Святославом Рихтером, Робертом Рождественским, Мстиславом Ростроповичем, Анатолием и Татьяной Рыбаковыми, Константином Симоновым, Андреем Синявским, Борисом Слуцким, Леонидом Соковым, Владимиром Спиваковым, Александром Тышлером, Николаем Харджиевым, Арамом Хачатуряном, Мариэттой Чудаковой, Мариэттой Шагинян, Родионом Щедриным, Сергеем Юткевичем.
Книга не была бы полной без разговоров с нашими современниками – экспертами в области литературы, музыки, кино, изобразительного и театрального искусства. Я искренне благодарен Дмитрию Баку, Дмитрию Бертману, Антону Долину, Григорию Заславскому, Марине Лошак, Галине Юзефович за то, что они согласились поговорить о современной Москве.
Я также признателен Питеру Кауфману и Антонине Буис за ценные советы, а Александре Брускиной и Ирине Берендт – за дружескую помощь. Эта книга не была бы написана без поддержки Роспечати (Владимир Григорьев и Юлия Казакова). Отдельное спасибо – издателю Елене Шубиной и ее дружной команде.
Чехов и МХТ: московская культура на пороге XX века
Как известно, Лев Толстой, чрезвычайно высоко ценивший Чехова и как писателя, и как человека, о его произведениях для театра отзывался – прямо ему в лицо – так: “Ваши пьесы, Антон Павлович, слабее даже шекспировских”[7 - Толстой С.Л. Очерки былого. М., 1956. С. 207.].
В этом, только внешне парадоксальном отрицании достоинств чеховской драматургии Толстой отнюдь не был одинок. Сейчас это кажется по меньшей мере странным, но при жизни Чехова нападки на его пьесы были обычным делом. Их порицали критики самых разных, порою противоположных направлений: в официозных газетах и в бульварных, народники и марксисты, сторонники традиционной драмы и новаторы-символисты. Даже таким близким друзьям Чехова, как Максим Горький и Иван Бунин, пьесы его не нравились.
В историю литературы вошел катастрофический провал “Чайки”, первой зрелой чеховской пьесы, на сцене петербургского императорского Александринского театра в октябре 1896 года. “Чайку” показали после девяти дней репетиций. И хотя на роль Нины Заречной поспешно ввели великую Веру Комиссаржевскую, Чехов предчувствовал, что дело кончится плохо: “Актеры ролей не знают… Ничего не понимают. Играют ужасно. Одна Комиссаржевская хороша. Пьеса провалится”.
На премьере “Чайки” бесцеремонные зрители громко переговаривались, обмениваясь оскорбительными замечаниями по адресу автора и исполнителей, гоготали в драматических и свистели в лирических эпизодах пьесы. Комиссаржевская в слезах пыталась убежать из театра после первого действия, ее еле остановили.
После окончания представления публика расходилась в озлоблении, раздавались голоса: “Черт знает что такое! Скука, декадентство! Этого даром смотреть нельзя, а тут деньги берут!”
Газетные рецензии на “Чайку” оказались одна враждебнее другой. Вот типичный отзыв “Петербургского листка”: “Это очень плохо задуманная, неумело скомпонованная пьеса с крайне странным содержанием или, вернее, без всякого содержания. Это какой-то сумбур в плохой драматической форме”. (Словечко “сумбур” еще всплывет в 1936 году в печально известном сталинском поношении музыки Шостаковича.)
Тридцатишестилетний Чехов был к этому моменту уже около десяти лет болен туберкулезом, но все близко знавшие его подтверждают, что психологически он был человеком сильным. Тем не менее с премьеры “Чайки” автор сбежал в полном расстройстве чувств. Брату Мише он написал: “Пьеса шлепнулась и провалилась с треском. В театре было тяжкое напряжение недоумения и позора. Актеры играли гнусно, глупо. Отсюда мораль: не следует писать пьес”.
Еще более решительно Чехов высказался в разговоре со своим другом и покровителем, издателем Алексеем Сувориным: “Если я проживу еще 700 лет, то и тогда не отдам на театр ни одной пьесы”.
Вполне вероятно, что Чехов выполнил бы свою угрозу, тем более что жить ему оставалось вовсе не семьсот, а всего лишь восемь лет. Мир в этом случае потерял бы самого популярного на сегодняшний день – после столь нелюбимого Толстым Шекспира – драматурга.
Но судьба или богини театра, Мельпомена и Талия, решили по-своему. Меньше чем через год после провала “Чайки” в московском ресторане “Славянский базар” состоялась ставшая впоследствии легендарной встреча между средней руки драматургом Владимиром Немировичем-Данченко и актером-дилетантом Константином Алексеевым-Станиславским.
От этого свидания сохранилась только сбереженная Станиславским визитная карточка Немировича с надписью карандашом на обороте: “Я буду в час в Славянском базаре – не увидимся ли?” Ни фотографии, ни счета за обед… Догадывались ли они, что от этой случившейся 22 июня 1897 года многочасовой беседы будет исчисляться начало революции в русском – да и мировом! – театре? Вряд ли.
“Слава зависит от тысячи пустяков”, – заметил позднее Немирович-Данченко. Но время и место для культурной революции – Новая Москва на пороге ХХ века – он, обладая интуицией и деловой хваткой прирожденного театрального менеджера, выбрал безошибочно…
* * *
В русском театре того времени профессии “режиссер”, как мы ее понимаем сегодня, не существовало. Были популярные артисты, на них и ходила публика.
Работа так называемого режиссера заключалась в следующем: получив пьесу, он распределял роли – в соответствии с пожеланиями ведущих актеров и дирекции; затем заполнял заявку со следующими рубриками: “декорации; мебель; костюмы; парики; бутафория”. В рубрике “декорации” указывал, к примеру, “тюрьма, гостиная, лес”, в рубрике “мебель” – “богатая” или “бедная”. Костюмы заказывались “исторические” или “городские”. И заявка отправлялась в контору театра.
На выпуск премьеры даже в лучших театрах отводилось десять – двенадцать репетиций. Больше и не надо было, потому что актеры выбирали роли соответственно своим амплуа. Фактически они постоянно выступали в одной и той же роли, только с разными текстами. Потому важно было обладать хорошей памятью.
На первую репетицию актеры приходили с тетрадками-текстами и разбирались, кто где будет стоять или сидеть. (Мебель неизменно расставлялась сиденьями по направлению к зрителям.) После третьей репетиции роль нужно было знать наизусть и тетрадки с текстами изымались.
Актеры твердо знали, что они – “владыки сцены”, а пьеса – лишь материал для демонстрации их талантов. Поэтому выучивали они только свою роль, чрезвычайно мало заботясь о содержании и смысле пьесы в целом. Гораздо больше внимания уделялось платьям ведущих актрис. Считалось, что в каждом акте они должны появляться в новом туалете. Для зрителей сцена служила, таким образом, выставкой мод.
Все эти удручающие реалии русской театральной жизни и Немировичу, и Станиславскому были хорошо известны – и ненавистны. Оба они были полны решимости радикально изменить ситуацию. Но как? Договорились в общих чертах попытаться организовать совместное предприятие, названное ими Художественно-общедоступным театром.
Немирович брал на себя ответственность за репертуар, Станиславский – за режиссуру. Кроме того, Немирович рассчитывал, что Константин Алексеев (“Станиславский” – его актерский псевдоним), выходец из богатой и почтенной династии московских купцов, торговавших хлопком и шерстью, станет главным спонсором новой антрепризы.
Станиславский пойти на это наотрез отказался, объяснив Немировичу: частная антреприза обязательно прогорит, Москва “не поверит частному делу, она даже и не обратит на него внимания, а если и обратит, то слишком поздно, когда наши карманы опустеют и двери театра будут заколочены”[8 - Станиславский К.С. Собрание сочинений. В 8 т. М., 1961. Т. 7. С. 124.].
Станиславский, хорошо знавший психологию московских толстосумов, доказал Немировичу, что предпочтительнее создать новый театр как акционерное общество со сразу заявленной просветительской программой – и тогда воротилы “из принципа” денег не пожалеют.
Недаром Станиславский в московских купеческих кругах слыл дельным бизнесменом: он оказался прав. Первым отвалил десять тысяч рублей купец-меценат Савва Морозов, за ним потянулись и другие. Необходимая сумма была собрана. Внесли свою долю и сам Станиславский, и даже Немирович-Данченко.
Идея театра как акционерного общества с ограниченным числом пайщиков помогла удержать Московский Художественный театр (МХТ, как он стал в итоге называться) на плаву вплоть до революции.
* * *
В преддверии открытия МХТ газета “Московский листок” изумлялась: “Ни одно театральное предприятие не вызывало столько толков, горячих споров, суждений вкривь и вкось, как новый театр Станиславского и Немировича-Данченко. Новизна дела, новизна приемов, оригинальность организации – все это уже теперь нашло горячих поклонников и, как всегда, пессимистически настроенных скептиков”[9 - Рудницкий К.Л. Русское режиссерское искусство. 1898–1907. М., 1989. С. 39–40.].
Конэсеры сомневались, сможет ли труппа “без звезд” выдержать конкуренцию с кумирами московской публики – актерами императорского Малого театра, такими как прославленные Мария Ермолова, Александр Южин, Александра Яблочкина. Но заинтригованная публика уже брала билеты с бою. 14 октября 1898 года МХТ начал свою жизнь исторической стихотворной драмой Алексея Константиновича Толстого “Царь Федор Иоаннович”. Пьеса эта открывалась словами боярина Шуйского, которые прозвучали со сцены как заклинание: “Да, да, отцы! На это дело крепко надеюсь я”.
На самом-то деле МХТ возлагал надежды в первую очередь не на “отцов”, а на “детей” – на московских студентов: им должны были понравиться и молодые актеры, и тот факт, что драма А.К. Толстого тридцать лет пролежала под цензурным запретом и в Москве показывалась впервые как сенсационная новинка.
Первые рецензии были кислыми. Критики сетовали, что на сцене слишком много движения и суеты, что массовые эпизоды получились чересчур крикливыми, а молодые исполнители, наоборот, лишены темперамента: “Покамест смотреть их ровную, не согретую, если хотите – вымученную игру несколько скучно”[10 - Рудницкий К.Л. Русское режиссерское искусство. 1898–1907. М., 1989. С. 57.].