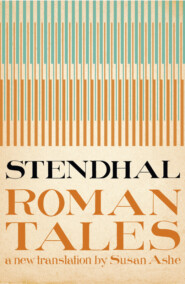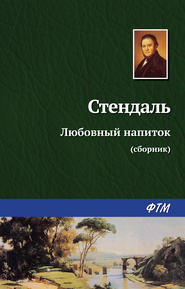По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Красное и белое, или Люсьен Левен
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И все удовольствие пренебрегать опасностью, сражаться геройски потускнело в его глазах. Из любви к мундиру он делал попытку помечтать о преимуществах военной службы.
«Получать чины, ордена, деньги… А почему бы, – сразу подумал он, – не пограбить немца или испанца, как N. или как N.?»
Оттопырив губу с видом глубокого презрения, он уронил сигарету на прекрасный ковер, подарок матери; он поспешно поднял ее; это был уже другой человек: отвращения к войне не было и в помине.
«Ба, – сказал он себе, – никогда ни Россия, ни другие деспотии не простят нам Трех дней[8 - Имеется в виду Июльская революция 1830 года, приведшая к свержению короля Карла X и возведению на престол Луи-Филиппа, герцога Орлеанского.]. Значит, сражаться будет прекрасно…»
Убедившись в том, что ему не страшно унизительное общение с любителями выдач из казны, он снова перевел взор на кушетку, на которой военный портной разложил мундир корнета. Он представлял себе войну по артиллерийским упражнениям в Венсенском лесу…
«Быть может, получу рану!» И он уже видел, как его переносят в хижину, где-нибудь в Швабии или в Италии; прелестная юная девушка, чьей речи он не понимает, ухаживает за ним, сначала из человеколюбия, потом… Когда же двадцатилетнее воображение исчерпало все счастливые картины любви к простодушной и свежей крестьянке, перед ним возник образ молодой женщины, близкой ко двору и сосланной на берег Сезии угрюмым мужем. Сперва она присылает своего лакея с корпией для раненого юноши, а несколько дней спустя появляется сама под руку с сельским священником.
«Но нет, – продолжал Люсьен, нахмурив брови и внезапно вспомнив о шутках, которыми его со вчерашнего дня донимал господин Левен, – я буду воевать только с сигарами; я стану одним из почетных завсегдатаев военного кафе в унылом гарнизоне плохо мощенного городишки; в качестве вечерних развлечений у меня будет несколько партий на бильярде и несколько бутылок пива да иногда по утрам пустая перепалка с грязными, умирающими с голоду рабочими… В лучшем случае я буду убит, как Пирр[9 - Пирр (319–272 до н. э.) – царь Эпира и Македонии, один из сильнейших противников Рима.], ночным горшком (неприятный сюрприз!), брошенным из окна шестого этажа беззубой старухой. Какая слава! Моя душа окажется в довольно нелепом положении, когда на том свете я буду представлен Наполеону.
„Без сомнения, – скажет он, – вы умирали с голоду, раз взялись за это ремесло?“ – „Нет, генерал, я думал, что подражаю вам“. – И Люсьен громко расхохотался. – Наши правители чувствуют себя слишком непрочно, чтобы у них хватило смелости затеять настоящую войну; в одно прекрасное утро из рядов может выступить какой-нибудь капрал вроде Гоша, который обратится к солдатам с призывом: „Друзья мои, идем на Париж и изберем первого консула, который не позволит глумиться над собой Николаю“.
Но я хочу, чтобы капрал преуспел, – философски продолжал он, закуривая вновь сигарету. – Когда нация охвачена гневом и любовью к славе, прощай свобода. Газетчик, усомнившийся в правдивости бюллетеня, сообщающего о последнем сражении, будет рассматриваться как предатель, как союзник неприятеля и будет умерщвлен, как это делается республиканцами в Америке. Еще раз мы будем избавлены от свободы любовью к славе… Порочный круг… И так до бесконечности…»
Очевидно, наш корнет не был совершенно свободен от недуга резонерства, связывающего по рукам и ногам современную молодежь и сообщающего ей старушечий характер.
«Как бы там ни было, – вдруг решил он, примеряя мундир и глядясь в зеркало, – все они утверждают, что надо сделаться чем-нибудь. Ну что ж, я стану уланом; изучив военное дело, я выполню, по их мнению, свое назначение, а там будь что будет!»
Вечером, когда, впервые в жизни надев эполеты, он проходил мимо Тюильри, часовые взяли ему на караул; он был вне себя от радости. Эрнест Девельруа, настоящий интриган, знакомый решительно со всеми, вел его к подполковнику 27-го уланского полка, господину Филото, находившемуся проездом в Париже.
На улице Булуа, в одном из номеров четвертого этажа гостиницы, Люсьен, сердце которого учащенно билось и который искал встречи с героем, увидел плотного мужчину с хитрыми глазами и крупными белокурыми бакенбардами, тщательно расчесанными во всю длину лица. «Боже великий! – подумал он. – Да ведь это прокурор из Нижней Нормандии!» Широко раскрыв глаза, он стоял неподвижно перед господином Филото, тщетно приглашавшим его «потрудиться присесть». При каждом слове этот бравый солдат, участник Аустерлица и Маренго, умудрялся вставлять: «Моя верность королю» или: «Необходимость обуздания мятежников». По истечении десяти минут, показавшихся ему вечностью, Люсьен поспешил уйти; он шел таким быстрым шагом, что Девельруа с трудом следовал за ним.
– Боже великий! И это – герой? – воскликнул он, внезапно остановившись. – Ведь это жандарм! Это наемный убийца, получающий деньги от тирана за убийство своих сограждан и гордый своим ремеслом.
Будущий академик смотрел на вещи иначе и не столь высокомерно.
– Что означает эта гримаса отвращения, как будто тебе подали заплесневелый паштет? Хочешь ты или не хочешь быть чем-нибудь в свете?
– Господи! Какая каналья!
– Этот подполковник в сто раз лучше тебя; это крестьянин, который, работая саблей на того, кто ему платит, дослужился до штаб-офицерских эполет.
– Но он так груб, так отвратителен…
– Это лишь увеличивает его заслугу; вызывая отвращение у своих начальников, если они были достойнее его, он вынуждал их добиваться для него чина, в котором он сегодня состоит. А ты, господин республиканец, сумел ли ты за всю свою жизнь заработать хоть один сантим? Ты взял на себя труд появиться на свет как княжеский сынок. Твой отец содержит тебя; что стало бы с тобой без него? Неужели тебе не стыдно, что в твои годы ты не в состоянии заработать себе на сигары?
– Но такое гнусное существо…
– Гнусное он существо или нет, он в тысячу раз выше тебя; он действовал, а ты ничего не делал. Человек, который, служа страстям сильного, зарабатывает четыре су, составляющие стоимость сигары, или который, будучи сильнее слабых, сидящих на своих мешках с деньгами, забирает у них эти четыре су, – гнусное он существо или нет (об этом мы поговорим позднее) – прежде всего человек сильный, он мужчина. Его можно презирать, но как бы то ни было, с ним надо считаться. Ты же – мальчик, с которым ни в каком отношении не стоит считаться, мальчик, вычитавший в книжке несколько звонких фраз и повторяющий их, как хороший, увлеченный своей ролью актер; но там, где нужно действовать, ты нуль. Прежде чем презирать грубого овернца, который, невзирая на свою отталкивающую физиономию, уже не торгует где-нибудь на углу, а принимает у себя явившегося к нему засвидетельствовать свое почтение господина Люсьена Левена, изящного молодого парижанина и сына миллионера, подумай немного о разнице между ним и собой. Господин Филото, быть может, содержит своего отца, старика-крестьянина, тебя же содержит твой отец.
– Ах, ты не сегодня завтра станешь членом Института! – с отчаянием в голосе воскликнул Люсьен. – Что касается меня, я только глупец. Вижу, ты сто раз прав, я это чувствую, но я поистине достоин сострадания. Мне внушает омерзение дверь, в которую надо войти; на ее пороге слишком много навоза. Прощай!
И Люсьен поспешно удалился. Он с удовольствием заметил, что Эрнест не последовал за ним; бегом поднявшись к себе, он с яростью швырнул свой мундир на пол. «Одному богу известно, к чему он вынудит меня».
Несколько минут спустя он сошел вниз к отцу и со слезами на глазах обнял его.
– А, вижу, в чем дело, – сказал, крайне удивившись, господин Левен. – Ты проиграл сто луидоров: я дам тебе двести. Но мне не нравится этот способ выпрашивать деньги; я не хотел бы видеть слезы на глазах корнета. Разве бравый офицер не должен прежде всего думать о впечатлении, которое производит на окружающих его лицо?
– Наш кузен Девельруа, этот ловкач, прочел мне нравоучение; он сейчас доказал мне, что у меня в жизни нет никаких заслуг, кроме того, что отец мой умный человек. Я ни разу еще не заработал своим трудом стоимости сигары, без вас я был бы нищим.
– Значит, ты не хочешь получить двести луидоров? – спросил господин Левен.
– Я и так осыпан вашими щедротами сверх всякой меры. Что стало бы со мной без вас?
– В таком случае, черт тебя побери, – резко выкрикнул господин Левен, – уж не собираешься ли ты сделаться сенсимонистом? Как ты будешь скучен!
Волнение Люсьена, которое он не мог скрыть, в конце концов привело его отца в веселое настроение.
– Я требую, – сказал он, прерывая его внезапно, так как пробило девять часов, – чтобы ты тотчас же отправился в мою ложу в Опере. Там ты найдешь девиц, которые в триста, в четыреста раз лучше тебя; ибо, во-первых, они не дали себе никакого труда родиться и, во-вторых, в те дни, когда они танцуют, они зарабатывают от пятнадцати до двадцати франков. Я требую, чтобы ты от моего имени угостил их ужином как мой представитель, понимаешь? Ты отвезешь их в «Роше де Канкаль» и там израсходуешь не меньше двухсот франков; в противном случае я отрекаюсь от тебя, объявляю тебя сенсимонистом и запрещаю тебе видеть меня в течение полугода. Какая пытка для столь любящего сына!
Люсьен испытывал всего-навсего прилив нежности к отцу.
– Разве среди ваших друзей я слыву скучным человеком? – ответил он достаточно умно. – Клянусь вам, что истрачу надлежащим образом ваши двести франков.
– Слава богу! И запомни, что ничего нет невежливее, чем явиться внезапно, как ты сейчас, с серьезными разговорами к бедному шестидесятилетнему человеку, которому нечего делать с сильными чувствами и который не дал тебе никакого повода приходить к нему, обрушиваясь на него с такой безудержной любовью. Черт бы тебя побрал! Ты всю свою жизнь будешь лишь пошлым республиканцем. Удивляюсь, как это ты еще не отпустил себе жирных волос и грязной бороды.
Задетый за живое, Люсьен был весьма учтив с дамами, которых застал в отцовской ложе. За ужином он много говорил и с изысканной любезностью подливал им в бокалы шампанского. Развезя их по домам и возвращаясь к себе в час ночи один в своей карете, он удивлялся приливу чувствительности, которому поддался в начале вечера. «Мне надо относиться с недоверием к первым движениям моего сердца, – думал он. – В самом деле, я совсем не уверен в себе; моя нежность только неприятно поразила отца… Я не сумел его разгадать, мне надо действовать, и по-настоящему. Значит, поступай в полк».
На другой день в семь часов утра он явился в своем мундире в угрюмый номер подполковника Филото. Там в течение двух часов он имел мужество быть с ним крайне любезным; он серьезно старался усвоить себе военные манеры, воображая, что у всех его товарищей тон и повадки Филото. Невероятное заблуждение, которое имело, однако, свою хорошую сторону! То, что он видел, возмущало его, внушало ему смертельное отвращение. «И все же я это вытерплю, – мужественно сказал он себе, – я не буду подшучивать над этими манерами, а стану подражать им».
Подполковник Филото говорил о себе, и говорил много; он долго рассказывал, как и за что получил он свои первые офицерские погоны в Египте, в первом сражении под стенами Александрии; рассказ был великолепен, дышал правдой и глубоко взволновал Люсьена. Но старый солдат, характер которого был надломлен пятнадцатью годами Реставрации, нисколько не возмутился при виде «парижского франта», сразу при вступлении в полк получившего чин корнета, – по мере того как Филото покидал героизм, в его голове зарождались всякие спекулятивные комбинации: он тут же начал соображать, какую пользу можно будет извлечь из молодого человека; он спросил Люсьена, депутат ли его отец.
Господин Филото отклонил приглашение на обед к госпоже Левен, переданное ему Люсьеном, но на третий день без церемоний принял в подарок пенковую трубку с великолепным массивным, чеканного серебра чубуком. Филото принял ее из рук Люсьена, как получают обратно долг, и даже не подумал поблагодарить.
«Это означает, – решил он, закрывая дверь за Люсьеном, – что франт, поступив в полк, будет часто проситься в отпуск, чтобы сорить деньгами в соседнем городке… И, – прибавил он, взвешивая в руке отделанную серебром трубку, – вы получите эти отпуска, господин Левен, но получите их только через мое посредство; я никому не уступлю такого клиента: ведь он, может быть, тратит по пятьсот франков в месяц; его отец, вероятно, бывший военный комиссар или поставщик, эти деньги когда-то были украдены у бедного солдата… Конфисковать!» – заключил он, улыбаясь. И, запрятав чубук среди своего белья, Филото запер на ключ ящик комода.
Глава третья
Став гусаром в 1794 году, восемнадцати лет от роду, Тонер Филото принимал участие во всех кампаниях революции. Первые шесть лет он сражался с энтузиазмом, распевая «Марсельезу». Но вот Бонапарт сделался консулом, и вскоре хитрый ум будущего подполковника заметил, что не следует так часто распевать «Марсельезу»; он оказался поэтому первым в полку лейтенантом, получившим крест. При Бурбонах он впервые пошел к причастию и стал офицером ордена Почетного легиона.
Теперь он приехал на три дня в Париж – напомнить о себе нескольким низшим по чину друзьям, между тем как 27-й уланский полк совершал переход из Нанта в Лотарингию. Будь Люсьен немного сообразительнее, он упомянул бы о влиянии, которым пользуется его отец в военном министерстве. Но он не замечал таких вещей; подобно пугливой лошади, он видел несуществующие опасности, но зато имел смелость кидаться им навстречу.
Узнав, что на следующий день господин Филото уезжает дилижансом, чтобы нагнать свой полк, Люсьен попросил у него разрешения поехать вместе с ним. Госпожа Левен была немного удивлена, увидев, как из коляски сына, которую она велела подать под свои окна, выгружают чемоданы и отправляют их к дилижансу.
Во время первой же остановки на обед подполковник сухо отчитал Люсьена, взявшего в руки газету.
– В Двадцать седьмом приказом по полку запрещено господам офицерам читать газеты в общественных местах. Исключение сделано лишь для органа военного министерства.
– К черту газету! – весело воскликнул Люсьен. – Сыграем в домино на вечерний пунш, если только лошадей не впрягли в дилижанс.
Как ни был молод Люсьен, у него, однако, хватило сообразительности проиграть шесть партий подряд, вследствие чего, садясь в экипаж, славный Филото был совершенно покорен. Он находил, что у этого франта недурной характер, и принялся объяснять ему, как следует вести себя в полку, чтобы не производить впечатления желторотого птенца. Этот образ действий представлял собой почти полную противоположность изысканной вежливости, к которой привык Люсьен, ибо в глазах господ Филото, как в монашеской среде, изысканная вежливость считается признаком слабости: необходимо в первую очередь говорить о себе и о своих преимуществах, необходимо преувеличивать их. Сначала наш герой с грустью и с величайшим вниманием слушал его, затем Филото уснул глубоким сном, и Люсьен мог дать волю своим мечтам. В конечном итоге он был счастлив открывавшейся перед ним возможностью действовать и увидеть нечто новое.
На третий день к шести часам утра, не доезжая трех лье до Нанси, они нагнали двигавшийся походным порядком полк; остановив дилижанс и велев выгрузить вещи, они сошли на дорогу.
Люсьен, смотревший на все широко открытыми глазами, был поражен выражением угрюмой и топорной важности, которое приняло полное лицо подполковника в момент, когда его денщик, раскрыв саквояж, подал ему украшенный густыми эполетами мундир. Господин Филото распорядился дать лошадь Люсьену, и они присоединились к полку, за время их переодевания ушедшему вперед. Семь-восемь офицеров, придержав коней, образовали почетный арьергард подполковника; им в первую очередь и был представлен Люсьен; он нашел их слишком сдержанными. Трудно было найти менее обнадеживающие физиономии.
«Получать чины, ордена, деньги… А почему бы, – сразу подумал он, – не пограбить немца или испанца, как N. или как N.?»
Оттопырив губу с видом глубокого презрения, он уронил сигарету на прекрасный ковер, подарок матери; он поспешно поднял ее; это был уже другой человек: отвращения к войне не было и в помине.
«Ба, – сказал он себе, – никогда ни Россия, ни другие деспотии не простят нам Трех дней[8 - Имеется в виду Июльская революция 1830 года, приведшая к свержению короля Карла X и возведению на престол Луи-Филиппа, герцога Орлеанского.]. Значит, сражаться будет прекрасно…»
Убедившись в том, что ему не страшно унизительное общение с любителями выдач из казны, он снова перевел взор на кушетку, на которой военный портной разложил мундир корнета. Он представлял себе войну по артиллерийским упражнениям в Венсенском лесу…
«Быть может, получу рану!» И он уже видел, как его переносят в хижину, где-нибудь в Швабии или в Италии; прелестная юная девушка, чьей речи он не понимает, ухаживает за ним, сначала из человеколюбия, потом… Когда же двадцатилетнее воображение исчерпало все счастливые картины любви к простодушной и свежей крестьянке, перед ним возник образ молодой женщины, близкой ко двору и сосланной на берег Сезии угрюмым мужем. Сперва она присылает своего лакея с корпией для раненого юноши, а несколько дней спустя появляется сама под руку с сельским священником.
«Но нет, – продолжал Люсьен, нахмурив брови и внезапно вспомнив о шутках, которыми его со вчерашнего дня донимал господин Левен, – я буду воевать только с сигарами; я стану одним из почетных завсегдатаев военного кафе в унылом гарнизоне плохо мощенного городишки; в качестве вечерних развлечений у меня будет несколько партий на бильярде и несколько бутылок пива да иногда по утрам пустая перепалка с грязными, умирающими с голоду рабочими… В лучшем случае я буду убит, как Пирр[9 - Пирр (319–272 до н. э.) – царь Эпира и Македонии, один из сильнейших противников Рима.], ночным горшком (неприятный сюрприз!), брошенным из окна шестого этажа беззубой старухой. Какая слава! Моя душа окажется в довольно нелепом положении, когда на том свете я буду представлен Наполеону.
„Без сомнения, – скажет он, – вы умирали с голоду, раз взялись за это ремесло?“ – „Нет, генерал, я думал, что подражаю вам“. – И Люсьен громко расхохотался. – Наши правители чувствуют себя слишком непрочно, чтобы у них хватило смелости затеять настоящую войну; в одно прекрасное утро из рядов может выступить какой-нибудь капрал вроде Гоша, который обратится к солдатам с призывом: „Друзья мои, идем на Париж и изберем первого консула, который не позволит глумиться над собой Николаю“.
Но я хочу, чтобы капрал преуспел, – философски продолжал он, закуривая вновь сигарету. – Когда нация охвачена гневом и любовью к славе, прощай свобода. Газетчик, усомнившийся в правдивости бюллетеня, сообщающего о последнем сражении, будет рассматриваться как предатель, как союзник неприятеля и будет умерщвлен, как это делается республиканцами в Америке. Еще раз мы будем избавлены от свободы любовью к славе… Порочный круг… И так до бесконечности…»
Очевидно, наш корнет не был совершенно свободен от недуга резонерства, связывающего по рукам и ногам современную молодежь и сообщающего ей старушечий характер.
«Как бы там ни было, – вдруг решил он, примеряя мундир и глядясь в зеркало, – все они утверждают, что надо сделаться чем-нибудь. Ну что ж, я стану уланом; изучив военное дело, я выполню, по их мнению, свое назначение, а там будь что будет!»
Вечером, когда, впервые в жизни надев эполеты, он проходил мимо Тюильри, часовые взяли ему на караул; он был вне себя от радости. Эрнест Девельруа, настоящий интриган, знакомый решительно со всеми, вел его к подполковнику 27-го уланского полка, господину Филото, находившемуся проездом в Париже.
На улице Булуа, в одном из номеров четвертого этажа гостиницы, Люсьен, сердце которого учащенно билось и который искал встречи с героем, увидел плотного мужчину с хитрыми глазами и крупными белокурыми бакенбардами, тщательно расчесанными во всю длину лица. «Боже великий! – подумал он. – Да ведь это прокурор из Нижней Нормандии!» Широко раскрыв глаза, он стоял неподвижно перед господином Филото, тщетно приглашавшим его «потрудиться присесть». При каждом слове этот бравый солдат, участник Аустерлица и Маренго, умудрялся вставлять: «Моя верность королю» или: «Необходимость обуздания мятежников». По истечении десяти минут, показавшихся ему вечностью, Люсьен поспешил уйти; он шел таким быстрым шагом, что Девельруа с трудом следовал за ним.
– Боже великий! И это – герой? – воскликнул он, внезапно остановившись. – Ведь это жандарм! Это наемный убийца, получающий деньги от тирана за убийство своих сограждан и гордый своим ремеслом.
Будущий академик смотрел на вещи иначе и не столь высокомерно.
– Что означает эта гримаса отвращения, как будто тебе подали заплесневелый паштет? Хочешь ты или не хочешь быть чем-нибудь в свете?
– Господи! Какая каналья!
– Этот подполковник в сто раз лучше тебя; это крестьянин, который, работая саблей на того, кто ему платит, дослужился до штаб-офицерских эполет.
– Но он так груб, так отвратителен…
– Это лишь увеличивает его заслугу; вызывая отвращение у своих начальников, если они были достойнее его, он вынуждал их добиваться для него чина, в котором он сегодня состоит. А ты, господин республиканец, сумел ли ты за всю свою жизнь заработать хоть один сантим? Ты взял на себя труд появиться на свет как княжеский сынок. Твой отец содержит тебя; что стало бы с тобой без него? Неужели тебе не стыдно, что в твои годы ты не в состоянии заработать себе на сигары?
– Но такое гнусное существо…
– Гнусное он существо или нет, он в тысячу раз выше тебя; он действовал, а ты ничего не делал. Человек, который, служа страстям сильного, зарабатывает четыре су, составляющие стоимость сигары, или который, будучи сильнее слабых, сидящих на своих мешках с деньгами, забирает у них эти четыре су, – гнусное он существо или нет (об этом мы поговорим позднее) – прежде всего человек сильный, он мужчина. Его можно презирать, но как бы то ни было, с ним надо считаться. Ты же – мальчик, с которым ни в каком отношении не стоит считаться, мальчик, вычитавший в книжке несколько звонких фраз и повторяющий их, как хороший, увлеченный своей ролью актер; но там, где нужно действовать, ты нуль. Прежде чем презирать грубого овернца, который, невзирая на свою отталкивающую физиономию, уже не торгует где-нибудь на углу, а принимает у себя явившегося к нему засвидетельствовать свое почтение господина Люсьена Левена, изящного молодого парижанина и сына миллионера, подумай немного о разнице между ним и собой. Господин Филото, быть может, содержит своего отца, старика-крестьянина, тебя же содержит твой отец.
– Ах, ты не сегодня завтра станешь членом Института! – с отчаянием в голосе воскликнул Люсьен. – Что касается меня, я только глупец. Вижу, ты сто раз прав, я это чувствую, но я поистине достоин сострадания. Мне внушает омерзение дверь, в которую надо войти; на ее пороге слишком много навоза. Прощай!
И Люсьен поспешно удалился. Он с удовольствием заметил, что Эрнест не последовал за ним; бегом поднявшись к себе, он с яростью швырнул свой мундир на пол. «Одному богу известно, к чему он вынудит меня».
Несколько минут спустя он сошел вниз к отцу и со слезами на глазах обнял его.
– А, вижу, в чем дело, – сказал, крайне удивившись, господин Левен. – Ты проиграл сто луидоров: я дам тебе двести. Но мне не нравится этот способ выпрашивать деньги; я не хотел бы видеть слезы на глазах корнета. Разве бравый офицер не должен прежде всего думать о впечатлении, которое производит на окружающих его лицо?
– Наш кузен Девельруа, этот ловкач, прочел мне нравоучение; он сейчас доказал мне, что у меня в жизни нет никаких заслуг, кроме того, что отец мой умный человек. Я ни разу еще не заработал своим трудом стоимости сигары, без вас я был бы нищим.
– Значит, ты не хочешь получить двести луидоров? – спросил господин Левен.
– Я и так осыпан вашими щедротами сверх всякой меры. Что стало бы со мной без вас?
– В таком случае, черт тебя побери, – резко выкрикнул господин Левен, – уж не собираешься ли ты сделаться сенсимонистом? Как ты будешь скучен!
Волнение Люсьена, которое он не мог скрыть, в конце концов привело его отца в веселое настроение.
– Я требую, – сказал он, прерывая его внезапно, так как пробило девять часов, – чтобы ты тотчас же отправился в мою ложу в Опере. Там ты найдешь девиц, которые в триста, в четыреста раз лучше тебя; ибо, во-первых, они не дали себе никакого труда родиться и, во-вторых, в те дни, когда они танцуют, они зарабатывают от пятнадцати до двадцати франков. Я требую, чтобы ты от моего имени угостил их ужином как мой представитель, понимаешь? Ты отвезешь их в «Роше де Канкаль» и там израсходуешь не меньше двухсот франков; в противном случае я отрекаюсь от тебя, объявляю тебя сенсимонистом и запрещаю тебе видеть меня в течение полугода. Какая пытка для столь любящего сына!
Люсьен испытывал всего-навсего прилив нежности к отцу.
– Разве среди ваших друзей я слыву скучным человеком? – ответил он достаточно умно. – Клянусь вам, что истрачу надлежащим образом ваши двести франков.
– Слава богу! И запомни, что ничего нет невежливее, чем явиться внезапно, как ты сейчас, с серьезными разговорами к бедному шестидесятилетнему человеку, которому нечего делать с сильными чувствами и который не дал тебе никакого повода приходить к нему, обрушиваясь на него с такой безудержной любовью. Черт бы тебя побрал! Ты всю свою жизнь будешь лишь пошлым республиканцем. Удивляюсь, как это ты еще не отпустил себе жирных волос и грязной бороды.
Задетый за живое, Люсьен был весьма учтив с дамами, которых застал в отцовской ложе. За ужином он много говорил и с изысканной любезностью подливал им в бокалы шампанского. Развезя их по домам и возвращаясь к себе в час ночи один в своей карете, он удивлялся приливу чувствительности, которому поддался в начале вечера. «Мне надо относиться с недоверием к первым движениям моего сердца, – думал он. – В самом деле, я совсем не уверен в себе; моя нежность только неприятно поразила отца… Я не сумел его разгадать, мне надо действовать, и по-настоящему. Значит, поступай в полк».
На другой день в семь часов утра он явился в своем мундире в угрюмый номер подполковника Филото. Там в течение двух часов он имел мужество быть с ним крайне любезным; он серьезно старался усвоить себе военные манеры, воображая, что у всех его товарищей тон и повадки Филото. Невероятное заблуждение, которое имело, однако, свою хорошую сторону! То, что он видел, возмущало его, внушало ему смертельное отвращение. «И все же я это вытерплю, – мужественно сказал он себе, – я не буду подшучивать над этими манерами, а стану подражать им».
Подполковник Филото говорил о себе, и говорил много; он долго рассказывал, как и за что получил он свои первые офицерские погоны в Египте, в первом сражении под стенами Александрии; рассказ был великолепен, дышал правдой и глубоко взволновал Люсьена. Но старый солдат, характер которого был надломлен пятнадцатью годами Реставрации, нисколько не возмутился при виде «парижского франта», сразу при вступлении в полк получившего чин корнета, – по мере того как Филото покидал героизм, в его голове зарождались всякие спекулятивные комбинации: он тут же начал соображать, какую пользу можно будет извлечь из молодого человека; он спросил Люсьена, депутат ли его отец.
Господин Филото отклонил приглашение на обед к госпоже Левен, переданное ему Люсьеном, но на третий день без церемоний принял в подарок пенковую трубку с великолепным массивным, чеканного серебра чубуком. Филото принял ее из рук Люсьена, как получают обратно долг, и даже не подумал поблагодарить.
«Это означает, – решил он, закрывая дверь за Люсьеном, – что франт, поступив в полк, будет часто проситься в отпуск, чтобы сорить деньгами в соседнем городке… И, – прибавил он, взвешивая в руке отделанную серебром трубку, – вы получите эти отпуска, господин Левен, но получите их только через мое посредство; я никому не уступлю такого клиента: ведь он, может быть, тратит по пятьсот франков в месяц; его отец, вероятно, бывший военный комиссар или поставщик, эти деньги когда-то были украдены у бедного солдата… Конфисковать!» – заключил он, улыбаясь. И, запрятав чубук среди своего белья, Филото запер на ключ ящик комода.
Глава третья
Став гусаром в 1794 году, восемнадцати лет от роду, Тонер Филото принимал участие во всех кампаниях революции. Первые шесть лет он сражался с энтузиазмом, распевая «Марсельезу». Но вот Бонапарт сделался консулом, и вскоре хитрый ум будущего подполковника заметил, что не следует так часто распевать «Марсельезу»; он оказался поэтому первым в полку лейтенантом, получившим крест. При Бурбонах он впервые пошел к причастию и стал офицером ордена Почетного легиона.
Теперь он приехал на три дня в Париж – напомнить о себе нескольким низшим по чину друзьям, между тем как 27-й уланский полк совершал переход из Нанта в Лотарингию. Будь Люсьен немного сообразительнее, он упомянул бы о влиянии, которым пользуется его отец в военном министерстве. Но он не замечал таких вещей; подобно пугливой лошади, он видел несуществующие опасности, но зато имел смелость кидаться им навстречу.
Узнав, что на следующий день господин Филото уезжает дилижансом, чтобы нагнать свой полк, Люсьен попросил у него разрешения поехать вместе с ним. Госпожа Левен была немного удивлена, увидев, как из коляски сына, которую она велела подать под свои окна, выгружают чемоданы и отправляют их к дилижансу.
Во время первой же остановки на обед подполковник сухо отчитал Люсьена, взявшего в руки газету.
– В Двадцать седьмом приказом по полку запрещено господам офицерам читать газеты в общественных местах. Исключение сделано лишь для органа военного министерства.
– К черту газету! – весело воскликнул Люсьен. – Сыграем в домино на вечерний пунш, если только лошадей не впрягли в дилижанс.
Как ни был молод Люсьен, у него, однако, хватило сообразительности проиграть шесть партий подряд, вследствие чего, садясь в экипаж, славный Филото был совершенно покорен. Он находил, что у этого франта недурной характер, и принялся объяснять ему, как следует вести себя в полку, чтобы не производить впечатления желторотого птенца. Этот образ действий представлял собой почти полную противоположность изысканной вежливости, к которой привык Люсьен, ибо в глазах господ Филото, как в монашеской среде, изысканная вежливость считается признаком слабости: необходимо в первую очередь говорить о себе и о своих преимуществах, необходимо преувеличивать их. Сначала наш герой с грустью и с величайшим вниманием слушал его, затем Филото уснул глубоким сном, и Люсьен мог дать волю своим мечтам. В конечном итоге он был счастлив открывавшейся перед ним возможностью действовать и увидеть нечто новое.
На третий день к шести часам утра, не доезжая трех лье до Нанси, они нагнали двигавшийся походным порядком полк; остановив дилижанс и велев выгрузить вещи, они сошли на дорогу.
Люсьен, смотревший на все широко открытыми глазами, был поражен выражением угрюмой и топорной важности, которое приняло полное лицо подполковника в момент, когда его денщик, раскрыв саквояж, подал ему украшенный густыми эполетами мундир. Господин Филото распорядился дать лошадь Люсьену, и они присоединились к полку, за время их переодевания ушедшему вперед. Семь-восемь офицеров, придержав коней, образовали почетный арьергард подполковника; им в первую очередь и был представлен Люсьен; он нашел их слишком сдержанными. Трудно было найти менее обнадеживающие физиономии.