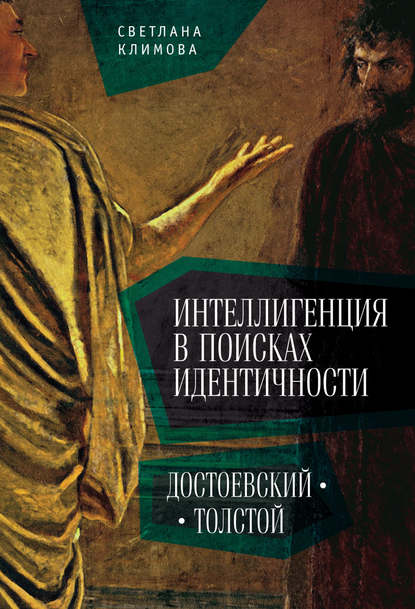По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Интеллигенция в поисках идентичности. Достоевский – Толстой
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
К внутренней форме концепта относится этимология слова «интеллигенция». Больше всего соблазнов возникает на пути определения, что же она такое; ибо здесь происходит инверсия «слова и дела»: не явление ищет слова, а слово ищет «кого бы назвать интеллигентом», кого включить и кого исключить из этого априори особого феномена, не вписываемого в социальную структуру общества. Особое значение в акте самоописания придается сочетанию слов «интеллигенция» с прилагательным «русская».
Русская интеллигенция принципиально отличает себя как от западных интеллектуалов, занятых в сфере умственной деятельности, так и от народа, власти, русской интеллектуальной элиты: ученых, врачей, учителей и т. д., то есть от всего русского разночинья. Она осмысливает себя как специфическое внесословное и внепрофессиональное явление русской жизни, хронологические рамки которого определяются второй половиной XIX века по сегодняшний день. Иванов-Разумник разделил как принципиально различающиеся самосознание интеллигента и интеллигенции. Обобщая черты интеллигенции, он указал на ее «внесословный, внеклассовый, преемственный» (в идейном смысле) характер, основанный на антимещанской этике[75 - Иванов-Разумник Р.И. История русской общественной мысли: В 3-х т. Т. 1. М.: Республика; Терра, 1997. С. 416.].
Уже в этой дилемме, интеллигент – интеллигенция, заложены первопричины мифологизации данной группы, рождающиеся в ходе ее самоописания. Если выстроить цепочку интеллигентских ответов на вопрос о ее специфике, то вариаций будет множество[76 - С определениями на любой вкус можно познакомиться в указанной ранее книге: Русская интеллигенция: история и судьба.], а ответ один – интеллигенция воспринимает и описывает свою жизнь как особого рода переживания и состояния. Их можно трактовать предельно широко: и как форму творческих мук, и как форму социального протеста, и как совестливое переживание жизни, но никогда как (обывательские / мещанские) переживания обыкновенных людей. Особенность интеллигентского переживания[77 - Во французском языке есть аналогичное слово для обозначения особого рода беспокойства – inquietude – «человек постоянно духовно неуспокоенный» // Степанов Ю.С. Указан. соч. С.689.] жизни заключается в ее интеллектуальной «закваске» и одновременно в чувственно-эмоциональном стремлении «к преобразованию, действию». Сделать это русская интеллигенция могла первоначально лишь в слове, тексте, как способе авторефлексии и авто-реакции.
Текст, чаще всего литературный, способный пробудить переживания и подвинуть к «социальной» оппозиции часть общества, автоматически придавал его создателю особый статус и ореол, независимо от желания и воли последнего. Перефразируя известное выражение, можно сказать: «Творец (текстов) в России больше, чем творец (даже больше, чем Бог-Творец)». Об этом рассуждал одним из первых еще В.Г. Белинский, который в литературе увидел благодатную почву формирования и закрепления общественного мнения, мировоззрения публики.
О.Э. Мандельштам как-то заметил, что решающий признак интеллигента заключается в отношении к поэзии. «Стихи побуждают к жизни, будят совесть и мысль», – писала в своих воспоминаниях о муже Надежда Мандельштам. Любопытно, что Х. Арендт в своей последней книге примерно также высоко оценила значимость поэзии для философии. «Заявление Карнапа, что метафизику следует рассматривать как поэзию, явно противоречит претензиям, которые обычно выражают метафизики. Но это, как и собственную оценку Карнапа, можно считать недооценкой поэзии. Хайдеггер, которого Карнап избрал для своих нападок, остроумно заметил, что философия и поэзия действительно близко связаны. Они не есть одно и то же, но исходят из общего истока – мышления. И Аристотель, которого никто не может упрекнуть в том, что он занимался «всего лишь» поэзией, придерживался того же мнения: поэзия и философия неким образом гармонируют друг с другом»[78 - Арендт Х. Жизнь ума./пер. с англ. А.В. Говорунова. СПб: Наука, 2013. С. 16.].
Поэзия первой трети XIX века, безусловно, была эмоциональной почвой, на которой выросла уникальная русская литература XIX века и уникальная русская философия начала XX. Об этой общности Г. Блум заметил: «Есть одна удивительная черта…, которая часто проявляется в дискурсе девятнадцатого – двадцатого века о человеческой природе и об идеях: дискурс замечательным образом становится прозрачным, если мы заменяем “личность” на “поэму”, или “идею” на “поэму”»[79 - Цит. По Рорти Р. Случайность, ирония и солидарность. М.: Русское феноменологическое общество, 1996. С.54.].
Идея-поэма – это создание нового типа дискурса, который обрел свою конкретизацию на пути сращивания двух различных процессов.
«Они (русские интеллигенты – С.К.) стали носителями всех возможностей европейской культуры, но не в самодостаточности и обособленности этих возможностей друг от друга, а в синтезе, в счастливой гармонии положительных качеств “европеизма”, понять и практически осуществить который в России в полной мере было дано только гению Пушкина»[80 - Соина О.С. Судьба Пушкина и судьба России // Человек. 2002. № 5. С. 47].
С одной стороны, русская интеллигенция формировалась как мир книжных людей и книжной культуры западного, в основном романтического толка. Поэты потребовали для поэзии того места, которое традиционно занимали религия и философия, а в эпоху Просвещения – наука, опыт, эксперимент. С другой стороны, русские мечтатели и интеллектуалы имели как бы «двойное самосознание» (Б.А. Успенский): европейское и русское. Запад для них всегда был культурным ориентиром (почвой) и объектом идеализации, а Россия – полной противоположностью европейской просвещенности (идеей) и объектом мифологизации. Русского интеллигента отличало сочетание просвещенности со страстью к преобразованиям, действенным изменениям «непросвещенного» общества. Поэзия, немецкая философия, а затем русская литература будили и формировали мир интеллигентских переживаний, страстное отношение к жизни, ее идеализм. Идея, будучи в плену у чувственности, передается душе и телу, и человек подчиняет себя идейной страсти.
Метафизической основой страстности стала поэтически представленная религиозность интеллигентского мировосприятия, аккумулирующая в себе многие элементы переосмысления духовности с точки зрения тогдашнего рационализма и спиритуализма и при этом исходящая из православного дискурса. Страсть стала фундаментальной психологической характеристикой интеллигентского переживания жизни в формах философского[81 - Лосев А.Ф. подчеркивал, что «русские переживают свою философию». Подр.: Лосев А.Ф. Русская философия // Введенский А.И… Лосев А.Ф. и др. Очерки истории русской философии. Свердловск, Изд-во Уральского университета, 1991. С. 67–95.], литературного, художественного, революционного жизнетворчества (мифотворчества). «Христианские черты, воспринятые иногда помимо ведома и желания, через посредство окружающей среды, из семьи, от няни, из духовной атмосферы, воспитанной церковностью, просвечивают в духовном облике лучших и крупнейших деятелей русской революции. Ввиду того, однако, утрачивается вся действительная противоположность христианского и интеллигентского душевного склада…»[82 - Булгаков С.Н. Героизм и подвижничество // Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции. Репринтное издание 1908. М., 1990. С. 30.].
Анализируя природу интеллигентского переживания жизни, прт. Г.В. Флоровский представлял страсть как особый эмоциональный фон рождения и развития основных идей эпохи. Рассматривая процесс философского пробуждения в России, происходивший на рубеже 20 —слово 30-х годов XIX столетия[83 - Флоровский Г.В. Пути русского богословия. Глава VI. Философское пробуждение. Париж, Изд-во Умка Пресс, 1937. С. 82–127.1994. С.18.], он около двадцати раз использовал «страсть» как синоним энтузиазма, переживания, боли и сострадания, сопровождавших процесс философских идейных исканий; как влечение и тягу к отвлеченному мышлению; как пробуждение, вспышку, игру чувств; как настроение, как деятельность и т. д.
Процесс переживания, воплощенный в текстах культуры, становится основой «пересотворения» (Э. Гуссерль) реальности или пересотворения языка, ее описывающего. В результате появляется идеальный объект в сознании воспринимающего субъекта. «Пережитое содержание “объективируется”, и теперь объект конституируется из материала пережитых содержаний в [определенном] модусе схватывания»[84 - Гуссерль Эд. Феноменология внутреннего сознания времени. Собрание сочинений. М.,].
Утверждая и осваивая идеальные объекты, упорядочивая их в рамках сотворения определенных картин мира, сознание содержательно меняется, усложняется, структурно организуется. В процессе внутренней трансформации сознания происходит собственно становление интеллигентского мировоззрения, сформированного как субъективное представление о предпочтительных картинах мира или «объективной реальности». Видение (мировоззрение) этой «реальности» интеллигент всеми способами стремится сделать общезначимым, навязывая обществу свою модель как наилучший вариант для самого общества. Так как новой единицей репрезентации реальности стал текст, слово, эстетическое воплощение идеала, то и представление о наиболее адекватной картине мира происходило в форме дискурсивной «битвы» за адекватный язык ее репрезентации. Как бы сказал В. Дильтей, по словам В.В. Бибихина, в переживании дана связь, а чувства дают лишь пестроту.
Г.П. Федотов указывал, что первыми интеллигентами на Руси были «православные священники, монахи и книжники». Им на смену пришла творческая интеллигенция, создав особый «монашеский орден или православную секту» (Н.А. Бердяев). Словарь тогдашнего интеллигента складывался в процессе сочленения им языка религиозно переживаемых идей с рациональным языком просвещения или искусственно созданной идейностью. Интеллигенция XIX века, встав во внутреннюю оппозицию к официальной церкви и власти любого типа, осознавала себя единственным оплотом в качестве духовной и нравственной руководительницы России, претендуя на ту же роль и место в создаваемых ею картинах мира, которая в «старой» православной культуре отводилась святым аскетам и духовенству. Русская интеллигенция в России всегда воспринимала себя как «воюющий орден» (П.В. Анненков) со всеми вытекающими морально-политическими последствиями.
М.О. Гершензон одним из первых заметил, что ключ к истории идей всегда лежит в истории чувств; именно у него встречается противопоставление идеи-страсти, идеи-чувства «мертвым» идеям чистого умозрения, не задевающим душу человека, его эмоционально-волевое начало[85 - Гершензон М. Творческое самосознание // Вехи. Там же. С. 78.].
В конечном счете, страсть из чувственно-эмоциональной сферы «перетекла» в идейную область особого отношения к различным интересам творческих личностей, став неким синонимом «воли к преобразованиям, действию». Эмоциональное становится одновременно психологической предпосылкой формирования рационального и поэтического отношения к миру, созидания мира идей и художественных текстов (в широком смысле). Сами же тексты обретают мощь метафизических систем, становятся базисом для сотворения бытия. Теоретическое видение проблем сливается с чувственным переживанием реальности и обретает свой научный статус только в контексте обрамляющих его эмоций. Русская литература становится основой русской философии, а русская политика – революции.
В XIX веке сформировалось два типа «идейных / идеологических» страстей: страсть к философии и страсть к политике. И то, и другое первоначально возникло как результат душевного переживания русскими интеллигентами своей национальной идентификации. Впервые на примере истории русской мысли мы столкнулись с фактом того, что философия – не профессия, но образ жизни, сама «живая жизнь» в ее многообразии и развитии.
Русские интеллигенты продемонстрировали неотделимость философии от реалий индивидуальной и социальной жизни. Поэтому, прекрасно осознавая антагонизм созданных интеллигентской культурой образов философа-интеллигента и интеллигента-революционера, мы, тем не менее, не видим достаточных оснований (кроме дискурсивно-мифологических) для различения их в статусе интеллигентов. Страсть к философии и страсть к политике как «единство противоположностей» оказались в пространстве одних и тех же дискурсивно-смысловых и культурных коннотаций эпохи. Так, В.В. Розанов, сравнивая «отца» философии И.В. Киреевского с «отцом» русской революционной интеллигенции А.И. Герценом, отмечал: «Между славянофилами и радикализмом русским есть та же связь, как между часом бури и часом тишины одного и того же дня»[86 - Розанов В.В. И.В. Киреевский и А.И. Герцен //Розанов В.В. Легенда о Великом инквизиторе. М.: Республика, 1996. С.566.].
Пик бури (страсть к политике) и пик тишины (страсть к философии) – имманентная характеристика одного и того же времени / состояния общественной и духовной жизни. Переживание идеи со страстью становится психологической причиной превращения идеи в страсть или «интеллектуализированную эмоцию» (Т. Рибо), идею-страсть, которая обретает статус всеобщности, силу закона распознавания русского интеллигента. Индивидуальное (внешнее) совершенство как синоним образованности, моральной чистоты обнаруживает себя как уникальность в стремлении к преобразованию, действиям, реализации своих знаний в активной жизненной позиции / оппозиции. Имея общий корень происхождения, в дальнейшем русская интеллигенция резко «размежевывается» на радикально-демократическую и либерально-философскую, с разных концов, но одинаково неистово ведя Россию к революционному перевороту в ее культурном развитии.
Не мудрено, что важнейшей идей стала тема всеобщего спасения. Многие разными способами пытались предотвратить надвигающийся апокалипсис. В России, как заметил Вл. С. Соловьев, таких способов спасения было только два: один вел в революцию, другой в Церковь.
Революционный путь означал явно выраженный протест против экономической и классовой несправедливости, защиту обездоленных, нищих, бесправных людей в борьбе с абсолютизмом власти. Но был и другой – религиозный путь, открывший иное понимание катастрофы и попытки выхода из нее. Разделяя с радикалами неприязнь к авторитарной монархии, всей душой сочувствуя угнетенному, бесправному трудовому народу, религиозные мыслители катастрофическим считали не социальные противоречия, но духовный кризис, происходящий в мире. В это время казалось, что обнулились все базовые ценности. Вера в Церковь страшно упала; произошло отделение Христа от господствующей религии, причем как религиозными мыслителями, так и атеистическими[87 - Хочу напомнить слова В.Г. Белинского, упрекавшего Н.В. Гоголя в излишней религиозности: «По-вашему, русский народ – самый религиозный в мире: ложь! Основа религиозности есть пиетизм, благоговение, страх божий. А русский человек произносит имя Божие, почесывая себе задницу» // Белинский В.Г. Письмо к Гоголю // Белинский В.Г. Собр. соч. в 9-ти т. М.: Худлит, 1976. Т. 8. С. 284.]; этические и эстетические идеалы омертвели, превратились в пустой формализм, обряды без содержания.
В результате в европейском и русском мире «образовались колоссальные пустоты от былого христианства, в которые провалилось все: троны, классы, сословия, труд, богатства». Эти слова В.В. Розанов написал сразу после крушения Российской империи в 1917 году. Он точно указал на главный признак произошедшей катастрофы: опустошался не мир, опустошалась «душа, которая лишилась своего древнего содержания». «Целеустремленно готовивший эру творческой личности, «русский культурный ренессанс» на поверку выпестовал, сам того не желая, даже не подозревая об этом, чудовищное свое порождение – эпоху тоталитаризма. Такова была ирония русской истории»[88 - Кондаков И.В. Введение в историю русской культуры. М.: Аспект-Пресс, 1997. С. 361.].
Отрицание традиционных ценностей стало повсеместным. «Бог умер»; эта формула витала в воздухе; она вошла в сознание европейских и русских интеллектуалов как вызов, как требование либо покончить с Богом окончательно, либо открыть Его заново[89 - Очень наглядно эту психологическую ситуацию описал Толстой в своей «Исповеди». «Помню, что когда мне было лет одиннадцать, один мальчик…объявил нам открытие, сделанное в гимназии. Открытие состояло в том, что Бога нет и что все, чему нас учат, одни выдумки (это был в 1838 году)». (Толстой, 23, 1).]. В любом случае религиозный словарь сохранял базовую формальную значимость; содержание же общеизвестных понятий менялось постоянно.
Идейное переживание жизни и религиозное переживание идей легли в основу создания двух мировоззренческих типов русской интеллигенции. Один тип был тесно связан с различными моделями синтезирования светского и религиозного дискурсов; другой – с попыткой их резкой дифференциации и поиском новой духовно-дискурсивной почвы развития – нового словаря культуры. При этом русская интеллигенция обнаружила резкую поляризацию общественного сознания, рассмотренную через противопоставление Запада и Востока, образованности и невежества, светского и религиозного (православного) как контраст нового и старого, хорошего и плохого, своего и чужого, широко используя религиозный дискурс в ходе самоописания. Это привело к осмыслению философии и политики в терминах христианской антропологии.
Стержень, эпицентр духовного напряжения родился из «историософского изумления» (Г.В. Флоровский), совпавшего с ростом патриотизма и возвращения к идеалам допетровского мира культуры. После того, как дело Петра стало уже банальным фактом повседневной жизни, процесс ментальной ломки под влиянием этих реформ попал под удар славянофильской критики. «Старое и новое» вновь подверглись уже интеллигентской перекодировке. Теперь путь к оздоровлению сознания видели в народных традициях, в возвращении к православию, понимаемому зачастую примитивно как процесс стилизации под старину, о которой наша интеллигенция имела вполне европеизированные представления. Маятник бинарного сознания вновь качнулся в другую сторону.
Другим способом возвращения к вере стал процесс внутренней ломки сознания под влиянием святоотеческой мысли и восстановления утраченных связей с собственными духовными первоистоками. По сути, происходил все тот же процесс инверсии ценностей, но уже в логике богословского и религиозно-практического переосмысления прошлого. Так как профессиональных богословов в России практически не было, эту функцию опять-таки вязала на себя философствующая интеллигенция.
Христианский дискурс стал употребляться при трактовке истории России, русского народа, самодержавия, крестьянской общины и т. д., но не строго канонически, а в рамках исторической индивидуальной рефлексии. «В настоящее время можно также наблюдать особенно характерную для нашей эпохи интеллигентскую подделку под христианство, усвоение христианских слов и идей при сохранении всего духовного облика интеллигентского героизма»[90 - Булгаков С.Н. Героизм и подвижничество. Там же. С.57.]. Интерпретация православного дискурса и включение его в собственные словари, описывающие те или иные интеллигентские картины мира, становится критерием в определении специфики философского мышления.
Философы-славянофилы свято чтили авторитет библейского слова и пытались не выходить за рамки теологуменов (богословские мнения, не являющиеся каноническими для христиан). Это позволило многим из них обрести признание в православной Церкви. И, тем не менее, именно свободная философская мысль привнесла в форму христианской мифологии и догматики новое содержание и толкование, сделав, даже самые «православные» тексты иной дескриптивной системой религиозного сознания творческой интеллигенции. Философский текст перекодировал и подменил собой богословский, бессознательно претендуя на особый (религиозный) статус и текста, и его создателя. Религиозные идеи глубоко переживались русскими интеллигентами, сделавшими святоотеческую мысль «идейной платформой» теоретического анализа, спаянной с собственной жизнью и подвижническим мироощущением. Славянофилы создали учение о «живом знании» (религиозном опыте), соединив в нем веру и истину, максимально расширив понятие опыта и включив в него «логику разума» и «логику сердца». Это осмысление не ограничивалось собственно религиозным сознанием и открывало возможность религиозной мотивации изначально нерелигиозных понятий и действий. «Философский подъем тридцатых и сороковых годов имел двойной исход. Для одних открывался путь в церковь, путь религиозного восстановления, – религиозный апокалипсис мысли и воли. Для других это был путь в безверие и даже в прямое богоборчество»[91 - Флоровский Г.В. Указан. соч. С. 245.].
Философия рождалась как попытка не только дифференциации, как думалось многим мыслителям «серебряного века»[92 - Подр: DeBlasio Alyssa. The end of Russian philosophy: Tradition and Transition at the turn of 21st century. PP. 10–22.], но и совмещения религиозного и светского дискурсов таким образом, чтобы первый не мешал, а помогал выражать идеи второго. По сути, мы имеем дело с глобальной перекодировкой традиционных христианских и библейских символов, текстов, образов в соответствии с поэтапной их трансформацией в философствующее сознание эпохи, приведшее в итоге к созданию концепта русской интеллигенции. Уникальность, однако, заключалась и в том, что христианский дискурс лег в основание литературных и публицистических текстов, сформировавших базовые философские мифы славянофильства, западничества во всех разновидностях их исторического существования. В то же время работал и другой языковой каркас оформления идей – литературный. Русская философия обрела свою привлекательность не столько благодаря внедрению религиозного дискурса, сколько благодаря близости ее языкового аппарата художественному или литературному.
Философско-литературный (а затем и любой художественный) текст обрел каноническую незыблемость и форму «религиозного» первообраза, претендуя на то место, которое до этого занимал другой текст – Библия. Новый дискурс рождался в ходе спекулятивного использования предыдущего (христианского) языкового каркаса для озвучивания новой истории и описания новых героев. Старые слова, метафоры и смыслы, умирая, возрождались в новом языке культуры, становясь формой индивидуального мифотворчества: философского, литературного, публицистического. Литература и философия занялись «строительством» нового языка, в котором привычные понятия, освобожденные от традиционных смыслов, обретали новую жизнь и становились причиной рождения интеллигенции, которая взяла на себя миссионерскую функцию «спасительницы» русского народа, бессознательно идентифицировав свою жизнь (переживания) с православным подвигом святости, а свой язык – с языком всего народа.
Наступила эпоха многоликих философских утопий, в которых самосознание их создателей становится главным мерилом национальной самоидентификации. В ходе этой «идентификации» самому традиционному православию суждено было «раствориться» как архаическому миросозерцанию, сказке и уступить место иному мифотворчеству и иным святым. При этом интеллигенция предполагала, что наличие православного дискурса обеспечивает ее картинам мира каноничность и прочность религиозных моделей или, как отмечал Р. Рорти, «присутствие термина в его конечном словаре уже является гарантией того, что он указывает на нечто, обладающее реальной сущностью»[93 - Рорти Р. Указан. соч. С.105.].
Страстность переживания идей обрела силу и мощь религиозного фанатизма, которого были лишены настоящие святые, и способствовала сотворению мифа о святости русской интеллигенции. Завершение процесса самомифологизации произошло в период ее окончательного размежевания и саморазоблачения, начавшегося благодаря изданию «Вех» в 1909 г. Мифы о себе (создание нового дискурса) стали фундаментом русской философии культуры рубежа веков.
На этой волне и расцвела русская религиозная философия. Богоискательство и Богостроительство привело к появлению небывалого для России интеллектуального и духовного расцвета мысли, названного русским религиозным Ренессансом, который проходил как реабилитация религиозно-культурных ценностей под знаком цветения эстетической культуры и религиозной философии.
Г.В. Флоровский назвал этот период «перевалом сознания», когда вдруг заново открылось, что человек есть существо не только материальное, живущее природными потребностями, но и «метафизическое», имеющее глубинные духовные запросы, занятое поисками духовного идеала, воплощенного в платоновской и одновременно в христианской триаде истины, добра и красоты.
1.6. «Святость» русского интеллигента
Становление русской философии развивалось в контексте дискурсивного самоосмысления феномена русской интеллигенции. Образ «святого мыслителя» формировался в культуре постепенно, под влиянием немецкого романтизма и святоотеческих текстов, например, «Добротолюбия» (перевод с греческого на славянский в 1793), в разной степени освоенных к середине XIX века философствующей интеллигенцией. В свое время, воскрешая «феномен монашества» в его лучших образцах – египетского, палестинского, афонского, русского аскетического опыта, св. Паисий Величковский (переводчик «Добротолюбия») описал уникальный тип старцев – «опытных реставраторов человеческих душ», ставший особенно привлекательным для многих русских мыслителей разных школ и направлений.
Светские люди, интеллектуалы и интеллигенты осознали свое особое «святое» место в русском космосе, почувствовали высокий пафос иноческого подвижничества в своей жизни, создав тем самым новый контекст существования религиозных переживаний в форме светского аскетизма как синонима образа жизни интеллигенции. Духовный опыт, заключенный в святоотеческих текстах был экзистенциально, то есть весьма специфично преобразован в искусственный мир иноческого образа жизни, который они вели, одновременно оставаясь частью секуляризованной культуры. Данная характеристика одинаково приложима как к творчеству Н.Г. Чернышевского, так и Достоевского, как к образу Рахметова, так и Алеши Карамазова.
Концептосфера православия, включающая иноческое поведение, монашеский образ жизни, «умное» делание, аскетическое подвижничество, стала идеальным ориентиром для выработки дескрипции особого светского образа жизни. Постижение философии шло параллельно формированию мифологемы о новом типе святости – «святых философах». И.В. Киреевский отмечал, что философ берет на себя задачу святого подвижника, привнося духовно-нравственный компонент в содержание философских идей. «Для Киреевского характерно было сочетание внутренней свободы с самым строгим послушанием. Свои собственные богословские и философские занятия он полнее подчинил старческому суду старца Макария Оптинского»[94 - Флоровский Г.В. Указан. соч. С. 299.]. Старец Макарий являл собой живой пример внутренней духовной цельности личности, которая и стала объектом не только жизненного подражания, но и философской рефлексии Киреевского.
Философ указывал, что существует внутренняя зависимость (функциональная связь) между познавательными способностями человека и духовным подвигом жизни, им совершаемым; он описал глубинную связь между философией и православной аскетикой. Общения Киреевского со старцем Макарием – пример личного «соприкосновения», постижения светским человеком сути религиозной аскезы. Личный опыт стал основой для теоретических выводов. «Все Святые Отцы Греческие, не исключая самых глубоких писателей, были переведены, и читаны, и переписываемы, и изучаемы в тишине наших монастырей, этих святых зародышей несбывшихся университетов <…..> И эти монастыри были в живом, непрестанном соприкосновении с народом»[95 - Киреевский И.В. ПСС. М., 1911.С. 272.].
Эта установка на специфику монастырской жизни и монашества стала основой мировоззрения и образа жизни самого философа. «Да и сам “духовный труженик” Киреевский, в сущности, принадлежал к оптинскому подвижничеству, приобретал там собственный опыт “внутреннего устроения”, проходил свой искус под руководством старца, внося в свою душевную жизнь (и даже в быт) черты аскезы»[96 - Котельников В.А. Оптина пустынь и русская литература // Русская литература, 1989. № 3. С.7.].
Таким образом, требования, предъявляемые в «Добротолюбии» и святоотеческой литературе к аскету по правильности и последовательности духовного восхождения, описание способов обретения святости, становятся требованиями, предъявляемыми философом к самому себе и создаваемым им картинам мира. Философ берет на себя функции святого подвижника, привнося духовно-нравственный компонент в содержание философских идей. «Сердце, исполненное нежности и любви, – говорит о нем, близко его знавший Хомяков, – ум, обогащенный всем просвещением современной нам эпохи, прозрачная чистота кроткой и беззлобной души, какая-то особенная мягкость чувства, дававшая особенную прелесть разговору, горячее стремление к истине…»[97 - Цит по: Канцевич И.М. Стяжение Духа Святого в путях Древней Руси. Изд-во Московской патриархии, 1993.С. 212.].
Незаметно аскетический дискурс стал основой описательной лексики многих русских мыслителей. «Корейша – Киреевский», (Корейша – известный юродивый начала XX века), «священный писатель», его произведения – «святое писание»[98 - Розанов В.В. И.В. Киреевский и А.И. Герцен // В.В. Розанов В.В. Легенда о Великом инквизиторе. М.: Республика, 1996. С. 563.]; о философе Н.Н. Страхове: «праведный писатель… святой писатель… монастырь-писатель»[99 - Розанов В.В. Апокалипсис нашего времени. М.: Республика, 2000. С. 266.]; «Г.С. Сковорода был народный мудрец “странник” – тип, естественно свойственный русскому народно-национальному лику. “Основная черта глубокого духовного родства между Сковородой и последующей русской мыслью есть странничество. Страннический посох… подлинный символ русской мысли”[100 - Ильин В.Н. Эссе о русской культуре. Этюд V. СПб.: Акрополь, 1997. С. 102.].<…> Федоров был воздержанник, отшельник, труженик»[101 - Эрн В.Г. Сковорода. Жизнь и учение. М., 1912. С. 334.].
Подобных высказываний-характеристик русских писателей и философов, общественных деятелей и публицистов можно привести множество. В них своеобразно переплелись черты героической личности и христианского святого. Православный дискурс был использован славянофилами как «конечный словарь» (Р. Рорти) истинного знания, в котором они видели не собственные дескриптивные возможности, а адекватный язык описания православной России. При этом шел процесс его перекодировки, философского переосмысления, отраженный в индивидуальной мифологии или симбиотическом мировоззрении «святого православного мышления».
Одновременно складывался другой – нигилистический, политический и революционный словарь и иная модель дескриптивной картины мира, в которой, однако, также был использован христианский дискурс и элементы религиозных установок общества. Начало было положено страстным подвижничеством интеллигентов-нигилистов 60-х годов, которые усугубили активный процесс определения своего места в особом качестве – служителя народа.
Мы привыкли к резкому противопоставлению «отцов» и «детей», и прежде всего по духовно-религиозному основанию. Безусловно, процесс секуляризации был налицо, но связан он был вовсе не с атеизмом и позитивизмом (хотя все это имело место в России). Этот процесс был весьма своеобразным – не наука вытесняла религию, но шли серьезные личностные религиозные поиски, которые вытесняли как науку, так и догматическую церковь, с ее традиционализмом и архаикой. Почти никто не верил «как мальчик» (Достоевский) в Бога; процесс нигилизма, сомнения, даже атеизма болезненно, но симптоматично проявлялся в самых разных слоях интеллигентского общества в 50-е годы. Было все, кроме подлинной православной веры, однако, это «все» в своем основании имело религиозное мироощущение и православную лексику, хотя и опиравшихся не на веручувство, а на то, что Толстой назвал «доверием», некой бессознательной предрасположенностью к вере, предшествующей ей и часто подменяющей подлинную религиозность.
Господствующая идеология не давала развиться подлинному религиозному чувству – не было той искренности, которая стала основой формирования личности; при этом в России никогда не доминировали атеизм и материализм, несмотря ни на какую идеологию и партийные установки пятидесятников. Вера присутствовала как культурный фон, не задевая глубоко радикальную интеллигенцию, но никогда и не отрицаясь всерьез. В этом плане важны признания Толстого, который писал, что, будучи молодым и слушая старших циничных товарищей, пришёл к выводу, что «учить катехизис надо, ходить в церковь надо, но слишком серьезно всего этого принимать не следует. Помню еще, что я очень молодым читал Вольтера и насмешки его не только не возмущали, но очень веселили меня. Отпадение мое от веры произошло во мне так же, как оно происходило и происходит теперь в людях нашего склада образования. Оно, как мне кажется, происходит в большинстве случаев так: люди живут так, как все живут, а живут все на основании начал, не только не имеющих ничего общего с вероучением, но большею частью противоположных ему; вероучение не участвует в жизни, и в сношениях с другими людьми никогда не приходится сталкиваться и в собственной жизни самому никогда не приходится справляться с ним; вероучение это исповедуется где-то там, вдали от жизни и независимо от нее. Если сталкиваешься с ним, то только как с внешним, не связанным с жизнью, явлением» (Толстой, 23, 1–2).
Правомерно поставить вопрос: так были ли столь различны между собой христианские философы и радикальные интеллигенты в 50-е – 60-е годы. В это время, как и в 40-е годы шел активный процесс «работы над верой» (П.Н. Милюков), в котором опыт «отцов» был всего лишь переработан на «научном» языке прогресса, позитивизма и материализма. Перекодировка христианских понятий и идей нигилистами была осуществлена через экзистенциальный опыт «подражания» христианскому подвижничеству, связанному со стремлением к самопожертвованию, романтической тягой к смерти, а то и «огульным отрицанием» всей культуры. Хотя этот тип подвижничества был принципиально отличен от христианского, тем не менее он также классифицировался по аскетически-православному принципу и воспринимался как религиозный подвиг, но не во имя Бога, а во имя человека, который вскоре стал объектом особой антроподицеи Достоевского.
Когда-то многие первохристиане мечтали пострадать за Бога, не вникая в тонкости идейных оснований веры. Они чувствовали себя избранными к смерти и несли это избранничество как знак свыше. Их подвиги могли быть оценены только через оппозицию и борьбу, которую они вели с римским язычеством. Ими двигала страстность переживания религиозных идей как активное стремление к преобразованию собственной духовной жизни. Нигилисты, народники, первые террористы и стали такими русскими «первохристианами» без нового Христа и нового христианства. «”Семинаристы”60-х годов не виноваты, конечно, что вывели эту страстность из более непосредственного соприкосновения с миром русской церковности и пережили свои личные религиозно-нравственные драмы гораздо раньше, чем вышли на литературное поприще с уже готовым и законченным мировоззрением»[102 - Милюков П.Н. Интеллигенция и историческая традиция // Вопросы философии, 1991, № 1. С. 125.]. Ими двигала жажда подвигов, оппозиционность власти и чувство вины перед народом.
Мироощущение славянофилов можно считать подготовительной почвой разночинского этапа (народо) мужикопоклонничества. Они рассматривали свою миссию служителей народа во многом на манер наивного «христолюбия», отождествляя народ и Россию с особым избранным Божьим миром, а себя – со святыми старцами (отцами), страдальцами и жертвенниками, учениками Христа. Идеалы народников и разночинцев (детей), их страстное желание служить народу, носили уже ярко выраженные черты идеологического сознания.
Внутренние переживания «отцов» получили новое осмысление в активности и стремлении к действию «детей». В 60-е годы на смену «святому аскету» пришел народник и разночинец-интеллигент, претендующий на олицетворение универсального народного типа, разрушающий мораль, руководствующийся в идеологии-жизни принципом высшей жертвенности и абстрактной головной любви к человечеству. Идея жертвенного героизма парадоксально соединялась с концепцией эгоистического сознания. «Вопрос морали разрешен принципом личной пользы как единственным побудителем и двигателем человека. Альтруизм – миф, самопожертвование – сказка («жертва – сапоги всмятку»)… «Человек в своих поступках руководствуется исключительно эгоизмом», а потому «умрите за общинное начало!» – вот две дословные фразы Чернышевского, соединенные нами в одно целое; человеком двигает только личная выгода, а потому положим душу за общее благо»[103 - Иванов-Разумник Р.И. Указан. соч. С. 81.].