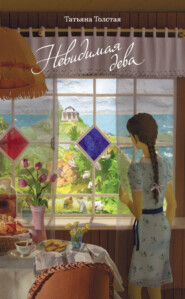По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Истребление персиян
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Но не столько есть мы туда ходили, сколько говорить. Говорить, говорить, говорить – обо всём. Плоды наук, добро и зло, и предрассудки вековые, и гроба тайны роковые, судьба и жизнь в свою чреду, всё подвергалось их суду. В какой-то момент все эти наши слова, наши мысли о культуре, о литературе русской и мировой (переплелись – не расплести!), эти бесконечные цитирования строчек, перескакивания со стихотворения на стихотворение, с мысли на мысль, с Блока на Пастернака, с Ахматовой на Ахматову и обратно на Ахматову, эти попытки понимания стали требовать какого-то выхода; пора было переносить наши разговоры на бумагу. Трындеть – не мешки ворочать, а вот писать – именно что мешки. Договорились писать диалоги. Не эссе, не очерки, не попытки научного исследования, а просто диалоги, разговоры двух людей про всё на свете, что кажется нужным, важным, интересным, глупым, глубоким, смешным.
Подход был двоякий. Либо мы брали тему (например, “Сон и скука”) и развивали ее по собственному усмотрению, перезваниваясь и договариваясь: “вы двиньте смысл вот в эту сторону, а я тогда подхвачу и сделаю вот так”, либо брали небольшой, но прекрасный текст и пробовали его разобрать, развинтить до последнего винтика, до дна (только чтобы обнаружить, что в гениальном тексте винтиков нет, дна нет, а открывается всё новая и новая глубина). Таков наш диалог “Светящийся череп”.
Были попытки бесплодные, задачи неподъемные. Например, за Льва Толстого мы брались множество раз – и каждый раз отступали перед грандиозным величием этой тысячеэтажной конструкции. Начать хотели со знаменитой сцены в “Анне Карениной”, где Стива Облонский обедает в дорогом трактире с Константином Левиным, альтер эго самого Льва Николаевича. Стива, гурман, бонвиван и гедонист, обдумывает каждую строчку меню… Он наслаждается… Он закажет устрицы и тюрбо… А Левин строит из себя такого простого, от земли, хозяина (и сам верит в этот свой образ): какая разница, что есть? “Мне всё равно. Мне лучше всего щи и каша, но ведь здесь этого нет”. И, услышав его слова, к нему склоняется татарин-половой: “Каша а-ля рюсс… прикажете?” Нас восхищало, как Толстой одним щелчком, вот этим “каша а-ля рюсс”, опрокидывает своего любимца, своего альтер эго с его неуместной во французском ресторане повесткой. Вся эта сцена – одна из самых виртуозных в русской литературе. Читатель одновременно и наслаждается изысканной, дорогой едой вместе с одним из героев, – и тут же ничего не чувствует, не замечает вместе с другим, даже того, что обед стоил бешеных денег. Как описать, как передать это объемное зрение Толстого, его умение одновременно находиться и внутри, и снаружи своих персонажей? Как об этом говорить?
Раз не получается с Толстым, решили тему сузить – и одновременно расширить, то есть проследить, например, упоминание и описание еды в основных русских текстах и осмысление ее у разных авторов: что? едят, почему едят, в каком смысле едят…
Еда как Эрос и Танатос – такая была рабочая идея. А там как пойдет.
Начать хотели с Державина, с чистой и яркой живописи, без полутонов, что твой Малевич (“багряна ветчина, зелены щи с желтком, румяно-желт пирог, сыр белый, раки красны, что смоль, янтарь – икра, и с голубым пером там щука пестрая: прекрасны!”), и через Пушкина, который, похоже, обжорой не был, он как раз по части эроса (“у податливых крестьянок, – чем и славится Валдай – к чаю накупи баранок и скорее приезжай”, причем баранки тут для большей игривости), через вечно голодных разночинцев (“питаясь чуть не жестию, я часто ощущал такую индижестию, что умереть желал”), выйти на “Сирену” Чехова (“жареные гуси мастера пахнуть, – сказал почетный мировой, тяжело дыша”).
И уже на исходе золотого века русской литературы, когда скоро всему конец, когда всякая плоть прощай, когда лишь дух ушедшего столетия витает в воздухе умирающих, исчезающих, истаивающих дворянских усадеб, – антоновские яблоки Бунина, догадавшегося, поймавшего, уловившего этот тонкий запах смерти, этот взмах черного крыла Танатоса: прощай, навек прощай!
Ну, и дальше: ХХ век, Юрий Олеша… я предвкушала, я знала, как ловко Шура перебросил бы смысловую дугу из века XVIII-го в век ХХ-й, как закольцевал бы державинскую ветчину с олешинской колбасой! Отодвинув свои тарелки, прихлебывая чай с чабрецом, мы перебирали, голова к голове, всю известную нам литературу, строили сценарии, бродили по тропинкам и закоулкам русской словесности, выискивая еду реальную и метафорическую: “и огурцы, как великаны, прилежно плавают в воде” – годится… А вот: “над грудой рюмок, дам, старух, над скукой их обедов чинных свет электрический потух” – берем? Пока берем, а там посмотрим. А Анна Андреевна вообще ничего не ест, ну разве что “водою пахнет резеда, и яблоком – любовь”, но тут, собственно, яблока никакого и нету. То же и Цветаева: “яблоком своим имперским, как дитя, играешь, август”. То же и Крандиевская: “яблоко, протянутое Еве, было вкуса – меди, соли, жёлчи”… Это же не яблоки, это другое. А может быть, давайте все вообще яблоки соберем – и воспарим? Тут и Мария Петровых, и Арсений Тарковский. И Гандлевский – “это яблоко? нет, это облако”! А вот, смотрите, Пастернак до чего был дотошный: “по соседству в столовой зелень, горы икры, в сервировке лиловой семга, сельди, сыры”… Даже неловко как-то за него, за эту рифму: икры – сыры… Елисеевский магазин какой-то… А у него такой каталог жратвы, что она уже сама по себе обильно рифмуется… думаем, что? тут просвечивает, о чем тут можно сказать.
…Господи, как же он всё знал, понимал, как он летал, реял над текстами обожаемой нами обоими русской литературы, как удивительно растолковывал смыслы, углубляясь, и зарываясь, и завираясь, какие подвалы и чердаки находил в забытых текстах, – я и не знала, не слышала о них! Как я его любила!
Так и не написали ничего. Поленились. То, что называется: пар ушел в свисток. А потом и “Чемпион” снесли. Сам кабак с хозяином и поварами переехал куда-то в дальний район, и мы потеряли его из виду. Поезд, покачивая синими ламбрекенами, ушел. “На кухне вымыты тарелки, никто не помнит ничего”.
* * *
Не могу себе простить всего этого недописанного, профуканного, профершпиленного, оставленного на потом. Ведь нет никакого потом.
У моей бабушки, Натальи Крандиевской, есть стихотворение:
Там, в двух шагах от сердца моего,
Харчевня есть – “Сиреневая ветка”.
Туда прохожие заглядывают редко,
А чаще не бывает никого.
Туда я прихожу для необычных встреч.
За столик мы, два призрака, садимся,
Беззвучную ведем друг с другом речь,
Не поднимая глаз, глядим – не наглядимся.
Галлюцинации ли то, иль просто тени,
Видения, возникшие в дыму,
И жив ли ты, иль умер, – не пойму…
А за окном наркоз ночной сирени
Потворствует свиданью моему.
Когда я прохожу мимо того клочка асфальта, на котором некогда стоял “Чемпион”, я всегда говорю себе эти стихи. Там теперь ничего нет. Только дерево и воздух.
* * *
Мне кажется, что вот, я допишу этот текст – и надо будет показать его Шуре: одобрит ли?
Шура! Шура! Позвонить можно?.. Вы же не спите?..
Диалоги
Татьяна Толстая – Александр Тимофеевский
Истребление персиян
За что народ любит поэта
ТАТЬЯНА ТОЛСТАЯ:
Возьмем такую тему: каких поэтов любит народ – и за что он их любит? Под народом будем понимать разное, но постараемся осторожненько держаться такого определения: это довольно большая, культурно более или менее однородная группа населения, бессознательно ориентированная на общие мифы, на общие парадигмы. Вот так осторожно определим и отойдем, чтобы оно не упало и не развалилось, потому что если не дай бог свалится, то на голову.
Приведу пример общей парадигмы, имеющий отношение к нашей теме. Есть такой взгляд на вещи: отличие западной культуры от восточной состоит, среди прочего, в том, что культурный герой Запада – Рыцарь, Воин, культурный герой Востока – Трикстер, то есть Жулик. Это будет проявляться во всём: с одной стороны, романтический герой, защитник, верное джентльменское слово, честный купец, культура прямого высказывания, – “да” значит “да”, а “нет” значит “нет”, и никак иначе; документальность, хроники, саги, индивидуализм, уважение к закону, протестантская этика. С другой стороны – уклончивость, непрямые смыслы, обманы-туманы, уход от открытого боя, ложь всех видов, включая высокопоэтическую, лесть, многослойность, каламбуры, сказки, лукавство, хитроумие. Западная телесность противостоит восточной духовности, разламываясь именно по этой линии: там побеждают мечом, здесь – умыслом. Трикстер древнее, народнее, глубже, опаснее, чем прямолинейный, поздно сформировавшийся Рыцарь, идеалистический раб чести и роз. Посмотрите хотя бы на фотки с Ялтинской конференции…
Но и внутри одной культуры, конечно, идет расслоение: герой высших классов – Рыцарь (князь, самурай), герой народа – Трикстер (Ходжа Насреддин, Иван – крестьянский сын). Ибо, напомню, по Пригову:
Народ – он делится на ненарод
И на народ в буквальном смысле
Кто ненарод – не то чтобы урод,
Но он ублюдок в высшем смысле…
Это вот мы с вами ублюдки в высшем смысле, и давайте об этом помнить и не приписывать, зажмурившись, наши ценности народу, а будем все-таки подсматривать одним глазком.
Так вот, в свете этой теории к Пушкину народ равнодушен. Напрасно А.С. кипятился: “и долго буду тем любезен я народу, что …милость к падшим призывал”. Народу – настоящему народу, а не культурным господам, – такая добродетель пофигу. Ну призывал, ну не злой, что с того? И погиб он как Рыцарь, то есть из-за бабы, то есть глупо. Беспонтово. Я уж не говорю о том, что Пушкин – не свой, понаехавший, арапчик, неведома зверушка, и за то уже, что народ относится к нему неплохо – благодушно и терпимо – низкий народу поклон.
Впрочем, Пушкин – всё же особый случай, “наше всё”, и подлежит особому разговору. А вот истинно народных любимцев – двое. Их тексты – священны, портреты приравнены к иконам, могилы – место культа и жертвоприношения и т. д. Это – Есенин и Высоцкий. Хорошие поэты, но в пантеоне образованного класса всегда занимавшие второе место: Есенин идет вторым после почти любого своего современника (при том, что есть и третий ряд), Высоцкий – вторым после Окуджавы. Почему же эти двое зацепили сердце народное? На этот счет есть у меня гипотеза, которую я таскаю в зубах уже лет пятнадцать, – во рту она держала кусочек одеяла и думала она, что это ветчина. Я вот сейчас вам эту ветчину изложу.
Прислушайтесь: народ, даром что слушает попсу круглосуточно, сам ее, слава господу, не напевает, на свадьбах-женитьбах, упившись в сосиску, под гитару не мурлыкает. “Ой, мама, шикадам” не споют над винегретом и холодцом, так же как в советское время пропеть за столом “ЛЭП-500 не простая линия” мог бы только освобожденный комсомольский работник либо олигофрен.
Подчиняясь одному ему ведомым законам, народ пшено клюет, а просо не станет. Гжель он любит, а Палех ему чужд, это для “Интуриста”, так же как “Калинку-малинку” давным-давно уступили “Интуристу” и не жалко. А вот интеллигенция подвывает свой “Синий троллейбус”, любезный ей как раз тем, что он оказывает милость падшим: “твои пассажиры – матросы твои – приходят на помощь”.
Добродетель эта, повторяю, совершенно не народная. Да и мысль о том, что “в молчаньи много доброты” – это мысль экзистенциально одинокого, высокоорганизованного нервного существа, а народ любит, чтобы включили погромче, сами знаете.
Так что поют? – в основном протяжное и печальное, или, хотя бы, задумчивое.
Из старого – “На палубу вышел, а палубы нет”, “Догорай, гори, моя лучина”, “По Дону гуляет”, “А брат твой давно уж в Сибири, давно кандалами гремит”, много разнообразного про ямщиков, “Ой, мороз, мороз”, “Когда б имел златые горы”. Из более-менее нового – “Эх, дороги, пыль да туман”, женские песни: “Сняла решительно пиджак наброшенный”, “На нем защитна гимнастерка, она с ума меня сведет”. Еще – “Каким ты был, таким остался”, “Зачем, зачем на белом свете есть безответная любовь”. Заметьте, все вещи – хорошего вкуса. Вполне себе гуманистические.
Но едва ли не самая исполняемая песня – “Из-за острова на стрежень”. Поется с удалью, размахом и торжеством. Глаз блестит. “И за борт ее бросает в набежавшую волну!” Так ее! Ура! И опять процитирую Пригова, ибо к месту:
Так, во всяком безобразьи
Что-то есть хорошее.
Вот герой народный Разин
Со княжною брошенной.
В воду бросил ее Разин,
Дочь живую Персии.
Так посмотришь – безобразье,
А красиво, песенно.
Ян Кип. “Степан Разин бросает в Волгу персидскую принцессу”.