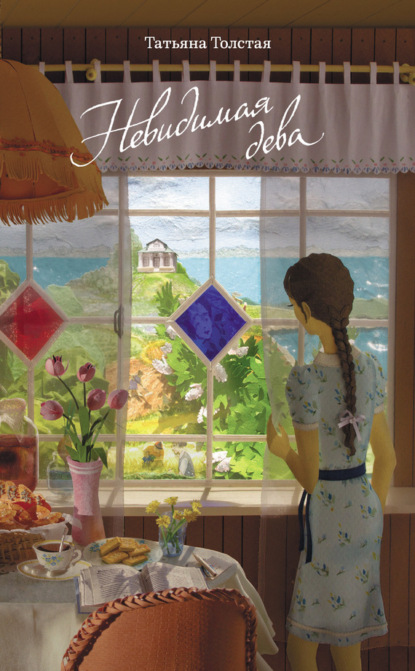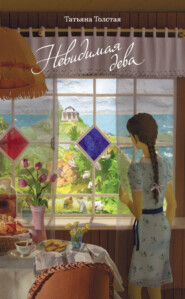По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Невидимая дева
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
А-а-а! Прочь отсюда, бегом, кошмар, ужас – холодный смрад – сарай, сырость, смерть…
А дядя Паша – муж такой страшной женщины. Дядя Паша – маленький, робкий, затюканный. Он старик: ему пятьдесят лет. Он служит бухгалтером в Ленинграде: встает в пять часов утра и бежит по горам, по долам, чтобы поспеть на паровичок. Семь километров бегом, полтора часа узкоколейкой, десять минут трамваем, потом надеть черные нарукавники и сесть на жесткий желтый стул. Клеенчатые двери, прокуренный полуподвал, жидкий свет, сейфы, накладные – дяди-Пашина работа. А когда пронесется, отшумев, веселый голубой день, дядя Паша вылезает из подвала и бежит назад: послевоенный трамвайный лязг, дымный вечерний вокзал, гарь, заборы, нищие, корзинки; ветер гонит мятые бумажки по опустевшему перрону. Летом – в сандалиях, зимой – в подшитых валенках торопится дядя Паша в свой Сад, в свой Рай, где с озера веет вечерней тишиной, в Дом, где на огромной кровати о четырех стеклянных ногах колышется необъятная золотоволосая Царица. Но стеклянные ноги мы увидели позднее. Вероника Викентьевна надолго поссорилась с мамой.
Дело в том, что однажды летом она продала маме яйцо. Было непременное условие: яйцо немедленно сварить и съесть. Но легкомысленная мама подарила яйцо дачной хозяйке. Преступление всплыло наружу. Последствия могли быть чудовищными: хозяйка могла подложить яйцо своей курице, и та в своем курином неведении высидела бы точно такую же уникальную породу кур, какая бегала в саду у Вероники Викентьевны. Хорошо, что все обошлось. Яйцо съели. Но маминой подлости Вероника Викентьевна простить не могла. Нам перестали продавать клубнику и молоко, дядя Паша, пробегая мимо, виновато улыбался. Соседи замкнулись: они укрепили металлическую сетку на железных столбах, насыпали в стратегически важных пунктах битого стекла, протянули стальной прут и завели страшного желтого пса. Этого, конечно, было мало.
Ведь могла же мама глухой ночью сигануть через забор, убить собаку и, проползя по битому стеклу, с животом, распоротым колючей проволокой, истекая кровью, изловчиться и слабеющими руками вырвать ус у клубники редкого сорта, чтобы привить его к своей чахлой клубничонке? Ведь могла же, могла добежать с добычей до ограды и, со стоном, задыхаясь, последним усилием перебросить клубничный ус папе, который притаился в кустах, поблескивая под луной круглыми очками?
С мая по сентябрь мучимая бессонницей Вероника Викентьевна выходила ночами в сад, долго стояла в белой просторной рубахе с вилами в руках, как Нептун, слушала ночных птиц, дышала жасмином. В последнее время слух у нее обострился: она могла слышать, как на нашей даче, за триста метров, накрывшись с головой верблюжьим одеялом, папа с мамой шепотом договариваются объегорить Веронику Викентьевну: прорыть подземный ход в парник с ранней петрушкой.
Ночь шла вперед, дом глухо чернел у нее за спиной. Где-то в теплой тьме, в сердцевине дома, затерявшись в недрах огромного ложа, тихо, как мышь, лежал маленький дядя Паша. Высоко над его головой плыл дубовый потолок, еще выше плыла мансарда, сундуки со спящими в нафталине черными добротными пальто, еще выше – чердак с вилами, клочьями сена, старыми журналами, а там – крыша, рогатая труба, флюгер, луна – через сад, через сон плыли, плыли, покачиваясь, унося дядю Пашу в страну утраченной юности, в страну сбывшихся надежд, а потом возвращалась озябшая Вероника Викентьевна, белая и тяжелая, и отдавливала ему маленькие теплые ножки.
…Эй, проснись, дядя Паша! Вероника-то скоро умрет.
Ты побродишь без мыслей по опустевшему дому, а потом воспрянешь, расцветешь, оглядишься, вспомнишь, отгонишь воспоминания, возжаждешь и привезешь – для помощи по хозяйству – Вероникину младшую сестру, Маргариту, такую же белую, большую и красивую. И это она в июне будет смеяться в светлом окне, склоняться над дождевой бочкой, мелькать среди кленов на солнечном озере.
О, как на склоне наших лет…
А мы ничего и не заметили, а мы забыли Веронику, а у нас была зима, зима, зима, свинка и корь, наводнение и бородавки, и горящая мандаринами елка, и мне сшили шубу, а тетка во дворе потрогала ее и сказала: «Мутон!»
Зимой дворники наклеивали на черное небо золотые звезды, посыпали толчеными брильянтами проходные дворы Петроградской стороны и, взбираясь по воздушным морозным лестницам к окнам, готовили на утро сюрпризы: тоненькими кисточками рисовали серебряные хвосты жар-птиц.
А когда зима всем надоедала, они вывозили ее на грузовиках за город, пропихивали худосочные сугробы в зарешеченные подземелья и размазывали по скверам душистую черную кашу с зародышами желтых цветочков. И несколько дней город стоял розовый, каменный и гулкий.
А оттуда, из-за далекого горизонта, уже бежало, смеясь и глумя, размахивая пестрым флагом, зеленое лето с муравьями и ромашками.
Дядя Паша убрал желтого пса – положил в сундук и посыпал нафталином; пустил в мансарду дачников – чужую чернявую бабушку и толстую внучку; зазывал в гости детей и угощал вареньем.
Мы висели на заборе и смотрели, как чужая бабушка каждый час распахивает цветные окна мансарды и, освещенная арлекиновыми ромбами старинных стекол, взывает:
– Булки-молока хоччш?!
– Не хочу.
– Какать-писать хоччш?!
– Не хочу.
Мы скакали на одной ножке, лечили царапины слюной, зарывали клады, резали ножиком дождевых червей, подглядывали за старухой, стиравшей в озере розовые штаны, и нашли под хозяйским буфетом фотографию удивленной ушастой семьи с надписью: «На долгую, долгую память. 1908 год».
Пойдем к дяде Паше! Только ты вперед. Нет, ты. Осторожно, здесь порог. В темноте не вижу. Держись за меня. А он покажет нам комнату? Покажет, только сначала надо выпить чаю.
Витые ложечки, витые ножки у вазочек. Вишневое варенье. В оранжевой тени абажура смеется легкомысленная Маргарита. Да допивай ты скорее! Дядя Паша уже знает, ждет, распахнул заветную дверь в пещеру Аладдина. О комната! О детские сны! О дядя Паша – царь Соломон! Рог Изобилия держишь ты в могучих руках! Караван верблюдов призрачными шагами прошествовал через твой дом и растерял в летних сумерках свою багдадскую поклажу! Водопад бархата, страусовые перья кружев, ливень фарфора, золотые столбы рам, драгоценные столики на гнутых ножках, запертые стеклянные колонны горок, где нежные желтые бокалы обвил черный виноград, где мерцают непроглядной тьмой негры в золотых юбках, где изогнулось что-то прозрачное, серебряное… Смотри, драгоценные часы с ненашими цифрами и змеиными стрелками! А эти – с незабудками! Ах, но вон те, вон те, смотри же! Над циферблатом – стеклянная комнатка, а в ней, за золотым столиком – золотой Кавалер в кафтане, с золотым бутербродом в руке. А рядом золотая Дама с кубком – часы бьют, и она бьет кубком по столику – шесть, семь, восемь… Сирень завидует, вглядываясь через стекло, дядя Паша садится к роялю и играет Лунную сонату. Кто ты, дядя Паша?..
Вот она, кровать на стеклянных ногах! Полупрозрачные в сумерках, невидимые и могущественные, высоко к потолку возносят они путаницу кружев, вавилоны подушек, лунный, сиреневый аромат божественной музыки. Белая благородная голова дяди Паши откинута, улыбка Джоконды на его устах, улыбка Джоконды на золотом лице Маргариты, бесшумно вставшей в дверях, колышутся кружева занавесок, колышется сирень, колышутся георгиновые волны на склоне до горизонта, до вечернего озера, до лунного столба.
Играй, играй, дядя Паша! Халиф на час, заколдованный принц, звездный юноша, кто дал тебе эту власть над нами, завороженными, кто подарил тебе эти белые крылья за спиной, кто вознес твою серебряную голову до вечерних небес, увенчал розами, осенил горним светом, овеял лунным ветром?..
О Млечный Путь, пресветлый брат
Молочных речек Ханаана,
Уплыть ли нам сквозь звездопад
К туманностям, куда слиянно
Тела возлюбленных летят!
…Ну все. Пошли давай. Неудобно сказать дяде Паше простецкое слово «спасибо». Надо бы витиеватее: «Благодарю вас». – «Не стоит благодарности».
«А ты заметила, что у них в доме только одна кровать?» – «А где же спит Маргарита? На чердаке?» – «Может быть. Но вообще-то там дачники». – «Ну, значит, она в сенях, на лавочке». – «А может, они спят на этой стеклянной кровати, валетом?» – «Дура ты. Они же чужие». – «Сама ты дура. А если они любовники?» – «Дак ведь любовники бывают только во Франции». Действительно. Это я не сообразила.
…Жизнь все торопливее меняла стекла в волшебном фонаре. Мы с помощью мамы проникали в зеркальные закоулки взрослого ателье, где лысый брючный закройщик снимал постыдные мерки, приговаривая: «побеспокою», мы завидовали девочкам в капроновых чулках, с проколотыми ушами, мы пририсовывали в учебниках: Пушкину – очки, Маяковскому – усы, а Чехову – в остальном вполне одаренному природой – большую белую грудь. И нас сразу узнал, и радостно кинулся к нам заждавшийся дефективный натурщик из курса анатомии, щедро протягивая свои пронумерованные внутренности, но бедняга уже никого не волновал. И, оглянувшись однажды, недоумевающими пальцами мы ощупали дымчатое стекло, за которым, прежде чем уйти на дно, в последний раз махнул платком наш сад. Но мы еще не осознали утраты.
Осень вошла к дяде Паше и ударила его по лицу. Осень, что тебе надо? Постой, ты что же, всерьез?.. Облетели листья, потемнели дни, сгорбилась Маргарита. Легли в землю белые куры, индюки улетели в теплые страны, вышел из сундука желтый пес и, обняв дядю Пашу, слушал вечерами вой северного ветра. Девочки, кто-нибудь, отнесите дяде Паше индийского чаю! Как мы выросли. Как ты все-таки сдал, дядя Паша! Руки твои набрякли, колени согнулись. Зачем ты дышишь с таким свистом? Я знаю, я догадываюсь: днем – смутно, ночью – отчетливо слышишь ты лязг железных заслонок. Перетирается цепь.
Что ты так суетишься? Ты хочешь показать мне свои сокровища? Ну так и быть, у меня есть еще пять минут. Как давно я здесь не была. Какая же я старая! Что же, вот это и было тем, пленявшим? Вся эта ветошь и рухлядь, обшарпанные крашеные комодики, топорные клеенчатые картинки, колченогие жардиньерки, вытертый плюш, штопаный тюль, рыночные корявые поделки, дешевые стекляшки? И это пело и переливалось, горело и звало? Как глупо ты шутишь, жизнь! Пыль, прах, тлен. Вынырнув с волшебного дна детства, из теплых сияющих глубин, на холодном ветру разожмем озябший кулак – что, кроме горсти сырого песка, унесли мы с собой? Но, словно четверть века назад, дрожащими руками дядя Паша заводит золотые часы. Над циферблатом, в стеклянной комнатке, съежились маленькие жители – Дама и Кавалер, хозяева Времени. Дама бьет по столу кубком, и тоненький звон пытается проклюнуть скорлупу десятилетий. Восемь, девять, десять. Нет. Прости, дядя Паша. Мне пора.
…Дядя Паша замерз на крыльце. Он не смог дотянуться до железного дверного кольца и упал лицом в снег. Белые морозные маргаритки выросли между его одеревеневших пальцев. Желтый пес тихо прикрыл ему глаза и ушел сквозь снежную крупу по звездной лестнице в черную высь, унося с собой дрожащий живой огонечек.
Новая хозяйка – пожилая Маргаритина дочь – ссыпала прах дяди Паши в жестяную банку и поставила на полку в пустом курятнике – хоронить было хлопотно.
Согнутая годами пополам, низко, до земли опустив лицо, бродит Маргарита по простуженному сквозному саду, словно разыскивая потерянные следы на замолкших дорожках.
– Жестокая! Похорони его!
Но дочь равнодушно курит на крыльце. Ночи холодны. Пораньше зажжем огни. И золотая Дама Времени, выпив до дна кубок жизни, простучит по столу для дяди Паши последнюю полночь.
Милая Шура
В первый раз Александра Эрнестовна прошла мимо меня ранним утром, вся залитая розовым московским солнцем. Чулки спущены, ноги – подворотней, черный костюмчик засален и протерт. Зато шляпа!.. Четыре времени года – бульденежи, ландыши, черешня, барбарис – свились на светлом соломенном блюде, пришпиленном к остаткам волос вот такущей булавкой! Черешни немного оторвались и деревянно постукивают. Ей девяносто лет, подумала я. Но на шесть лет ошиблась. Солнечный воздух сбегает по лучу с крыши прохладного старинного дома и снова бежит вверх, вверх, туда, куда редко смотрим – где повис чугунный балкон на нежилой высоте, где крутая крыша, какая-то нежная решеточка, воздвигнутая прямо в утреннем небе, тающая башенка, шпиль, голуби, ангелы, – нет, я плохо вижу. Блаженно улыбаясь, с затуманенными от счастья глазами движется Александра Эрнестовна по солнечной стороне, широким циркулем переставляя свои дореволюционные ноги. Сливки, булочка и морковка в сетке оттягивают руку, трутся о черный, тяжелый подол. Ветер пешком пришел с юга, веет морем и розами, обещает дорогу по легким лестницам в райские голубые страны. Александра Эрнестовна улыбается утру, улыбается мне. Черное одеяние, светлая шляпа, побрякивающая мертвыми фруктами, скрываются за углом.
Потом она попадалась мне на раскаленном бульваре – размякшая, умиляющаяся потному, одинокому, застрявшему в пропеченном городе ребенку – своих-то детей у нее никогда не было. Страшное бельишко свисает из-под черной замурзанной юбки. Чужой ребенок доверчиво вывалил песочные сокровища на колени Александре Эрнестовне. Не пачкай тете одежду. Ничего… Пусть.
Я встречала ее и в спертом воздухе кинотеатра (снимите шляпу, бабуля! ничего же не видно!). Невпопад экранным страстям Александра Эрнестовна шумно дышала, трещала мятым шоколадным серебром, склеивая вязкой сладкой глиной хрупкие аптечные челюсти.
Наконец она закрутилась в потоке огнедышащих машин у Никитских ворот, заметалась, теряя направление, вцепилась в мою руку и выплыла на спасительный берег, на всю жизнь потеряв уважение дипломатического негра, залегшего за зеленым стеклом низкого блестящего автомобиля, и его хорошеньких кудрявых детишек. Негр взревел, пахнул синим дымком и умчался в сторону консерватории, а Александра Эрнестовна, дрожащая, перепуганная, выпученная, повисла на мне и потащила меня в свое коммунальное убежище – безделушки, овальные рамки, сухие цветы, – оставляя за собой шлейф валидола.
Две крошечные комнатки, лепной высокий потолок; на отставших обоях улыбается, задумывается, капризничает упоительная красавица – милая Шура, Александра Эрнестовна. Да, да, это я! И в шляпе, и без шляпы, и с распущенными волосами. Ах, какая… А это ее второй муж, ну а это третий – не очень удачный выбор. Ну что уж теперь говорить… Вот, может быть, если бы она тогда решилась убежать к Ивану Николаевичу… Кто такой Иван Николаевич? Его здесь нет, он стиснут в альбоме, распялен в четырех картонных прорезях, прихлопнут дамой в турнюре, задавлен какими-то недолговечными белыми собачками, подохшими еще до японской войны.
Садитесь, садитесь, чем вас угостить?.. Приходите, конечно, ради бога, приходите! Александра Эрнестовна одна на свете, а так хочется поболтать!
…Осень. Дожди. Александра Эрнестовна, вы меня узнаете? Это же я! Помните… ну, неважно, я к вам в гости. Гости – ах, какое счастье! Сюда, сюда, сейчас я уберу… Так и живу одна. Всех пережила. Три мужа, знаете? И Иван Николаевич, он звал, но… Может быть, надо было решиться? Какая долгая жизнь. Вот это – я. Это – тоже я. А это – мой второй муж. У меня было три мужа, знаете? Правда, третий не очень…
А первый был адвокат. Знаменитый. Очень хорошо жили. Весной – в Финляндию. Летом – в Крым. Белые кексы, черный кофе. Шляпы с кружевами. Устрицы – очень дорого… Вечером в театр. Сколько поклонников! Он погиб в девятнадцатом году – зарезали в подворотне.
О, конечно, у нее всю жизнь были рома-а-аны, как же иначе? Женское сердце – оно такое! Да вот три года назад – у Александры Эрнестовны скрипач снимал закуток. Двадцать шесть лет, лауреат, глаза!.. Конечно, чувства он таил в душе, но взгляд – он же все выдает! Вечером Александра Эрнестовна, бывало, спросит его: «Чаю?..», а он вот так только посмотрит и ни-че-го не говорит! Ну, вы понимаете?.. Ков-ва-арный! Так и молчал, пока жил у Александры Эрнестовны. Но видно было, что весь горит и в душе прямо-таки клокочет. По вечерам вдвоем в двух тесных комнатках… Знаете, что-то такое в воздухе было – обоим ясно… Он не выдерживал и уходил. На улицу. Бродил где-то допоздна. Александра Эрнестовна стойко держалась и надежд ему не подавала. Потом уж он – с горя – женился на какой-то – так, ничего особенного. Переехал. И раз после женитьбы встретил на улице Александру Эрнестовну и кинул такой взгляд – испепелил! Но опять ничего не сказал. Все похоронил в душе.
Да, сердце Александры Эрнестовны никогда не пустовало. Три мужа, между прочим. Со вторым до войны жили в огромной квартире. Известный врач. Знаменитые гости. Цветы. Всегда веселье. И умер весело: когда уже ясно было, что конец, Александра Эрнестовна решила позвать цыган. Все-таки, знаете, когда смотришь на красивое, шумное, веселое, – и умирать легче, правда? Настоящих цыган раздобыть не удалось. Но Александра Эрнестовна – выдумщица – не растерялась, наняла ребят каких-то чумазых, девиц, вырядила их в шумящее, блестящее, развевающееся, распахнула двери в спальню умирающего – и забренчали, завопили, загундосили, пошли кругами, и колесом, и вприсядку: розовое, золотое, золотое, розовое! Муж не ожидал, он уже обратил взгляд туда, а тут вдруг врываются, шалями крутят, визжат; он приподнялся, руками замахал, захрипел: уйдите! – а они веселей, веселей, да с притопом! Так и умер, царствие ему небесное. А третий муж был не очень…
Но Иван Николаевич… Ах, Иван Николаевич! Всего-то и было: Крым, тринадцатый год, полосатое солнце сквозь жалюзи распиливает на брусочки белый выскобленный пол… Шестьдесят лет прошло, а вот ведь… Иван Николаевич просто обезумел: сейчас же бросай мужа и приезжай к нему в Крым. Навсегда. Пообещала. Потом, в Москве, призадумалась: а на что жить? И где? А он забросал письмами: «Милая Шура, приезжай, приезжай!» У мужа тут свои дела, дома сидит редко, а там, в Крыму, на ласковом песочке, под голубыми небесами, Иван Николаевич бегает как тигр: «Милая Шура, навсегда!» А у самого, бедного, денег на билет в Москву не хватает! Письма, письма, каждый день письма, целый год – Александра Эрнестовна покажет. Ах, как любил! Ехать или не ехать? На четыре времени года раскладывается человеческая жизнь. Весна!!! Лето. Осень… Зима? Но и зима позади для Александры Эрнестовны – где же она теперь? Куда обращены ее мокнущие бесцветные глаза? Запрокинув голову, оттянув красное веко, Александра Эрнестовна закапывает в глаз желтые капли. Розовым воздушным шариком просвечивает голова через тонкую паутину. Этот ли мышиный хвостик шестьдесят лет назад черным павлиньим хвостом окутывал плечи? В этих ли глазах утонул – раз и навсегда – настойчивый, но небогатый Иван Николаевич? Александра Эрнестовна кряхтит и нашаривает узловатыми ступнями тапки.
– Сейчас будем пить чай. Без чая никуда не отпущу. Ни-ни-ни. Даже и не думайте.
А дядя Паша – муж такой страшной женщины. Дядя Паша – маленький, робкий, затюканный. Он старик: ему пятьдесят лет. Он служит бухгалтером в Ленинграде: встает в пять часов утра и бежит по горам, по долам, чтобы поспеть на паровичок. Семь километров бегом, полтора часа узкоколейкой, десять минут трамваем, потом надеть черные нарукавники и сесть на жесткий желтый стул. Клеенчатые двери, прокуренный полуподвал, жидкий свет, сейфы, накладные – дяди-Пашина работа. А когда пронесется, отшумев, веселый голубой день, дядя Паша вылезает из подвала и бежит назад: послевоенный трамвайный лязг, дымный вечерний вокзал, гарь, заборы, нищие, корзинки; ветер гонит мятые бумажки по опустевшему перрону. Летом – в сандалиях, зимой – в подшитых валенках торопится дядя Паша в свой Сад, в свой Рай, где с озера веет вечерней тишиной, в Дом, где на огромной кровати о четырех стеклянных ногах колышется необъятная золотоволосая Царица. Но стеклянные ноги мы увидели позднее. Вероника Викентьевна надолго поссорилась с мамой.
Дело в том, что однажды летом она продала маме яйцо. Было непременное условие: яйцо немедленно сварить и съесть. Но легкомысленная мама подарила яйцо дачной хозяйке. Преступление всплыло наружу. Последствия могли быть чудовищными: хозяйка могла подложить яйцо своей курице, и та в своем курином неведении высидела бы точно такую же уникальную породу кур, какая бегала в саду у Вероники Викентьевны. Хорошо, что все обошлось. Яйцо съели. Но маминой подлости Вероника Викентьевна простить не могла. Нам перестали продавать клубнику и молоко, дядя Паша, пробегая мимо, виновато улыбался. Соседи замкнулись: они укрепили металлическую сетку на железных столбах, насыпали в стратегически важных пунктах битого стекла, протянули стальной прут и завели страшного желтого пса. Этого, конечно, было мало.
Ведь могла же мама глухой ночью сигануть через забор, убить собаку и, проползя по битому стеклу, с животом, распоротым колючей проволокой, истекая кровью, изловчиться и слабеющими руками вырвать ус у клубники редкого сорта, чтобы привить его к своей чахлой клубничонке? Ведь могла же, могла добежать с добычей до ограды и, со стоном, задыхаясь, последним усилием перебросить клубничный ус папе, который притаился в кустах, поблескивая под луной круглыми очками?
С мая по сентябрь мучимая бессонницей Вероника Викентьевна выходила ночами в сад, долго стояла в белой просторной рубахе с вилами в руках, как Нептун, слушала ночных птиц, дышала жасмином. В последнее время слух у нее обострился: она могла слышать, как на нашей даче, за триста метров, накрывшись с головой верблюжьим одеялом, папа с мамой шепотом договариваются объегорить Веронику Викентьевну: прорыть подземный ход в парник с ранней петрушкой.
Ночь шла вперед, дом глухо чернел у нее за спиной. Где-то в теплой тьме, в сердцевине дома, затерявшись в недрах огромного ложа, тихо, как мышь, лежал маленький дядя Паша. Высоко над его головой плыл дубовый потолок, еще выше плыла мансарда, сундуки со спящими в нафталине черными добротными пальто, еще выше – чердак с вилами, клочьями сена, старыми журналами, а там – крыша, рогатая труба, флюгер, луна – через сад, через сон плыли, плыли, покачиваясь, унося дядю Пашу в страну утраченной юности, в страну сбывшихся надежд, а потом возвращалась озябшая Вероника Викентьевна, белая и тяжелая, и отдавливала ему маленькие теплые ножки.
…Эй, проснись, дядя Паша! Вероника-то скоро умрет.
Ты побродишь без мыслей по опустевшему дому, а потом воспрянешь, расцветешь, оглядишься, вспомнишь, отгонишь воспоминания, возжаждешь и привезешь – для помощи по хозяйству – Вероникину младшую сестру, Маргариту, такую же белую, большую и красивую. И это она в июне будет смеяться в светлом окне, склоняться над дождевой бочкой, мелькать среди кленов на солнечном озере.
О, как на склоне наших лет…
А мы ничего и не заметили, а мы забыли Веронику, а у нас была зима, зима, зима, свинка и корь, наводнение и бородавки, и горящая мандаринами елка, и мне сшили шубу, а тетка во дворе потрогала ее и сказала: «Мутон!»
Зимой дворники наклеивали на черное небо золотые звезды, посыпали толчеными брильянтами проходные дворы Петроградской стороны и, взбираясь по воздушным морозным лестницам к окнам, готовили на утро сюрпризы: тоненькими кисточками рисовали серебряные хвосты жар-птиц.
А когда зима всем надоедала, они вывозили ее на грузовиках за город, пропихивали худосочные сугробы в зарешеченные подземелья и размазывали по скверам душистую черную кашу с зародышами желтых цветочков. И несколько дней город стоял розовый, каменный и гулкий.
А оттуда, из-за далекого горизонта, уже бежало, смеясь и глумя, размахивая пестрым флагом, зеленое лето с муравьями и ромашками.
Дядя Паша убрал желтого пса – положил в сундук и посыпал нафталином; пустил в мансарду дачников – чужую чернявую бабушку и толстую внучку; зазывал в гости детей и угощал вареньем.
Мы висели на заборе и смотрели, как чужая бабушка каждый час распахивает цветные окна мансарды и, освещенная арлекиновыми ромбами старинных стекол, взывает:
– Булки-молока хоччш?!
– Не хочу.
– Какать-писать хоччш?!
– Не хочу.
Мы скакали на одной ножке, лечили царапины слюной, зарывали клады, резали ножиком дождевых червей, подглядывали за старухой, стиравшей в озере розовые штаны, и нашли под хозяйским буфетом фотографию удивленной ушастой семьи с надписью: «На долгую, долгую память. 1908 год».
Пойдем к дяде Паше! Только ты вперед. Нет, ты. Осторожно, здесь порог. В темноте не вижу. Держись за меня. А он покажет нам комнату? Покажет, только сначала надо выпить чаю.
Витые ложечки, витые ножки у вазочек. Вишневое варенье. В оранжевой тени абажура смеется легкомысленная Маргарита. Да допивай ты скорее! Дядя Паша уже знает, ждет, распахнул заветную дверь в пещеру Аладдина. О комната! О детские сны! О дядя Паша – царь Соломон! Рог Изобилия держишь ты в могучих руках! Караван верблюдов призрачными шагами прошествовал через твой дом и растерял в летних сумерках свою багдадскую поклажу! Водопад бархата, страусовые перья кружев, ливень фарфора, золотые столбы рам, драгоценные столики на гнутых ножках, запертые стеклянные колонны горок, где нежные желтые бокалы обвил черный виноград, где мерцают непроглядной тьмой негры в золотых юбках, где изогнулось что-то прозрачное, серебряное… Смотри, драгоценные часы с ненашими цифрами и змеиными стрелками! А эти – с незабудками! Ах, но вон те, вон те, смотри же! Над циферблатом – стеклянная комнатка, а в ней, за золотым столиком – золотой Кавалер в кафтане, с золотым бутербродом в руке. А рядом золотая Дама с кубком – часы бьют, и она бьет кубком по столику – шесть, семь, восемь… Сирень завидует, вглядываясь через стекло, дядя Паша садится к роялю и играет Лунную сонату. Кто ты, дядя Паша?..
Вот она, кровать на стеклянных ногах! Полупрозрачные в сумерках, невидимые и могущественные, высоко к потолку возносят они путаницу кружев, вавилоны подушек, лунный, сиреневый аромат божественной музыки. Белая благородная голова дяди Паши откинута, улыбка Джоконды на его устах, улыбка Джоконды на золотом лице Маргариты, бесшумно вставшей в дверях, колышутся кружева занавесок, колышется сирень, колышутся георгиновые волны на склоне до горизонта, до вечернего озера, до лунного столба.
Играй, играй, дядя Паша! Халиф на час, заколдованный принц, звездный юноша, кто дал тебе эту власть над нами, завороженными, кто подарил тебе эти белые крылья за спиной, кто вознес твою серебряную голову до вечерних небес, увенчал розами, осенил горним светом, овеял лунным ветром?..
О Млечный Путь, пресветлый брат
Молочных речек Ханаана,
Уплыть ли нам сквозь звездопад
К туманностям, куда слиянно
Тела возлюбленных летят!
…Ну все. Пошли давай. Неудобно сказать дяде Паше простецкое слово «спасибо». Надо бы витиеватее: «Благодарю вас». – «Не стоит благодарности».
«А ты заметила, что у них в доме только одна кровать?» – «А где же спит Маргарита? На чердаке?» – «Может быть. Но вообще-то там дачники». – «Ну, значит, она в сенях, на лавочке». – «А может, они спят на этой стеклянной кровати, валетом?» – «Дура ты. Они же чужие». – «Сама ты дура. А если они любовники?» – «Дак ведь любовники бывают только во Франции». Действительно. Это я не сообразила.
…Жизнь все торопливее меняла стекла в волшебном фонаре. Мы с помощью мамы проникали в зеркальные закоулки взрослого ателье, где лысый брючный закройщик снимал постыдные мерки, приговаривая: «побеспокою», мы завидовали девочкам в капроновых чулках, с проколотыми ушами, мы пририсовывали в учебниках: Пушкину – очки, Маяковскому – усы, а Чехову – в остальном вполне одаренному природой – большую белую грудь. И нас сразу узнал, и радостно кинулся к нам заждавшийся дефективный натурщик из курса анатомии, щедро протягивая свои пронумерованные внутренности, но бедняга уже никого не волновал. И, оглянувшись однажды, недоумевающими пальцами мы ощупали дымчатое стекло, за которым, прежде чем уйти на дно, в последний раз махнул платком наш сад. Но мы еще не осознали утраты.
Осень вошла к дяде Паше и ударила его по лицу. Осень, что тебе надо? Постой, ты что же, всерьез?.. Облетели листья, потемнели дни, сгорбилась Маргарита. Легли в землю белые куры, индюки улетели в теплые страны, вышел из сундука желтый пес и, обняв дядю Пашу, слушал вечерами вой северного ветра. Девочки, кто-нибудь, отнесите дяде Паше индийского чаю! Как мы выросли. Как ты все-таки сдал, дядя Паша! Руки твои набрякли, колени согнулись. Зачем ты дышишь с таким свистом? Я знаю, я догадываюсь: днем – смутно, ночью – отчетливо слышишь ты лязг железных заслонок. Перетирается цепь.
Что ты так суетишься? Ты хочешь показать мне свои сокровища? Ну так и быть, у меня есть еще пять минут. Как давно я здесь не была. Какая же я старая! Что же, вот это и было тем, пленявшим? Вся эта ветошь и рухлядь, обшарпанные крашеные комодики, топорные клеенчатые картинки, колченогие жардиньерки, вытертый плюш, штопаный тюль, рыночные корявые поделки, дешевые стекляшки? И это пело и переливалось, горело и звало? Как глупо ты шутишь, жизнь! Пыль, прах, тлен. Вынырнув с волшебного дна детства, из теплых сияющих глубин, на холодном ветру разожмем озябший кулак – что, кроме горсти сырого песка, унесли мы с собой? Но, словно четверть века назад, дрожащими руками дядя Паша заводит золотые часы. Над циферблатом, в стеклянной комнатке, съежились маленькие жители – Дама и Кавалер, хозяева Времени. Дама бьет по столу кубком, и тоненький звон пытается проклюнуть скорлупу десятилетий. Восемь, девять, десять. Нет. Прости, дядя Паша. Мне пора.
…Дядя Паша замерз на крыльце. Он не смог дотянуться до железного дверного кольца и упал лицом в снег. Белые морозные маргаритки выросли между его одеревеневших пальцев. Желтый пес тихо прикрыл ему глаза и ушел сквозь снежную крупу по звездной лестнице в черную высь, унося с собой дрожащий живой огонечек.
Новая хозяйка – пожилая Маргаритина дочь – ссыпала прах дяди Паши в жестяную банку и поставила на полку в пустом курятнике – хоронить было хлопотно.
Согнутая годами пополам, низко, до земли опустив лицо, бродит Маргарита по простуженному сквозному саду, словно разыскивая потерянные следы на замолкших дорожках.
– Жестокая! Похорони его!
Но дочь равнодушно курит на крыльце. Ночи холодны. Пораньше зажжем огни. И золотая Дама Времени, выпив до дна кубок жизни, простучит по столу для дяди Паши последнюю полночь.
Милая Шура
В первый раз Александра Эрнестовна прошла мимо меня ранним утром, вся залитая розовым московским солнцем. Чулки спущены, ноги – подворотней, черный костюмчик засален и протерт. Зато шляпа!.. Четыре времени года – бульденежи, ландыши, черешня, барбарис – свились на светлом соломенном блюде, пришпиленном к остаткам волос вот такущей булавкой! Черешни немного оторвались и деревянно постукивают. Ей девяносто лет, подумала я. Но на шесть лет ошиблась. Солнечный воздух сбегает по лучу с крыши прохладного старинного дома и снова бежит вверх, вверх, туда, куда редко смотрим – где повис чугунный балкон на нежилой высоте, где крутая крыша, какая-то нежная решеточка, воздвигнутая прямо в утреннем небе, тающая башенка, шпиль, голуби, ангелы, – нет, я плохо вижу. Блаженно улыбаясь, с затуманенными от счастья глазами движется Александра Эрнестовна по солнечной стороне, широким циркулем переставляя свои дореволюционные ноги. Сливки, булочка и морковка в сетке оттягивают руку, трутся о черный, тяжелый подол. Ветер пешком пришел с юга, веет морем и розами, обещает дорогу по легким лестницам в райские голубые страны. Александра Эрнестовна улыбается утру, улыбается мне. Черное одеяние, светлая шляпа, побрякивающая мертвыми фруктами, скрываются за углом.
Потом она попадалась мне на раскаленном бульваре – размякшая, умиляющаяся потному, одинокому, застрявшему в пропеченном городе ребенку – своих-то детей у нее никогда не было. Страшное бельишко свисает из-под черной замурзанной юбки. Чужой ребенок доверчиво вывалил песочные сокровища на колени Александре Эрнестовне. Не пачкай тете одежду. Ничего… Пусть.
Я встречала ее и в спертом воздухе кинотеатра (снимите шляпу, бабуля! ничего же не видно!). Невпопад экранным страстям Александра Эрнестовна шумно дышала, трещала мятым шоколадным серебром, склеивая вязкой сладкой глиной хрупкие аптечные челюсти.
Наконец она закрутилась в потоке огнедышащих машин у Никитских ворот, заметалась, теряя направление, вцепилась в мою руку и выплыла на спасительный берег, на всю жизнь потеряв уважение дипломатического негра, залегшего за зеленым стеклом низкого блестящего автомобиля, и его хорошеньких кудрявых детишек. Негр взревел, пахнул синим дымком и умчался в сторону консерватории, а Александра Эрнестовна, дрожащая, перепуганная, выпученная, повисла на мне и потащила меня в свое коммунальное убежище – безделушки, овальные рамки, сухие цветы, – оставляя за собой шлейф валидола.
Две крошечные комнатки, лепной высокий потолок; на отставших обоях улыбается, задумывается, капризничает упоительная красавица – милая Шура, Александра Эрнестовна. Да, да, это я! И в шляпе, и без шляпы, и с распущенными волосами. Ах, какая… А это ее второй муж, ну а это третий – не очень удачный выбор. Ну что уж теперь говорить… Вот, может быть, если бы она тогда решилась убежать к Ивану Николаевичу… Кто такой Иван Николаевич? Его здесь нет, он стиснут в альбоме, распялен в четырех картонных прорезях, прихлопнут дамой в турнюре, задавлен какими-то недолговечными белыми собачками, подохшими еще до японской войны.
Садитесь, садитесь, чем вас угостить?.. Приходите, конечно, ради бога, приходите! Александра Эрнестовна одна на свете, а так хочется поболтать!
…Осень. Дожди. Александра Эрнестовна, вы меня узнаете? Это же я! Помните… ну, неважно, я к вам в гости. Гости – ах, какое счастье! Сюда, сюда, сейчас я уберу… Так и живу одна. Всех пережила. Три мужа, знаете? И Иван Николаевич, он звал, но… Может быть, надо было решиться? Какая долгая жизнь. Вот это – я. Это – тоже я. А это – мой второй муж. У меня было три мужа, знаете? Правда, третий не очень…
А первый был адвокат. Знаменитый. Очень хорошо жили. Весной – в Финляндию. Летом – в Крым. Белые кексы, черный кофе. Шляпы с кружевами. Устрицы – очень дорого… Вечером в театр. Сколько поклонников! Он погиб в девятнадцатом году – зарезали в подворотне.
О, конечно, у нее всю жизнь были рома-а-аны, как же иначе? Женское сердце – оно такое! Да вот три года назад – у Александры Эрнестовны скрипач снимал закуток. Двадцать шесть лет, лауреат, глаза!.. Конечно, чувства он таил в душе, но взгляд – он же все выдает! Вечером Александра Эрнестовна, бывало, спросит его: «Чаю?..», а он вот так только посмотрит и ни-че-го не говорит! Ну, вы понимаете?.. Ков-ва-арный! Так и молчал, пока жил у Александры Эрнестовны. Но видно было, что весь горит и в душе прямо-таки клокочет. По вечерам вдвоем в двух тесных комнатках… Знаете, что-то такое в воздухе было – обоим ясно… Он не выдерживал и уходил. На улицу. Бродил где-то допоздна. Александра Эрнестовна стойко держалась и надежд ему не подавала. Потом уж он – с горя – женился на какой-то – так, ничего особенного. Переехал. И раз после женитьбы встретил на улице Александру Эрнестовну и кинул такой взгляд – испепелил! Но опять ничего не сказал. Все похоронил в душе.
Да, сердце Александры Эрнестовны никогда не пустовало. Три мужа, между прочим. Со вторым до войны жили в огромной квартире. Известный врач. Знаменитые гости. Цветы. Всегда веселье. И умер весело: когда уже ясно было, что конец, Александра Эрнестовна решила позвать цыган. Все-таки, знаете, когда смотришь на красивое, шумное, веселое, – и умирать легче, правда? Настоящих цыган раздобыть не удалось. Но Александра Эрнестовна – выдумщица – не растерялась, наняла ребят каких-то чумазых, девиц, вырядила их в шумящее, блестящее, развевающееся, распахнула двери в спальню умирающего – и забренчали, завопили, загундосили, пошли кругами, и колесом, и вприсядку: розовое, золотое, золотое, розовое! Муж не ожидал, он уже обратил взгляд туда, а тут вдруг врываются, шалями крутят, визжат; он приподнялся, руками замахал, захрипел: уйдите! – а они веселей, веселей, да с притопом! Так и умер, царствие ему небесное. А третий муж был не очень…
Но Иван Николаевич… Ах, Иван Николаевич! Всего-то и было: Крым, тринадцатый год, полосатое солнце сквозь жалюзи распиливает на брусочки белый выскобленный пол… Шестьдесят лет прошло, а вот ведь… Иван Николаевич просто обезумел: сейчас же бросай мужа и приезжай к нему в Крым. Навсегда. Пообещала. Потом, в Москве, призадумалась: а на что жить? И где? А он забросал письмами: «Милая Шура, приезжай, приезжай!» У мужа тут свои дела, дома сидит редко, а там, в Крыму, на ласковом песочке, под голубыми небесами, Иван Николаевич бегает как тигр: «Милая Шура, навсегда!» А у самого, бедного, денег на билет в Москву не хватает! Письма, письма, каждый день письма, целый год – Александра Эрнестовна покажет. Ах, как любил! Ехать или не ехать? На четыре времени года раскладывается человеческая жизнь. Весна!!! Лето. Осень… Зима? Но и зима позади для Александры Эрнестовны – где же она теперь? Куда обращены ее мокнущие бесцветные глаза? Запрокинув голову, оттянув красное веко, Александра Эрнестовна закапывает в глаз желтые капли. Розовым воздушным шариком просвечивает голова через тонкую паутину. Этот ли мышиный хвостик шестьдесят лет назад черным павлиньим хвостом окутывал плечи? В этих ли глазах утонул – раз и навсегда – настойчивый, но небогатый Иван Николаевич? Александра Эрнестовна кряхтит и нашаривает узловатыми ступнями тапки.
– Сейчас будем пить чай. Без чая никуда не отпущу. Ни-ни-ни. Даже и не думайте.