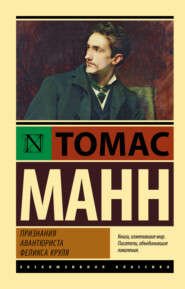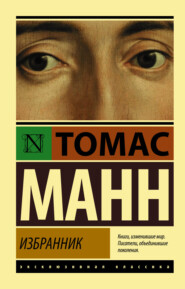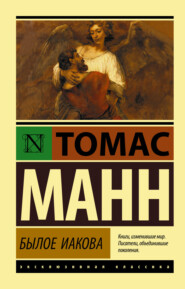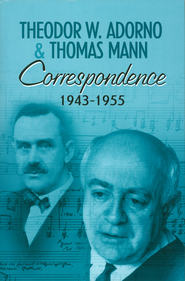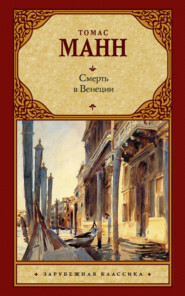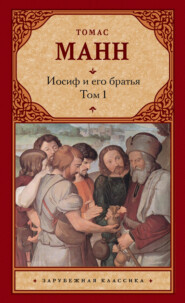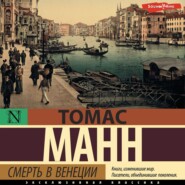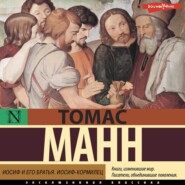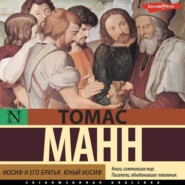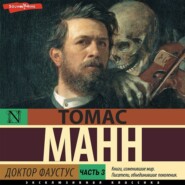По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Иосиф и его братья. Том 2
Автор
Жанр
Год написания книги
1943
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Весь мир знает, что именно сказала Мут-эм-энет, названая супруга Потифара, когда она «обратила взоры» на Иосифа, молодого управляющего своего мужа, и мы не хотим, да и не смеем отрицать, что однажды, в крайнем смятении, в пылу отчаяния, она в конце концов и в самом деле это сказала, действительно прибегнув к той самой ужасающе прямой и откровенной формуле, которую вкладывает ей в уста предание, и прибегнув так непосредственно, как будто дело шло о весьма обычном в ее устах, ничего не стоившем ей, распутно-недвусмысленном предложении, а не о позднем, глубоко выстраданном крике души и тела. По совести говоря, нас пугает скупая сжатость отчета, не считающегося, как наш источник, с докучливой мелочностью жизни, и редко случалось нам так живо, как в этом месте, ощущать обиду, наносимую истине недомолвкой и лаконизмом. Да не подумают, что нас не трогает угроза упрека, который, либо вслух, либо из вежливости, молча, будет предъявлен всему нашему повествованию, всему нашему спору с этой историей; мы знаем, нам скажут, что убедительнее, чем в первоисточнике, ее нельзя изложить и что все наше затянувшееся предприятие – напрасный труд. Но когда, позволительно спросить, комментарий вызывался соревноваться со своим текстом? И потом, разве ответить на вопрос «как?» менее достойное, менее важное в жизни дело, чем рассказать, что же произошло? И разве сама жизнь не есть прежде всего ответ на вопрос «как»? Нужно вспомнить о том, о чем уже говорилось, а именно – что еще до того, как эта история была впервые рассказана, она рассказала себя самое, – рассказала с такой подробностью, на какую способна одна только жизнь и которой никогда не достигнуть никакому рассказчику. Он может только приблизиться к ней, служа жизни с ее «как?» добросовестней, чем это соглашается делать лапидарный дух вопроса «что?». И если вообще оправдывает себя комментаторская добросовестность, то она, конечно же, оправдывает себя в данном случае, когда речь идет о жене Потифара и о том, что? она, согласно преданию, так прямо сказала.
Представление о жене Потифара, которое на этом основании складывается или, по крайней мере, напрашивается, а у весьма широких кругов в мире и в самом деле, как мы боимся, сложилось, настолько ошибочно, что привести его в соответствие с истиной значит снискать настоящую заслугу перед подлинником – подразумевая под таковым либо первоначальный текст, либо (что будет вернее) рассказывающую самое себя жизнь. Во всяком случае, ложная эта картина разнузданной похотливости и бесстыжего совращения плохо согласуется с тем, что? мы, вместе с Иосифом, услыхали в беседке о жене сына из уст почтенной все же старухи Туий, в чьих словах жизнь открылась нам уже немного подробнее. «Гордой» назвала ее мать Петепра, говоря, что не может обругать ее глупой гусыней; она назвала ее жрицей Луны, избранницей, вся стать которой исполнена терпкого благоухания миртовых листьев. Скажет ли такая женщина то, что вкладывает в ее уста предание? И все же она сказала это, сказала даже дословно и не один раз, когда ее гордость была окончательно сломлена страстью, – мы это уже подтвердили. Но предание забывает прибавить, сколько прошло времени, в течение которого она скорее откусила бы себе язык, чем сказала такие слова. Она забывает прибавить, что в своем одиночестве она и вправду, в самом прямом смысле слова, прикусила себе язык, прежде чем впервые, невнятно от боли, произнесла слово, навсегда заклеймившее ее соблазнительницей. Соблазнительницей? Женщина, охваченная такой страстью, как она, становится, разумеется, соблазнительницей: соблазнительность – это внешняя сторона, это наружность ее одержимости; сама природа заставляет ее глаза блестеть призывнее, чем от искусственных капель, вводить которые учит ее искусство туалета; это она придает ее губам тот привлекательно-алый цвет, которого не придаст им никакая помада, и складывает их в задушевно-многозначительную улыбку; это она побуждает ее одеваться и украшаться с невинно-хитрой расчетливостью, это она, и притом нарочно, делает прелестным каждое ее движение, заставляет все ее тело, насколько лишь позволяют его возможности, и подчас даже сверх того, лучиться обещаньем блаженства. Все это с самого начала и означает именно то, что госпожа Иосифа в конце концов и сказала ему. Но разве можно возлагать ответственность за это на ту, которая повинуется внутреннему порыву? Разве она устраивает все это из каких-то дьявольских побуждений? Да и что она знает обо всем этом, кроме нестерпимых мук, которые столь обольстительно прорываются наружу? Короче говоря, если она становится соблазнительна, то значит ли это, что она соблазнительница?
Характер и форма совращения определяются прежде всего происхождением и воспитанием одержимой. Против предположения, что Мут-эм-энет, которую близкие ей люди называли также Эни или Энти, вела себя в своей одержимости, как какая-нибудь потаскуха, говорит уже ее воспитание – самого благородного свойства. Дань, отданная честному Монт-кау, причитается и женщине, оказавшей на судьбу Иосифа совсем иное влияние, чем он, – поэтому самое необходимое об ее происхождении надо сообщить.
Никто не удивится, услыхав, что супруга Петепра, носителя опахала, не была дочерью хозяина пивной или каменотеса. Она происходила ни больше ни меньше как из древнего княжеского рода, хотя времена, когда ее предки сидели патриархальными царьками и владельцами обширных земельных угодий в одной из областей Среднего Египта, давно прошли. Тогда двойной венец Ра носили чужеземные правители из одного азиатского пастушеского племени, обосновавшиеся на севере страны, и князья Уазе – на юге – в течение многих веков подчинялись этим захватчикам. Но из среды князей Уазе выходили сильные люди, например, Секендженра и его сын Камос, которые восставали против царей-пастухов и упорно сопротивлялись им, подхлестывая воинственное свое честолюбие чужеземным происхождением своих врагов. Брат Камоса, смельчак Ахмос, взял приступом царскую крепость чужеземцев, город Аварис, а потом и совсем изгнал их, освободив страну постольку, поскольку он присвоил ее себе и своему дому и заменил владычество чужеземцев собственной властью. Не все князья страны сразу же соглашались признать героя Ахмоса своим освободителем и отождествить его власть со свободой, как он это привык делать. Многие из них – у них, вероятно, имелись на то свои причины – были на стороне чужеземцев в Аварисе и предпочли бы остаться их вассалами, вместо того чтобы быть освобожденными своим собратом. И даже после полного изгнания их многовековых властителей некоторые из этих не желавших свободы царьков бунтовали против своего освободителя и, как сказано было в документах, «собирали враждебных ему мятежников», так что сначала он должен был победить их в открытом бою, а потом уже водворилась свобода. Что эти повстанцы лишались принадлежавшей им земли, разумелось само собой. Но и вообще все отнятое у чужеземцев фиванские освободители обычно прибирали к рукам, и поэтому тогда начался тот процесс, который ко времени нашей истории еще не закончился, хотя и зашел уже далеко, – процесс отчуждения земельной собственности от древней знати и конфискации богатств фиванским престолом, все более превращавшимся в безраздельного владельца земли, каковую он либо сдавал в аренду, либо раздаривал храмам и фаворитам, подобно тому как фараон подарил Петепра известный нам плодородный остров. А старинные княжеские семьи превращались в чиновную и военную знать, которая составляла свиту фараона и занимала высшие должности в его войске и во всяких других его учреждениях.
Так же обстояло дело со знатным родом Мут-эм-энет. Госпожа Иосифа вела свою родословную прямо от того князя по имени Тети’ан, что в свое время «собирал мятежников» и должен был потерпеть поражение в битве, чтобы признать себя освобожденным. Но к внукам и правнукам Тети фараон не питал из-за этого зла. Их род остался большим и знатным, он поставлял государству военачальников, царских советников и смотрителей казначейств, а двору – стольников, Первых Возничих и смотрителей царской купальни, и некоторые представители этого рода сохранили даже княжеское звание, будучи наместниками таких больших городов, как Менфе или Тине. Так, например, отец Эни, Маи-Сахме, занимал высокую должность градоначальника Уазе – одного из двух; ибо их было два: один управлял городом живых, а другой городом мертвых на Западе, и Маи-Сахме был князем западного города. При таком чине он жил, говоря языком Иосифа, в почете и славе и мог без всяких ограничений умащаться елеем радости, – могли это делать и его родственники, в том числе Энти, его прекрасно сложенное дитя, хотя она была уже не владетельной княжной, а дочерью служащего нового времени. По решению, принятому относительно Мут ее градоначальными родителями, можно судить о переменах, происшедших в образе мыслей этого рода со времен отцов. Ибо, отдав уже в раннем возрасте, ради больших придворных выгод, свое любимое дитя в жены Петепра, приготовленному для титулоносной деятельности сыну Гуия и Туий, они ясно показали, что плодолюбие их оседло сросшихся с землей предков свойственно им в духе нового времени уже в гораздо меньшей степени.
Мут была ребенком в ту пору, когда ею распорядились примерно так же, как распорядились барахтающимся своим сыночком философствующие родители Потифара, посвятив его в царедворцы света. Притязания ее пола, которыми тогда пренебрегли, эти притязания, символизируемые черной от влаги землей и началом всякой вещественной жизни – лунным яйцом, тихо дремали в ней, находясь еще в зачаточной стадии, ничего не зная еще о себе и нимало не сопротивляясь такому враждебному жизни, хотя и вызванному любовью решению. Она была легкой, веселой, беззаботной, свободной. Она была подобна кувшинке, что плавает по зеркалу воды и улыбается поцелуям солнца, не подозревая, что корень длинного ее стебля уходит в темный ил глубокого дна. Никакого противоречия между ее глазами и ее ртом тогда еще не было; напротив, тут царила тогда по-детски невыразительная гармония, так как задорный взгляд девочки еще не знал омрачающей строгости, а особенная змеистость этого рта с его углубленными уголками была далеко не такой явной. Несоответствие между глазами и ртом возникло лишь постепенно, с годами, прожитыми ею в качестве жрицы Луны и почетной супруги личного слуги Солнца, и возникло, несомненно, в знак того, что рот – более близкое, более родственное низшим силам орудие, чем глаз.
Что касается ее тела, то любой знал его размеры и все его красоты, ибо «сотканный воздух», тончайшая шелковистая ткань, которую она носила, целиком выставлял его, по обычаю этой страны, на всеобщее обозрение. Можно сказать, что главным своим выражением оно больше соответствовало рту, чем глазам; принадлежность к почетному сословию не помешала его расцвету и не сковала его роста: с маленькими и крепкими грудями, с тонкой спиной и шеей, нежными плечами и совершенными по своей вылепке руками, с благородно-стройными ногами, верхние линии которых самым женственным образом переходили в великолепные бедра и зад, оно было, по общему признанию, самым прекрасным женским телом: более достойного похвал Уазе не знала, и при виде его у здешних людей возникали туманные, старинно-отрадные образы, образы начала и праначала, образы, связанные с первозданным лунным яйцом, например, образ прекрасной девы, которая в сущности, – в илисто-влажной своей сущности, – была не кем иным, как гусыней любви в облике девы: это к ее лону, колотя раскинутыми крылами, припадал дивный лебедь, ласково-сильный, белоснежно-пернатый бог, и влюбленно вершил свое дело с польщенной и пораженной красавицей, чтобы та родила яйцо…
Действительно, при взгляде на просвечивающее тело Мут-эм-энет в душах жителей Уазе выплывали из мрака именно такие древние образы, хотя эти люди знали о почетном положении лунной схимницы, в котором она жила и о котором говорили ее строгие глаза. Они знали, что эти глаза свидетельствовали о ее существе достовернее, чем показывавший, несомненно, нечто иное рот, который мог бы, вероятно, снисходительно улыбнуться по поводу царственной деловитости лебедя; им было известно, что лучшие мгновенья полноты жизни это тело испытывает отнюдь не во время таких визитов, а единственно лишь тогда, когда оно по торжественным дням, потрясая трещоткой, изгибается перед Амуном-Ра в культовой пляске. Короче говоря, они не злословили о ней; не было ни сплетен, ни подмигиваний, которые относились бы к этой женщине и, веря ее рту, уличали бы ее глаза во лжи. Они перемывали кости другим дамам, хотя и замужним в более полной мере, чем внучка Тети’ана, но, если верить молве, сплошь да рядом нарушавшим правила нравственности, в том числе участницам ордена и женам из гарема бога, например, Рененутет, супруге смотрителя говяд, – о ней знали нечто такое, чего смотритель говяд Амуна не знал или не хотел знать, о ней знали многое и с наслаждением провожали ее носилки и ее повозку, как и другие носилки и повозки, ехидными замечаниями. Зато о первой и, так сказать, праведной жене Петепра в Фивах не знали решительно ничего и были убеждены, что о ней и нечего знать. И в доме Петепра, и вне его ее считали святой, посвященной и сохраненной богу, а это при такой всеобщей, при такой укоренившейся страсти к сплетням и пересудам кое-что значило.
Какого бы мнения ни были на этот счет наши слушатели, мы не считаем своей задачей исследовать обычаи Мицраима, и в частности обычаи ноамунских женщин и дам, – обычаи, о которых нам давно уже довелось выслушать торжественно-резкий отзыв старика Иакова. Его знание мира не было лишено патетически-мифотворческого налета, на который и следует сделать поправку, чтобы не впасть в преувеличение. Но сказать, что его выспренние слова не имели решительно никакого отношения к действительности, конечно, нельзя. От людей, не знающих слова «грех» и расхаживающих в одеждах из сотканного воздуха, людей, чей культ животных и смерти влечет за собой к тому же чрезмерное пристрастие к плотскому началу, можно заранее, еще до опыта, ждать той вольности нравов, которую в таких поэтически громких словах расписывал Иаков. А опыт соответствовал этому ожиданию – мы устанавливаем это скорее с логическим удовлетворением, чем со злорадством. Было бы мелким соглядатайством доказывать это на отдельных примерах из жизни фиванских женщин. В данном случае приходится не столько оспаривать, сколько прощать. Нам достаточно перевести взгляд со смотрительши говяд Рененутет на одного довольно смазливого младшего начальника царской стражи или с этой же высокопоставленной дамы на одного молодого зеркальноголового жреца из храма Хонсу, чтобы намекнуть на обстоятельства, вполне оправдывавшие образные определения Иакова. Не наше дело становиться в позу блюстителей нравственности и осуждать Уазе – такой большой город, где сто с лишним тысяч жителей. Кого нельзя удержать и спасти, тех мы бросим на произвол судьбы. Но за одну мы ручаемся головой и, отстаивая безупречность ее поведения до того момента, когда она, несомненно волей богов, превратилась в неистовую менаду, готовы поставить на карту всю нашу повествовательскую репутацию: это дочь князя Маи-Сахме, жена Потифара – Мут-эм-энет. Что она была от природы распутницей, у которой приписываемое ей предложение всегда, так сказать, вертелось на языке и легко и дерзко слетело с него, – это совершенно неверное представление, и мы, истины ради, хотим во что бы то ни стало рассеять его. Когда она, прокушенным языком, в конце концов пролепетала эти слова, она уже не помнила себя; она уже совершенно не владела собой, изойдя в своей муке, жертва бичующей мстительности низших сил, перед которыми она была в долгу из-за своего рта, тогда как ее глаза полагали, что могут отвечать им холодным презреньем.
Отверзание глаз
Известно, что по доброжелательному родительскому согласию невестой и супругой сына Гуия и Туий Мут стала уже в детском возрасте, и для внутренней последовательности об этом необходимо еще раз напомнить; известно, что к формальному характеру своего брака она привыкла давно, и момент, когда ее материальное начало могло ощутить некую недостаточность такого союза, точному определению не поддавался. Нелишне заметить, что номинально ее девственность была нарушена уже раньше – и на том все кончилось. Не став еще по-настоящему девушкой, а будучи, скорее, подростком, она уже оказалась избалованной начальницей великосветского гарема, владычицей всякого изобилия, ее на руках носили в диком своем раболепии голые мавританки и приторно-нежные евнухи, она была первой среди пятнадцати других, утопавших в роскоши местных красавиц самого разного происхождения, которые и сами-то были не чем иным, как пустой роскошью, почетной и показной принадлежностью благословенного дома, ненужной службой любви в хозяйстве царедворца. Повелительница этих мечтательных и болтливых созданий, чутких к каждому ее мановению, грустивших, если она была печальна, облегченно тараторивших, если ей делалось весело, и глупейшим образом ссорившихся друг с другом из-за маленьких, ничего не значащих милостей Петепра, когда тот, сидя среди них за шашечницей и угощая их конфетами и амбровой водкой, играл почетную партию с Мут-эм-энет, звезда гарема, она была вместе с тем главной женщиной в доме, супругой Потифара в более узком и более высоком смысле, чем эти побочные жены, просто госпожой, которая при других обстоятельствах стала бы матерью его детей; которая, если хотела, занимала собственный покой в главном здании (к востоку от северной колонной палаты, где Иосиф обычно исполнял должность чтеца, разделявшей, стало быть, комнаты супругов); которая, наконец, во время приемов с плясками и музыкой, устраиваемых другом фараона для фиванской знати, изображала хозяйку дома и вместе с ним посещала такие же праздники в других высокопоставленных домах, и прежде всего – при дворе.
Жизнь у нее была напряженная, до отказа заполненная светскими обязанностями, – обязанностями, если угодно, праздными, но не менее обременительными, чем настоящие. Из опыта всех цивилизаций известно, как много сил отнимают у знатных женщин требования света, то есть одной лишь культуры и ее разросшихся частностей; известно, что соблюдение внешних форм губит истинную жизнь чувств и души и холодная пустота сердца незаметно для сознания становится не такой уж даже и печальной привычкой. Во все времена и во всех поясах земли наблюдался этот феномен бесстрастной женской светскости, и не будет преувеличением сказать, что в подобных случаях не очень существенно, является ли супруг, бок о бок с которым ведется эта дамская жизнь, военачальником в подлинном смысле слова или только по званию. Ритуал туалетного стола, например, всегда одинаково притязателен, независимо от того, должен ли он подогревать желания супруга или является самоцелью, так сказать, общественным долгом. При его исполнении – при кропотливейшем уходе за ее финифтяно отсвечивавшими ногтями рук и ног; во время душистых омовений, удаления волос, умащений и растираний, которым она подвергала прекрасное свое тело; при сложнейших процедурах подмалевыванья и каплевпусканья, производимых над ее и без того красивыми, с металлически-синеватой радужной оболочкой, опытными в многообразной игре, а благодаря высшей школе помады, кисточки и всяческих снадобий и вовсе похожими на драгоценные украшенья глазами; при укладывании ее волос, – и собственных, коротких, блестяще-черных, густых кудрей, обычно пересыпанных лазурной или золотой пудрой, и разноцветных, с косами, косичками, галунами и бахромчатыми гирляндами жемчуга париков; при бережной подгонке к тончайшим, как лепестки, одеждам вышитых, лирообразно отглаженных набедренных лент и мелкоскладчатых наплечных накидок; а также при выборе коленопреклоненно предложенных украшений для головы, рук и груди, – не до смеха было при этом нагим мавританкам, цирюльникам-евнухам и служанкам-портнихам, да и сама Мут в такие часы никогда не смеялась, ибо малейшая небрежность в этих делах вызвала бы пересуды в высшем обществе и скандал при дворе.
Были еще визиты подруг, чей образ жизни не отличался от ее собственного и к которым она отправлялась в своем паланкине, если не принимала их у себя. Была еще служба во дворце Меримат, при жене бога Тейе, к чьей свите принадлежала Мут, – она носила опахало, как и ее супруг Петепра, и была обязана участвовать в водных ночных праздниках, устраиваемых зачинательницей Амуна на искусственном озере, возникшем по манию фараона, праздниках, пышные красоты которых бывали погружены в искристые краски недавно изобретенных цветных факелов. Были также – это нам подсказывает имя родительницы бога – упомянутые уже нами благочестиво-почетные обязанности, где светский лоск приобретал религиозно-жреческий оттенок и которые, как никакие другие, придавали надменно-строгое выражение ее глазам, то есть обязанности, вытекавшие из ее принадлежности к ордену Хатхор и ее положения наложницы Амуна, носившей коровьи рога с солнечным диском посредине, короче говоря, из ее положения временной богини. Странно сказать, в какой мере эта роль Эни, эта сторона ее жизни усиливала светскую холодность знатной дамы и закрывала ее сердце для более мягких мечтаний. Такое действие священной должности было связано с номинальностью ее брака, – которой эта должность вообще-то не требовала. Гарем Амуна отнюдь не был гаремом нетронутых. Плотское воздержание было чуждо божественной природе Великой Матери, чьими праздничными воплощениями были Мут и ее подруги. Царица, делившая ложе с Богом и родившая наследное Солнце, была покровительницей этого ордена. Наставницей его, как уже упоминалось, была замужняя женщина, супруга влиятельного первопророка Амуна, и состоял он по преимуществу из замужних женщин, таких, как Рененутет, смотрительша говяд (если не говорить о прочих ее делах). На самом деле храмовая должность Мут была связана с ее браком лишь постольку, поскольку этой должностью она была обязана положению своего мужа. Но в душе, по собственному почину, она делала то же, что делал в беседе со своей дряхлой сестрой-супругой осипший Гуий: она соотносила свою принадлежность к жрицам с особым характером своего брака, она, не облекая этого прямо в слова, находила пути и способы показать, что, по ее мнению, побочной жене бога вполне подобает и, собственно, даже надлежит иметь такого земного супруга, как Петепра; она сумела сообщить и внушить это представление обществу, которое, в свою очередь, помогало ей его сохранять, видя ее положение среди прочих хатхор в свете ее целомудренной верности богу, благодаря чему, еще больше чем благодаря красивому голосу и танцевальному мастерству Мут, это положение было молча признано привилегированным, почти равным положению высокой наставницы. Это было делом ее воли, заявившей о себе миру и доставившей Мут-эм-энет те сверхутешительные возмещения, которых требовали ее немые глубины.
Нимфа? Распутная бабенка? Смешно, да и только. Мут-эм-энет была элегантной святой, светски-холодной схимницей, чьи силы отчасти поглощались требовательной цивилизацией, отчасти же были, так сказать, храмовой собственностью и тратились на религиозную гордость. Так и жила она первой и праведной женой Потифара, благоухоженная, носимая на руках, укрепленная в своем довольстве собою всеобщим коленопреклоненным уважением, даже и во сне не волнуемая желаниями из той сферы, что являла себя в змеистом ее ротике, желаниями, выразимся короче и резче, гусиного свойства. Ибо неверно считать сон свободной и дикой областью, где все, что запрещено днем, всегда может с лихвой взять свое. Того, что совершенно неведомо яви и начисто отрезано от нее, не знает и сон. Граница между этими двумя областями зыбка и проницаема; она неуверенно проходит через одно и то же пространство души, а что пространство это для совести и для гордости неделимо, доказало смущение, доказали стыд и тревога, охватившие Мут не только по пробуждении, но уже и во сне, когда ей ночью впервые приснился Иосиф.
Когда это случилось? У нее на родине не ведут такого уж точного счета годам жизни, и, во многом следуя привычкам мира нашей повести, мы тоже удовлетворимся приблизительными определениями. Эни была, несомненно, на много лет моложе своего супруга, который при покупке Иосифа предстал нам на исходе четвертого десятка и которому за это время прибавилось круглым счетом семь лет. Ей, следовательно, не было еще за сорок, как ему, и даже до сорока было еще далеко; но все-таки она была зрелой женщиной и, безусловно, на много лет старше Иосифа – на сколько именно, нам не хочется высчитывать, не хочется из нравственного уважения к высокой, почти стирающей женские возрастные различия косметической культуре, результатам которой, поскольку они воспринимаются чувствами, принадлежит более высокая правда, чем результатам всяких подсчетов и выкладок. С тех пор как Иосиф впервые увидел свою госпожу, когда она проплывала на золотых носилках, он изменился – с точки зрения женского внимания – к лучшему, чего нельзя было сказать и, уж во всяком случае, никак не сказал бы о ней тот, кто видел ее с тех пор непрерывно. Горе рабыням-умастительницам и скопцам-массажистам, если эти годы смогли нанести какой-то ущерб ее осанке! Да и в лице ее, которое при впалой переносице и своеобразных углублениях щек никогда не было в строгом смысле слова красивым, так же как и тогда, спорили согласие и прихотливость, печать моды и живое, не знающее никаких правил очарование; зато явно усилилось за эти годы тревожное противоречие между извилиной рта и глазами, и при склонности усматривать в тревожном красивое можно было даже найти, что она стала красивее.
С другой стороны, красота Иосифа вышла к этому сроку из той ее стадии юношеской пригожести, в которой мы воздавали ей должное в свое время. В двадцать четыре года он все еще был или, вернее, именно стал чудо как красив, но его красота переросла двойное очарование той ранней поры и, сохранив общую свою обаятельность, куда решительней обратила свою силу в одном направлении – в направлении женских чувств. При этом, став мужественнее, она даже облагородилась. Лицо его уже не было, как прежде, пленительной мордочкой мальчика-бедуина, оно, правда, сохраняло кое-что от нее, особенно когда Иосиф, хотя он отнюдь не был близорук, по-матерински, словно обволакиваясь туманом, прищуривал свои глаза, глаза Рахили, но стало полнее, строже, да и смуглее под верхнеегипетским солнцем и приобрело большую правильность, большее благообразие. Об изменениях, происшедших в его фигуре, а также – следствие не только возраста, но и обязанностей, с которыми он сжился, – в его движениях, в звучании его голоса, мы уже мимоходом упомянули. Но к этому, под воздействием культуры Египта, прибавился внешний лоск, который необходимо принять во внимание, чтобы верно представить себе тогдашний его вид. Его нужно представлять себе в белой полотняной одежде высокопоставленного египтянина: нижнее платье просвечивает сквозь верхнее, широкие и короткие рукава оставляют открытыми руки, украшенные в запястьях финифтяными браслетами; в тех случаях, когда нужно быть строго одетым – ибо в более удобных случаях он не прятал собственных своих гладких волос – голова его покрыта легким париком из лучшей овечьей шерсти, который, будучи чем-то средним между платком и накладкой, прилегает к верхней части головы очень тонкими, равномерной частоты прядями, похожими на рубчатый шелк, а у затылка, начиная от определенной косой линии, меняет свою фактуру и падает на плечи мелкими, симметричными завитками, как черепица, набегающими один на другой; на шее у него, кроме пестрого воротника, плоская цепочка, изготовленная из тростника и золота, на которой висит защитный скарабей; лицо его несколько изменено иератической картинностью, достигнутой теми искусственными приемами, которые он, приспособляясь к египетским нравам, ввел в утренний свой туалет, – симметричным подведением бровей и удлинением линии верхних ресниц к вискам. В таком виде ходил он, выставляя, вероятно, вперед длинный посох, по усадьбе в качестве верховных уст управляющего, в таком виде ездил на рынок, в таком виде, делая знаки слугам, стоял в столовой за креслом Петепра – таким и видела его госпожа, видела либо в обеденном зале, либо когда он появлялся в гареме и, бывало, самым смиренным образом обращался за каким-либо распоряжением к ней самой, – таким она его вообще впервые увидела; ибо прежде, ничтожным новокупленным рабом, и даже во времена, когда он сумел согреть сердце Потифара, она его вообще не видела, и даже когда он рос в доме, словно у родника, все еще нужны были заушательские указания Дуду, чтобы у нее наконец открылись глаза на него.
Но даже и это отверзание глаз, выполненное таким «копытцем», как язык Дуду, было еще далеко не полным: не более чем со строгим любопытством глядела она на раба, о предосудительном возвышении которого ей твердили. Опасность (как приходится выразиться тому, кому дороги ее гордость, ее покой) – опасность заключалась лишь в том, что глаза ее обратились тогда именно на Иосифа, что именно его глаза встречались тогда на какие-то доли секунды с ее глазами, – а это действительно немаловажное обстоятельство, и недаром у маленького Беса, благодаря его карличьей мудрости, сразу же возникла страшная догадка, что злобный Дуду кладет начало чему-то более крупному, чем его злоба, и что отверзание глаз может приобрести гибельную полноту. Врожденный страх, вчуже испытываемый Бесом перед силами, которые виделись ему в образе огнедышащего быка, сделал его скорым на такие догадки. Иосиф же, по непозволительному легкомыслию – мы не собираемся щадить его в данном случае – не хотел понимать визиря и вел себя так, как будто тот мелет вздор, хотя, в сущности, разделял мнение стрекочущего своего доброжелателя. Ведь и ему, Иосифу, тоже был не так важен смысл этих мгновений в столовой, как то, что они вообще случаются, и в душе он глупейшим образом гордился тем, что перестал быть пустым местом для госпожи и что она обращает внимание, пусть гневное внимание, на него лично… Ну а наша Эни?
Что ж, она тоже не оказалась умнее. Она тоже не хотела понимать карлика. Если она глядела на Иосифа гневно и строго, то это казалось ей достаточным оправданием того, что она вообще на него глядела – а это с самого начала величайшее заблуждение, простительное, покуда она не знала, кого она видит, если видит, но потом все более добровольное и преступное заблуждение. Несчастная не хотела замечать, что из «строгого любопытства», с которым она глядела на личного слугу своего супруга, строгость постепенно ушла, а оставшееся любопытство вскоре уже заслуживало другого, более счастливого и более злосчастного имени. Она воображала, что ее очень интересует существо жалоб Дуду, досадное возвышение Иосифа; она чувствовала, что имеет право и обязана проявлять такой интерес по своей религиозной или, что одно и то же, политической позиции, в силу своей слитности с Амуном, который должен был счесть оскорбительным для себя главенство в доме раба-хабира, видя в этом уступку азиатским склонностям Атума-Ра. Тяжесть подобного оскорбления помогала оправдывать удовольствие, доставляемое ей этим занятием, удовольствие, которое она называла заботой и беспокойством. Поразительна способность человека к самообману. Когда в короткие летние или более долгие зимние, свободные от светских обязанностей часы, Мут, чтобы собраться с мыслями, ложилась на диван у края четырехугольного, с разноцветными рыбками и плавающими лотосами бассейна, устроенного в полу открытой колонной палаты гарема, у задней стены которой сидела маленькая нубийка, с завитыми, сильно намасленными волосами, обязанная сопровождать мысли хозяйки тихой игрой на лютне, – она бывала убеждена, что собирается подумать, как вопреки упрямству супруга и уклончивой выспренности Бекнехонса не допустить, чтобы раб из страны Захи и племени иврим приобретал столь большой вес в ее доме; из-за важности этого дела она не удивлялась, когда заранее радовалась таким размышленьям, – хотя почти уже знала, что радость эта вызвана лишь тем, что ей предстоит думать об Иосифе. Если бы не было ее жаль, можно было бы рассердиться за такую слепоту. Не удивлялась Мут и тому, что стала с радостью ждать трапез, за которыми она должна была увидеть Иосифа. Она воображала, что радость ее относится к тем гневным взглядам, какими она намеревалась его наказать. Это плачевно, но она не замечала, что змеистый ротик ее растерянно улыбался, когда она думала о том, как испуганно и смиренно гаснет под веками взгляд Иосифа, встретившись со строгостью ее взгляда. Если брови ее одновременно хмурились от досады на такую домашнюю неприятность, она полагала, что этого уже достаточно. И если бы карличья мудрость испуганно предостерегла ее от огнедышащего быка и вздумала указать ей, что искусственный строй ее жизни уже зашатался и грозит рухнуть, ее лицо, вероятно, сразу бы залилось краской, но она, уличи ее в этом кто-нибудь, объяснила бы все своим недовольством такой нелепой болтовней и постаралась бы с лицемерно преувеличенной беззаботностью подчеркнуть, что не понимает таких опасений. Кого хотят обмануть этой неестественной подчеркнутостью? Того, кто предостерегает? Ах, она призвана только прикрыть путь авантюр, которым, чего бы это ни стоило, хочет идти душа. Морочить себя, покуда не станет поздно морочить себя, – вот в чем задача. Спохватиться, протрезветь, опомниться прежде, чем станет поздно, – вот «опасность», которую стремятся предотвратить в плачевном лукавстве. В плачевном ли? Да не выставит себя человеколюбец в смешном свете своим соболезнованием. Его легковерное предположение, что человеку, в сущности, важнее всего сохранить покой, мир, защитить от потрясений и тем более от краха свой уклад жизни, создаваемый подчас с великим искусством и большой тщательностью, – это предположение, мягко говоря, не доказано. Не перечислить примеров, свидетельствующих скорее о том, что человек прямо-таки стремится к своему блаженству и к своей гибели и не испытывает ни малейшей благодарности к тому, кто хочет его от этого уберечь. Вот как раз такой случай – пожалуйста!
Что касается Эни, то человеколюбец должен не без горечи отметить, что ей шутя удалось миновать тот момент, когда еще не было поздно и она еще не погибла. Блаженно-ужасное подозрение, что она погибла, внушил ей тот, ранее упомянутый нами сон об Иосифе – и тут уж ее охватил страх. Тут уж ей вспомнилось, что она существо разумное, и она повела себя соответственно этому – то есть она, так сказать, подражала разумному существу, механически поступая по образцу разумного существа, но в действительности уже потеряв разум, она предприняла шаги, успеха которых на самом деле уже не могла желать, – а это шаги нелепые и недостойные, и человеколюбец предпочел бы закутать голову, чтобы вовсе не знать о них, если бы не был обязан соваться со своим состраданием.
Облекать сны в слова и рассказывать их почти невозможно, потому что не так важна самая суть сна, – ее-то именно и можно выразить, – как его аромат и флюид, тот непередаваемый дух ужаса или счастья (или того и другого сразу), которым он пропитан и которым порой наполняет душу сновидца еще долгое время спустя. В нашей истории снам принадлежит решающая роль: великие и по-детски яркие сны снились ее герою, будут здесь сниться сны и другим лицам. Но как затрудняла их всех задача хотя бы приблизительно поведать пережитое другим, как не удовлетворяла их самих каждая такая попытка! Достаточно вспомнить сон Иосифа о солнце, луне и звездах и о том, сколь беспомощно и отрывочно изложил Иосиф увиденное. Поэтому нам простят, если нам не удастся, рассказав сон Мут-эм-энет, сделать вполне понятным то чувство, которое у нее возникло после него и осталось. Как бы то ни было, мы намекали на него уже слишком часто, чтобы сейчас снова откладывать его изложение.
Итак, ей приснилось, что она сидит за трапезой в палате голубых колонн, на помосте, на своей скамеечке, рядом со старым Гуием, принимая пищу в той предупредительной тишине, какая во время этой процедуры всегда стояла. Однако на сей раз тишина была особенно предупредительной и глубокой, ибо четверо сотрапезников не только безмолвствовали, но и старались управляться с едой совершенно бесшумно, и поэтому в тишине отчетливо слышалось нестройное дыхание занятых своим делом слуг, настолько отчетливо, что казалось, оно будет слышно и при менее предупредительной тишине, так как походило уже скорей на пыхтенье. Эти торопливо-тихие звуки вызывали тревогу, и то ли потому, что Мут к ним прислушивалась, то ли по какой-то другой причине, она недостаточно внимательно следила за действиями своих рук и нанесла себе рану. Разрезая остро отточенным бронзовым ножичком гранат, она по рассеянности промахнулась, и лезвие довольно глубоко вошло в мякоть руки, между большим и четырьмя остальными пальцами, что привело к обильному кровотечению. Кровь была такая же рубиново-красная, как гранатовый сок, и глядела она на нее со стыдом и печалью. Да, она очень стыдилась своей крови, хотя та была такого прекрасного рубинового цвета, – стыдилась и потому, наверно, что ее белое платье сразу же и самым неизбежным образом замаралось, но, независимо от выпачканного платья, ей было чрезвычайно стыдно, и она всячески старалась скрыть от присутствующих, что у нее идет кровь; это ей, как можно или как до?лжно было заключить, удалось: все тщательно делали вид, что не заметили оплошности Мут, и никто не оказывал ей помощи, что раненую, с другой стороны, и огорчало. Она не хотела показывать, что у нее идет кровь, не хотела, потому что ей было стыдно; но то, что все закрывали на это глаза, что никто палец о палец не ударил, чтобы ей помочь, что все, словно сговорившись, предоставили Мут самой себе – это возмущало ее поистине до глубины души. Ее служанка, нарядное, одетое в паутину создание, деловито склонилась над одностолпным столиком Мут, как будто там срочно нужно было привести что-то в порядок. Сосед ее, старый Гуий, качая головой, беззубо глодал кольчатый валик сладкого печенья, пропитанного вином и нанизанного на позолоченную бедренную косточку, которую он держал за один конец дряхлыми пальцами, и делал вид, что целиком поглощен этим занятием. Петепра протянул через плечо свою кружку сирийцу, своему чашнику и слуге, чтобы тот ее снова наполнил. А мать господина, старуха Туий, та даже ободряюще подмигнула растерянной Мут слепыми щелками своего большого, белого лица, и было неясно, с каким она это сделала смыслом и заметила ли она неловкость Эни. Что же касается Эни, то она, во сне, продолжала постыдно истекать пачкавшей платье кровью, молча досадуя на всеобщее равнодушие и печалясь, независимо от этого равнодушия, по поводу самой своей ярко-красной крови. Ибо эта упрямо сочившаяся кровь вызывала у нее неописуемое чувство раскаянья; ей было жаль ее, ах, как жаль, это была глубокая, несказанная скорбь души, скорбь не о себе и не о своей незадаче, а о милой крови, которая так утекала и утекала, и от горя она без слез коротко всхлипывала. Вдруг она спохватилась, что из-за этой беды она забыла о своей обязанности – бросать во имя Амуна осуждающий взгляд на несчастье дома, на раба-кенанитянина, который возвысился самым неподобающим образом; и она нахмурила брови и строго взглянула на юношу Озарсифа, стоявшего у Петепра за спиной. И тот, словно его позвал ее строгий взгляд, покинул место, указанное ему службой, и приблизился к ней. И он был близко от нее, и близость его была очень чувствительна. А приблизился он к ней для того, чтобы остановить кровь. Он взял раненую ее руку и приложил к своему рту, так что четыре пальца прижались к одной его щеке, большой палец к другой, а рана к его губам. И от восторга кровь у нее остановилась, перестала идти. А в палате, покуда происходило это исцеление, все было противно и страшно. Слуги, все, сколько их там находилось, забегали как безумные, на цыпочках, правда, но дружно пыхтя; Петепра закутал голову, и его, согбенного и закутанного, ощупывала растопыренными пальцами его родительница, сокрушенно качая над ним своим слепым, обращенным кверху лицом. А старик Гуий стоял и грозил Эни своей золотой косточкой, на которой уже не было печенья, и рот его над сероватой бородкой отворялся и затворялся, извергая беззвучную брань. Богам было ведомо, какие ужасные речи слетали с его хлопотливого языка и вылетали из его беззубого рта, но всего вероятней, что они совпадали по смыслу с тем, о чем пыхтели мечущиеся слуги. Ибо в их дружном и громком дыхании можно было различить шепот: «Огню, реке, собакам и крокодилу», – и звуки эти повторялись снова и снова. Этот хор шепчущих голосов еще ясно слышался Эни, когда она пробудилась от сна и сначала похолодела от ужаса, а потом запылала от блаженства такого исцеленья, зная, что жезл жизни ее ударил.
Супруги
После этого отверзания глаз Мут решила вести себя как существо разумное и сделать шаг, который, имея своей бесспорной и ясной целью убрать Иосифа из ее поля зрения, был бы сочувственно встречен престолом разума. Она изо всех сил стала ходатайствовать перед своим супругом об удаленье его слуги.
День после той ночи, когда ей приснился этот сон, она провела в одиночестве, вне круга своих сестер и не принимая гостей. Она сидела в своем дворе у бассейна и глядела поверх сновавших в воде рыбок «в одну точку», как принято говорить, когда взгляд оцепенело теряется в пустоте и, ни на что не направленный, расплывается в себе самом. Но иногда вдруг, как бы выходя из тупого оцепенения, глаза ее испуганно расширялись, очень широко, словно бы в ужасе, распахивались, хотя и не отрывались от пустоты, а рот ее при этом сразу же отворялся и учащенно заглатывал воздух. Затем глаза ее снова становились спокойными, ужас в них исчезал, но зато рот ее, углубляя свои уголки, оживлялся безотчетной улыбкой и незаметно для Мут продолжал улыбаться под ее задумчивыми глазами, покуда, через минуту-другую, она не спохватывалась и в испуге не прижимала руку к непокорным губам, большим пальцем к одной щеке, а четырьмя другими – к другой. «О боги!» – шептала она при этом. А потом все повторялось опять – оцепенение, учащенное дыхание, самозабвенная улыбка, испуг, когда она замечала ее, – повторялось до тех пор, пока Эни наконец не решила покончить со всем одним махом.
На закате, удостоверившись, что Петепра дома, она велела служанкам нарядить ее для посещения господина.
Царедворец находился в западной палате своего дома, откуда открывался вид на плодовый сад и на боковую стену стоявшей на одном из его холмов беседки. Вечерняя заря, свет которой вливался сквозь легкие и пестрые наружные колонны, стала уже наполнять это помещение, сгущая бледные краски картин, небрежно набросанных каким-то художником на штукатурке пола, стен и потолка; картины эти изображали порхающих над болотом птиц, прыгающих телят, пруды с утками, стадо коров, которое пастухи гонят вброд через реку и за которым следит притаившийся в воде крокодил. Фрески задней стены, в простенках между дверями, соединявшими эту палату со столовой, показывали жизнь самого хозяина дома, воспроизводя, например, его возвращение домой и старание слуг все приготовить к прибытию хозяина по его вкусу. Прозрачные изразцы окаймляли двери, на которых, сине-красно-зелеными иероглифами по верблюжье-коричневатому грунту, были написаны изречения славных старинных авторов и слова из гимнов богам. Между дверями тянулось подобие эмпоры или террасы со ступенькой-скамеечкой и невысокой, прилегающей к стене спинкой; глиняное это сооружение было покрыто белой штукатуркой и размалевано по передним своим плоскостям цветными надписями. Оно служило и подставкой для всяких вещей, произведений искусства, подарков, которыми были битком набиты палаты Петепра, и просто скамьей для сидения; сейчас наш сановник как раз сидел посредине этого возвышения на подушке, сложив ноги на ступеньке-скамеечке, и по бокам его, справа и слева, громоздились такие чудесные вещи, как животные, боги и царские сфинксы из золота, малахита и слоновой кости, а за спиной его – совы, соколы, утки, зубчатые линии воды и другие символы надписей. Устраиваясь поудобнее, он снял с себя всю одежду, кроме белого, до колен набедренника плотного полотна с широким накрахмаленным кушаком. (Его верхнее платье, его палка и прикрепленные к ней сандалии лежали на львиноногом кресле у одной из дверей.) Однако он не позволил себе совсем распуститься, он сидел подчеркнуто стройно, положив на колени маленькие, почти крошечные в сравнении с массивным телом кисти рук и держа очень прямо свою тоже очень изящную сравнительно с туловищем голову с благородно изогнутым носом и с тонко очерченным ртом, и глядел через зал своими кроткими, карими, в длинных ресницах глазами на алеющий вечер – жирное, но не лишенное достоинства и аристократизма сидячее изваяние, у которого огромные голени высились, как колонны, руки не отличались от рук толстой женщины, а груди подушками выступали вперед. При всей тучности у него не было живота. Он был даже довольно узок в тазу. Зато бросался в глаза его пупок, который был так велик и так вытянут лежевесно, что походил немного на рот.
Уже много времени провел Петепра в этой исполненной достоинства неподвижности, в этом облагороженном осанкой безделье. В темноте ожидавшей его могилы, стоя где-нибудь в ложных дверях, его натуральной величины изваяние вечно будет вот так же спокойно и неподвижно, как он сейчас, глядеть своими стеклянными карими глазами на его вечную собственность, на предметы, которые ему дадут, и на те, которые, волшебства ради, изобразят на стене. Его статуя будет тождественна с ним – и он предвосхищал это тождество, он сидел и увековечивал себя. За его спиной и у ступеньки-скамеечки красно-сине-зеленые иероглифы говорили свое; по бокам от него громоздились дары фараона; совершенны, согласно египетской идее формы, были расписные колонны палаты, сквозь которые он глядел на вечернее небо. Окружающее имущество благоприятствует неподвижности. Ему предоставляют покоиться и сиять красотой и, сложив руки, предаются покою в его окружении. К тому же подвижность подобает скорее тем, кто плодотворно открыт миру, кто сеет и расточает и, умирая, растворяется в собственном семени, – а не тем, кто, как Петепра, замкнут в своем бытии. Он сидел, целиком сосредоточившись в себе, лишенный выхода в мир, неподвластный смерти плодозачатия, вечный, он сидел, как сидит в своем капище какой-нибудь бог.
Черная тень бесшумно вплыла между колоннами сбоку, только темный окоемок на багрянце зари, и согбенно скользнув, замерла ничком, ладонями к полу. Он медленно перевел туда взгляд: это была одна из голых мавританочек Мут, настоящий зверек. Он собрался с мыслями, моргая глазами. Потом он слегка, только до запястья, поднял одну руку с колена и приказал:
– Говори.
Она оторвала лоб от каменного настила, повращала глазами и выпалила хриплым, дикарским голосом:
– Госпожа близка к господину и хотела бы быть ближе к нему.
Он еще раз собрался с мыслями. Потом ответил:
– Разрешается.
Зверек, пятясь, исчез за порогом. Петепра сидел, высоко подняв брови. Прошло несколько мгновений, и на том месте, где прижималась к полу рабыня, уже стояла Мут-эм-энет. Не отрывая локтей от туловища, она протянула к нему обе ладони, словно приносила жертвенный дар. Он увидел, что она плотно одета. Поверх узкого, до щиколоток, нижнего платья на ней было второе, широкое, как плащ, и целиком в складках. Тенистые ее щеки были окаймлены синим платком-париком, падавшим ей на затылок и на плечи и схваченным вышитой лентой. На темени у нее стояла душница, сквозь отверстия которой был продет стебель лотоса. Он изгибался на некотором расстоянии от головы, так что цветок висел надо лбом. Тускло блестели каменья ее воротника и браслетов.
Петепра тоже приветственно поднял маленькие свои руки и одну из них, тыльной стороной, поднес для поцелуя к губам.
– Цветок стран! – сказал он удивленным тоном. – Прекрасноликая, у которой есть место в доме Амуна! Неповторимая красавица с чистыми руками, когда она держит систр, и со сладостным голосом, когда она поет! – Он сохранял тон радостного изумления, быстро произнося эти заученные формулы. – О ты, которая наполняешь дом красотой, прелестное создание, перед которым все преклоняются, подруга царицы… ты умеешь читать в моем сердце, ибо ты исполняешь его еще не высказанные желания, ты исполняешь их, явившись ко мне… Вот подушка, – сказал он более сухо, извлекая таковую у себя из-за спины и кладя ее на ступеньку-скамеечку у своих ног. – Молю богов, – прибавил он, снова переходя на придворный язык, – чтобы ты, сама ты, пришла ко мне с каким-нибудь желанием, которое я выполнил бы тем радостнее, чем сильней оно будет!
У него имелись основания для любопытства. Этот визит был чем-то из ряда вон выходящим и встревожил его, потому что нарушал привычный, исполненный бережной предупредительности порядок. Он полагал, что она пришла к нему с просьбой, и это вызывало у него какую-то боязливую радость. Но покамест она говорила только красивые слова.
– Чего мне еще желать, будучи твоею сестрою, господин мой и друг? – сказала она своим мягким, хорошо поставленным голосом певицы, благозвучным альтом. – Тобой только я и живу, но благодаря твоему величию у меня есть все, чего только можно желать. Если у меня есть место в храме, то потому только, что ты выделяешься среди украшений страны. Если я зовусь подругой царицы, то лишь потому, что ты друг фараона и блещешь золотом солнечной милости. Без тебя я была бы покрыта мраком. Будучи же твоей сестрой, я обильно озарена светом.
– Не стоит, пожалуй, противоречить тебе, коль скоро таково твое мненье, – сказал он, улыбаясь. – Постараемся лучше не опровергнуть сразу же сказанного тобой об обилии света.
Он хлопнул в ладоши.
– Зажги свет! – приказал он явившемуся со стороны столовой слуге в набедреннике.
Эни попросила не делать этого:
– Не нужно, супруг мой! Сумерки только наступают. Ты сидел и радовался прекрасному свету этого часа. Ты заставишь меня раскаиваться в том, что я помешала тебе.
– Нет, я настаиваю на своем приказании, – ответил он. – Прими уж это как подтверждение того, в чем меня упрекают, – что моя воля похожа на черный гранит из долины Рехену. Ничего не поделаешь, я слишком стар, чтобы исправиться. Да и не хватало еще, чтобы самую любимую и самую праведную, когда она, угадав сокровеннейшее желание моего сердца, приходит ко мне, я принимал во мраке и сумраке! Разве не праздник для меня твой приход, а разве праздник оставляют неосвещенным? Все четыре! – сказал он двум вошедшим с огнем слугам, которые спешили зажечь стоявшие на подстолбиях по углам зала пятиплошечные светильники. – Да чтобы горели поярче!
– Твоя воля – закон, – сказала она, как бы восхищаясь, и покорно пожала плечами. – Мне и в самом деле известна твердость твоих решений, и пусть упрекают тебя за нее мужчины, которые с ними сталкиваются. Женщины же обычно ценят в мужчине его несгибаемость. Сказать – почему?
– Я был бы рад услышать.
– Потому что только она придает ценность снисходительной уступчивости и превращает ее в подарок, которым мы вправе гордиться, если его получим.
– Очень мило, – сказал он и поморгал глазами – отчасти из-за сильного света, наполнившего теперь палату (ибо фитили двадцати плошек торчали в вощаном жиру и горели широким и ярким пламенем, так что их беловатый свет и багрянец зари залили залу красками молока и крови), отчасти же потому, что задумался о смысле ее слов. Конечно же, она пришла с просьбой, думал он, и с просьбой немалой, иначе она обошлась бы без таких долгих сборов. Это совсем на нее не похоже, ибо она знает, как важно мне, человеку особенному и священному, чтобы меня оставляли в покое и не заставляли ни за что браться. Да и вообще она слишком горда, чтобы чего-то от меня требовать, и, таким образом, ее высокомерие и мой покой живут в добром брачном согласии. Тем не менее было бы приятно и утешительно сделать ей любезность, показав ей свое могущество. Я жажду и боюсь услыхать, чего она хочет. Лучше бы это только казалось ей важным, но не было важно для меня, тогда я смог бы порадовать ее без особого ущерба для своего покоя. Оказывается, в груди у меня существует известное противоречие между моим вполне оправданным себялюбием, вытекающим из моей особой священности, в силу которой я особенно не люблю, когда кто-либо задевает или хотя бы только беспокоит меня, и, с другой стороны, желанием показаться этой женщине могущественным и любезным. Она красива в плотной своей одежде, в которой явилась ко мне по той же причине, по какой я приказал осветить эту палату, – красивы ее глаза-самоцветы и ее тенистые щеки. Я люблю ее, насколько это допускает оправданное мое себялюбие; но тут-то, собственно, и заключено настоящее противоречие, ибо я еще и ненавижу, не перестаю ненавидеть ее из-за требования, которого она мне, разумеется, не предъявляет, но которое в общем заключено в нашем союзе. Однако мне не хочется ненавидеть ее, я предпочел бы, чтобы я мог любить ее без ненависти. Если бы она сейчас дала мне удобный случай показать ей мою любезность и могущество, моя любовь хоть на этот раз лишилась бы ненависти, и я был бы счастлив. Поэтому мне весьма любопытно узнать, чего она хочет, хотя одновременно мне страшно за свой покой.
Так думал, моргая глазами, Петепра, покуда рабы зажигали светильники, а затем, с тихой поспешностью, удалялись, держа головешки в скрещенных руках.
– Значит, ты разрешаешь мне присесть рядом с тобой? – услышал он обращенный к нему с улыбкой вопрос Эни и, оторвавшись от своих мыслей, еще раз, со всяческими изъявлениями радости, склонился над подушкой, чтобы поудобнее устроить жену. Она села у его ног на испещренную письменами ступеньку.
Представление о жене Потифара, которое на этом основании складывается или, по крайней мере, напрашивается, а у весьма широких кругов в мире и в самом деле, как мы боимся, сложилось, настолько ошибочно, что привести его в соответствие с истиной значит снискать настоящую заслугу перед подлинником – подразумевая под таковым либо первоначальный текст, либо (что будет вернее) рассказывающую самое себя жизнь. Во всяком случае, ложная эта картина разнузданной похотливости и бесстыжего совращения плохо согласуется с тем, что? мы, вместе с Иосифом, услыхали в беседке о жене сына из уст почтенной все же старухи Туий, в чьих словах жизнь открылась нам уже немного подробнее. «Гордой» назвала ее мать Петепра, говоря, что не может обругать ее глупой гусыней; она назвала ее жрицей Луны, избранницей, вся стать которой исполнена терпкого благоухания миртовых листьев. Скажет ли такая женщина то, что вкладывает в ее уста предание? И все же она сказала это, сказала даже дословно и не один раз, когда ее гордость была окончательно сломлена страстью, – мы это уже подтвердили. Но предание забывает прибавить, сколько прошло времени, в течение которого она скорее откусила бы себе язык, чем сказала такие слова. Она забывает прибавить, что в своем одиночестве она и вправду, в самом прямом смысле слова, прикусила себе язык, прежде чем впервые, невнятно от боли, произнесла слово, навсегда заклеймившее ее соблазнительницей. Соблазнительницей? Женщина, охваченная такой страстью, как она, становится, разумеется, соблазнительницей: соблазнительность – это внешняя сторона, это наружность ее одержимости; сама природа заставляет ее глаза блестеть призывнее, чем от искусственных капель, вводить которые учит ее искусство туалета; это она придает ее губам тот привлекательно-алый цвет, которого не придаст им никакая помада, и складывает их в задушевно-многозначительную улыбку; это она побуждает ее одеваться и украшаться с невинно-хитрой расчетливостью, это она, и притом нарочно, делает прелестным каждое ее движение, заставляет все ее тело, насколько лишь позволяют его возможности, и подчас даже сверх того, лучиться обещаньем блаженства. Все это с самого начала и означает именно то, что госпожа Иосифа в конце концов и сказала ему. Но разве можно возлагать ответственность за это на ту, которая повинуется внутреннему порыву? Разве она устраивает все это из каких-то дьявольских побуждений? Да и что она знает обо всем этом, кроме нестерпимых мук, которые столь обольстительно прорываются наружу? Короче говоря, если она становится соблазнительна, то значит ли это, что она соблазнительница?
Характер и форма совращения определяются прежде всего происхождением и воспитанием одержимой. Против предположения, что Мут-эм-энет, которую близкие ей люди называли также Эни или Энти, вела себя в своей одержимости, как какая-нибудь потаскуха, говорит уже ее воспитание – самого благородного свойства. Дань, отданная честному Монт-кау, причитается и женщине, оказавшей на судьбу Иосифа совсем иное влияние, чем он, – поэтому самое необходимое об ее происхождении надо сообщить.
Никто не удивится, услыхав, что супруга Петепра, носителя опахала, не была дочерью хозяина пивной или каменотеса. Она происходила ни больше ни меньше как из древнего княжеского рода, хотя времена, когда ее предки сидели патриархальными царьками и владельцами обширных земельных угодий в одной из областей Среднего Египта, давно прошли. Тогда двойной венец Ра носили чужеземные правители из одного азиатского пастушеского племени, обосновавшиеся на севере страны, и князья Уазе – на юге – в течение многих веков подчинялись этим захватчикам. Но из среды князей Уазе выходили сильные люди, например, Секендженра и его сын Камос, которые восставали против царей-пастухов и упорно сопротивлялись им, подхлестывая воинственное свое честолюбие чужеземным происхождением своих врагов. Брат Камоса, смельчак Ахмос, взял приступом царскую крепость чужеземцев, город Аварис, а потом и совсем изгнал их, освободив страну постольку, поскольку он присвоил ее себе и своему дому и заменил владычество чужеземцев собственной властью. Не все князья страны сразу же соглашались признать героя Ахмоса своим освободителем и отождествить его власть со свободой, как он это привык делать. Многие из них – у них, вероятно, имелись на то свои причины – были на стороне чужеземцев в Аварисе и предпочли бы остаться их вассалами, вместо того чтобы быть освобожденными своим собратом. И даже после полного изгнания их многовековых властителей некоторые из этих не желавших свободы царьков бунтовали против своего освободителя и, как сказано было в документах, «собирали враждебных ему мятежников», так что сначала он должен был победить их в открытом бою, а потом уже водворилась свобода. Что эти повстанцы лишались принадлежавшей им земли, разумелось само собой. Но и вообще все отнятое у чужеземцев фиванские освободители обычно прибирали к рукам, и поэтому тогда начался тот процесс, который ко времени нашей истории еще не закончился, хотя и зашел уже далеко, – процесс отчуждения земельной собственности от древней знати и конфискации богатств фиванским престолом, все более превращавшимся в безраздельного владельца земли, каковую он либо сдавал в аренду, либо раздаривал храмам и фаворитам, подобно тому как фараон подарил Петепра известный нам плодородный остров. А старинные княжеские семьи превращались в чиновную и военную знать, которая составляла свиту фараона и занимала высшие должности в его войске и во всяких других его учреждениях.
Так же обстояло дело со знатным родом Мут-эм-энет. Госпожа Иосифа вела свою родословную прямо от того князя по имени Тети’ан, что в свое время «собирал мятежников» и должен был потерпеть поражение в битве, чтобы признать себя освобожденным. Но к внукам и правнукам Тети фараон не питал из-за этого зла. Их род остался большим и знатным, он поставлял государству военачальников, царских советников и смотрителей казначейств, а двору – стольников, Первых Возничих и смотрителей царской купальни, и некоторые представители этого рода сохранили даже княжеское звание, будучи наместниками таких больших городов, как Менфе или Тине. Так, например, отец Эни, Маи-Сахме, занимал высокую должность градоначальника Уазе – одного из двух; ибо их было два: один управлял городом живых, а другой городом мертвых на Западе, и Маи-Сахме был князем западного города. При таком чине он жил, говоря языком Иосифа, в почете и славе и мог без всяких ограничений умащаться елеем радости, – могли это делать и его родственники, в том числе Энти, его прекрасно сложенное дитя, хотя она была уже не владетельной княжной, а дочерью служащего нового времени. По решению, принятому относительно Мут ее градоначальными родителями, можно судить о переменах, происшедших в образе мыслей этого рода со времен отцов. Ибо, отдав уже в раннем возрасте, ради больших придворных выгод, свое любимое дитя в жены Петепра, приготовленному для титулоносной деятельности сыну Гуия и Туий, они ясно показали, что плодолюбие их оседло сросшихся с землей предков свойственно им в духе нового времени уже в гораздо меньшей степени.
Мут была ребенком в ту пору, когда ею распорядились примерно так же, как распорядились барахтающимся своим сыночком философствующие родители Потифара, посвятив его в царедворцы света. Притязания ее пола, которыми тогда пренебрегли, эти притязания, символизируемые черной от влаги землей и началом всякой вещественной жизни – лунным яйцом, тихо дремали в ней, находясь еще в зачаточной стадии, ничего не зная еще о себе и нимало не сопротивляясь такому враждебному жизни, хотя и вызванному любовью решению. Она была легкой, веселой, беззаботной, свободной. Она была подобна кувшинке, что плавает по зеркалу воды и улыбается поцелуям солнца, не подозревая, что корень длинного ее стебля уходит в темный ил глубокого дна. Никакого противоречия между ее глазами и ее ртом тогда еще не было; напротив, тут царила тогда по-детски невыразительная гармония, так как задорный взгляд девочки еще не знал омрачающей строгости, а особенная змеистость этого рта с его углубленными уголками была далеко не такой явной. Несоответствие между глазами и ртом возникло лишь постепенно, с годами, прожитыми ею в качестве жрицы Луны и почетной супруги личного слуги Солнца, и возникло, несомненно, в знак того, что рот – более близкое, более родственное низшим силам орудие, чем глаз.
Что касается ее тела, то любой знал его размеры и все его красоты, ибо «сотканный воздух», тончайшая шелковистая ткань, которую она носила, целиком выставлял его, по обычаю этой страны, на всеобщее обозрение. Можно сказать, что главным своим выражением оно больше соответствовало рту, чем глазам; принадлежность к почетному сословию не помешала его расцвету и не сковала его роста: с маленькими и крепкими грудями, с тонкой спиной и шеей, нежными плечами и совершенными по своей вылепке руками, с благородно-стройными ногами, верхние линии которых самым женственным образом переходили в великолепные бедра и зад, оно было, по общему признанию, самым прекрасным женским телом: более достойного похвал Уазе не знала, и при виде его у здешних людей возникали туманные, старинно-отрадные образы, образы начала и праначала, образы, связанные с первозданным лунным яйцом, например, образ прекрасной девы, которая в сущности, – в илисто-влажной своей сущности, – была не кем иным, как гусыней любви в облике девы: это к ее лону, колотя раскинутыми крылами, припадал дивный лебедь, ласково-сильный, белоснежно-пернатый бог, и влюбленно вершил свое дело с польщенной и пораженной красавицей, чтобы та родила яйцо…
Действительно, при взгляде на просвечивающее тело Мут-эм-энет в душах жителей Уазе выплывали из мрака именно такие древние образы, хотя эти люди знали о почетном положении лунной схимницы, в котором она жила и о котором говорили ее строгие глаза. Они знали, что эти глаза свидетельствовали о ее существе достовернее, чем показывавший, несомненно, нечто иное рот, который мог бы, вероятно, снисходительно улыбнуться по поводу царственной деловитости лебедя; им было известно, что лучшие мгновенья полноты жизни это тело испытывает отнюдь не во время таких визитов, а единственно лишь тогда, когда оно по торжественным дням, потрясая трещоткой, изгибается перед Амуном-Ра в культовой пляске. Короче говоря, они не злословили о ней; не было ни сплетен, ни подмигиваний, которые относились бы к этой женщине и, веря ее рту, уличали бы ее глаза во лжи. Они перемывали кости другим дамам, хотя и замужним в более полной мере, чем внучка Тети’ана, но, если верить молве, сплошь да рядом нарушавшим правила нравственности, в том числе участницам ордена и женам из гарема бога, например, Рененутет, супруге смотрителя говяд, – о ней знали нечто такое, чего смотритель говяд Амуна не знал или не хотел знать, о ней знали многое и с наслаждением провожали ее носилки и ее повозку, как и другие носилки и повозки, ехидными замечаниями. Зато о первой и, так сказать, праведной жене Петепра в Фивах не знали решительно ничего и были убеждены, что о ней и нечего знать. И в доме Петепра, и вне его ее считали святой, посвященной и сохраненной богу, а это при такой всеобщей, при такой укоренившейся страсти к сплетням и пересудам кое-что значило.
Какого бы мнения ни были на этот счет наши слушатели, мы не считаем своей задачей исследовать обычаи Мицраима, и в частности обычаи ноамунских женщин и дам, – обычаи, о которых нам давно уже довелось выслушать торжественно-резкий отзыв старика Иакова. Его знание мира не было лишено патетически-мифотворческого налета, на который и следует сделать поправку, чтобы не впасть в преувеличение. Но сказать, что его выспренние слова не имели решительно никакого отношения к действительности, конечно, нельзя. От людей, не знающих слова «грех» и расхаживающих в одеждах из сотканного воздуха, людей, чей культ животных и смерти влечет за собой к тому же чрезмерное пристрастие к плотскому началу, можно заранее, еще до опыта, ждать той вольности нравов, которую в таких поэтически громких словах расписывал Иаков. А опыт соответствовал этому ожиданию – мы устанавливаем это скорее с логическим удовлетворением, чем со злорадством. Было бы мелким соглядатайством доказывать это на отдельных примерах из жизни фиванских женщин. В данном случае приходится не столько оспаривать, сколько прощать. Нам достаточно перевести взгляд со смотрительши говяд Рененутет на одного довольно смазливого младшего начальника царской стражи или с этой же высокопоставленной дамы на одного молодого зеркальноголового жреца из храма Хонсу, чтобы намекнуть на обстоятельства, вполне оправдывавшие образные определения Иакова. Не наше дело становиться в позу блюстителей нравственности и осуждать Уазе – такой большой город, где сто с лишним тысяч жителей. Кого нельзя удержать и спасти, тех мы бросим на произвол судьбы. Но за одну мы ручаемся головой и, отстаивая безупречность ее поведения до того момента, когда она, несомненно волей богов, превратилась в неистовую менаду, готовы поставить на карту всю нашу повествовательскую репутацию: это дочь князя Маи-Сахме, жена Потифара – Мут-эм-энет. Что она была от природы распутницей, у которой приписываемое ей предложение всегда, так сказать, вертелось на языке и легко и дерзко слетело с него, – это совершенно неверное представление, и мы, истины ради, хотим во что бы то ни стало рассеять его. Когда она, прокушенным языком, в конце концов пролепетала эти слова, она уже не помнила себя; она уже совершенно не владела собой, изойдя в своей муке, жертва бичующей мстительности низших сил, перед которыми она была в долгу из-за своего рта, тогда как ее глаза полагали, что могут отвечать им холодным презреньем.
Отверзание глаз
Известно, что по доброжелательному родительскому согласию невестой и супругой сына Гуия и Туий Мут стала уже в детском возрасте, и для внутренней последовательности об этом необходимо еще раз напомнить; известно, что к формальному характеру своего брака она привыкла давно, и момент, когда ее материальное начало могло ощутить некую недостаточность такого союза, точному определению не поддавался. Нелишне заметить, что номинально ее девственность была нарушена уже раньше – и на том все кончилось. Не став еще по-настоящему девушкой, а будучи, скорее, подростком, она уже оказалась избалованной начальницей великосветского гарема, владычицей всякого изобилия, ее на руках носили в диком своем раболепии голые мавританки и приторно-нежные евнухи, она была первой среди пятнадцати других, утопавших в роскоши местных красавиц самого разного происхождения, которые и сами-то были не чем иным, как пустой роскошью, почетной и показной принадлежностью благословенного дома, ненужной службой любви в хозяйстве царедворца. Повелительница этих мечтательных и болтливых созданий, чутких к каждому ее мановению, грустивших, если она была печальна, облегченно тараторивших, если ей делалось весело, и глупейшим образом ссорившихся друг с другом из-за маленьких, ничего не значащих милостей Петепра, когда тот, сидя среди них за шашечницей и угощая их конфетами и амбровой водкой, играл почетную партию с Мут-эм-энет, звезда гарема, она была вместе с тем главной женщиной в доме, супругой Потифара в более узком и более высоком смысле, чем эти побочные жены, просто госпожой, которая при других обстоятельствах стала бы матерью его детей; которая, если хотела, занимала собственный покой в главном здании (к востоку от северной колонной палаты, где Иосиф обычно исполнял должность чтеца, разделявшей, стало быть, комнаты супругов); которая, наконец, во время приемов с плясками и музыкой, устраиваемых другом фараона для фиванской знати, изображала хозяйку дома и вместе с ним посещала такие же праздники в других высокопоставленных домах, и прежде всего – при дворе.
Жизнь у нее была напряженная, до отказа заполненная светскими обязанностями, – обязанностями, если угодно, праздными, но не менее обременительными, чем настоящие. Из опыта всех цивилизаций известно, как много сил отнимают у знатных женщин требования света, то есть одной лишь культуры и ее разросшихся частностей; известно, что соблюдение внешних форм губит истинную жизнь чувств и души и холодная пустота сердца незаметно для сознания становится не такой уж даже и печальной привычкой. Во все времена и во всех поясах земли наблюдался этот феномен бесстрастной женской светскости, и не будет преувеличением сказать, что в подобных случаях не очень существенно, является ли супруг, бок о бок с которым ведется эта дамская жизнь, военачальником в подлинном смысле слова или только по званию. Ритуал туалетного стола, например, всегда одинаково притязателен, независимо от того, должен ли он подогревать желания супруга или является самоцелью, так сказать, общественным долгом. При его исполнении – при кропотливейшем уходе за ее финифтяно отсвечивавшими ногтями рук и ног; во время душистых омовений, удаления волос, умащений и растираний, которым она подвергала прекрасное свое тело; при сложнейших процедурах подмалевыванья и каплевпусканья, производимых над ее и без того красивыми, с металлически-синеватой радужной оболочкой, опытными в многообразной игре, а благодаря высшей школе помады, кисточки и всяческих снадобий и вовсе похожими на драгоценные украшенья глазами; при укладывании ее волос, – и собственных, коротких, блестяще-черных, густых кудрей, обычно пересыпанных лазурной или золотой пудрой, и разноцветных, с косами, косичками, галунами и бахромчатыми гирляндами жемчуга париков; при бережной подгонке к тончайшим, как лепестки, одеждам вышитых, лирообразно отглаженных набедренных лент и мелкоскладчатых наплечных накидок; а также при выборе коленопреклоненно предложенных украшений для головы, рук и груди, – не до смеха было при этом нагим мавританкам, цирюльникам-евнухам и служанкам-портнихам, да и сама Мут в такие часы никогда не смеялась, ибо малейшая небрежность в этих делах вызвала бы пересуды в высшем обществе и скандал при дворе.
Были еще визиты подруг, чей образ жизни не отличался от ее собственного и к которым она отправлялась в своем паланкине, если не принимала их у себя. Была еще служба во дворце Меримат, при жене бога Тейе, к чьей свите принадлежала Мут, – она носила опахало, как и ее супруг Петепра, и была обязана участвовать в водных ночных праздниках, устраиваемых зачинательницей Амуна на искусственном озере, возникшем по манию фараона, праздниках, пышные красоты которых бывали погружены в искристые краски недавно изобретенных цветных факелов. Были также – это нам подсказывает имя родительницы бога – упомянутые уже нами благочестиво-почетные обязанности, где светский лоск приобретал религиозно-жреческий оттенок и которые, как никакие другие, придавали надменно-строгое выражение ее глазам, то есть обязанности, вытекавшие из ее принадлежности к ордену Хатхор и ее положения наложницы Амуна, носившей коровьи рога с солнечным диском посредине, короче говоря, из ее положения временной богини. Странно сказать, в какой мере эта роль Эни, эта сторона ее жизни усиливала светскую холодность знатной дамы и закрывала ее сердце для более мягких мечтаний. Такое действие священной должности было связано с номинальностью ее брака, – которой эта должность вообще-то не требовала. Гарем Амуна отнюдь не был гаремом нетронутых. Плотское воздержание было чуждо божественной природе Великой Матери, чьими праздничными воплощениями были Мут и ее подруги. Царица, делившая ложе с Богом и родившая наследное Солнце, была покровительницей этого ордена. Наставницей его, как уже упоминалось, была замужняя женщина, супруга влиятельного первопророка Амуна, и состоял он по преимуществу из замужних женщин, таких, как Рененутет, смотрительша говяд (если не говорить о прочих ее делах). На самом деле храмовая должность Мут была связана с ее браком лишь постольку, поскольку этой должностью она была обязана положению своего мужа. Но в душе, по собственному почину, она делала то же, что делал в беседе со своей дряхлой сестрой-супругой осипший Гуий: она соотносила свою принадлежность к жрицам с особым характером своего брака, она, не облекая этого прямо в слова, находила пути и способы показать, что, по ее мнению, побочной жене бога вполне подобает и, собственно, даже надлежит иметь такого земного супруга, как Петепра; она сумела сообщить и внушить это представление обществу, которое, в свою очередь, помогало ей его сохранять, видя ее положение среди прочих хатхор в свете ее целомудренной верности богу, благодаря чему, еще больше чем благодаря красивому голосу и танцевальному мастерству Мут, это положение было молча признано привилегированным, почти равным положению высокой наставницы. Это было делом ее воли, заявившей о себе миру и доставившей Мут-эм-энет те сверхутешительные возмещения, которых требовали ее немые глубины.
Нимфа? Распутная бабенка? Смешно, да и только. Мут-эм-энет была элегантной святой, светски-холодной схимницей, чьи силы отчасти поглощались требовательной цивилизацией, отчасти же были, так сказать, храмовой собственностью и тратились на религиозную гордость. Так и жила она первой и праведной женой Потифара, благоухоженная, носимая на руках, укрепленная в своем довольстве собою всеобщим коленопреклоненным уважением, даже и во сне не волнуемая желаниями из той сферы, что являла себя в змеистом ее ротике, желаниями, выразимся короче и резче, гусиного свойства. Ибо неверно считать сон свободной и дикой областью, где все, что запрещено днем, всегда может с лихвой взять свое. Того, что совершенно неведомо яви и начисто отрезано от нее, не знает и сон. Граница между этими двумя областями зыбка и проницаема; она неуверенно проходит через одно и то же пространство души, а что пространство это для совести и для гордости неделимо, доказало смущение, доказали стыд и тревога, охватившие Мут не только по пробуждении, но уже и во сне, когда ей ночью впервые приснился Иосиф.
Когда это случилось? У нее на родине не ведут такого уж точного счета годам жизни, и, во многом следуя привычкам мира нашей повести, мы тоже удовлетворимся приблизительными определениями. Эни была, несомненно, на много лет моложе своего супруга, который при покупке Иосифа предстал нам на исходе четвертого десятка и которому за это время прибавилось круглым счетом семь лет. Ей, следовательно, не было еще за сорок, как ему, и даже до сорока было еще далеко; но все-таки она была зрелой женщиной и, безусловно, на много лет старше Иосифа – на сколько именно, нам не хочется высчитывать, не хочется из нравственного уважения к высокой, почти стирающей женские возрастные различия косметической культуре, результатам которой, поскольку они воспринимаются чувствами, принадлежит более высокая правда, чем результатам всяких подсчетов и выкладок. С тех пор как Иосиф впервые увидел свою госпожу, когда она проплывала на золотых носилках, он изменился – с точки зрения женского внимания – к лучшему, чего нельзя было сказать и, уж во всяком случае, никак не сказал бы о ней тот, кто видел ее с тех пор непрерывно. Горе рабыням-умастительницам и скопцам-массажистам, если эти годы смогли нанести какой-то ущерб ее осанке! Да и в лице ее, которое при впалой переносице и своеобразных углублениях щек никогда не было в строгом смысле слова красивым, так же как и тогда, спорили согласие и прихотливость, печать моды и живое, не знающее никаких правил очарование; зато явно усилилось за эти годы тревожное противоречие между извилиной рта и глазами, и при склонности усматривать в тревожном красивое можно было даже найти, что она стала красивее.
С другой стороны, красота Иосифа вышла к этому сроку из той ее стадии юношеской пригожести, в которой мы воздавали ей должное в свое время. В двадцать четыре года он все еще был или, вернее, именно стал чудо как красив, но его красота переросла двойное очарование той ранней поры и, сохранив общую свою обаятельность, куда решительней обратила свою силу в одном направлении – в направлении женских чувств. При этом, став мужественнее, она даже облагородилась. Лицо его уже не было, как прежде, пленительной мордочкой мальчика-бедуина, оно, правда, сохраняло кое-что от нее, особенно когда Иосиф, хотя он отнюдь не был близорук, по-матерински, словно обволакиваясь туманом, прищуривал свои глаза, глаза Рахили, но стало полнее, строже, да и смуглее под верхнеегипетским солнцем и приобрело большую правильность, большее благообразие. Об изменениях, происшедших в его фигуре, а также – следствие не только возраста, но и обязанностей, с которыми он сжился, – в его движениях, в звучании его голоса, мы уже мимоходом упомянули. Но к этому, под воздействием культуры Египта, прибавился внешний лоск, который необходимо принять во внимание, чтобы верно представить себе тогдашний его вид. Его нужно представлять себе в белой полотняной одежде высокопоставленного египтянина: нижнее платье просвечивает сквозь верхнее, широкие и короткие рукава оставляют открытыми руки, украшенные в запястьях финифтяными браслетами; в тех случаях, когда нужно быть строго одетым – ибо в более удобных случаях он не прятал собственных своих гладких волос – голова его покрыта легким париком из лучшей овечьей шерсти, который, будучи чем-то средним между платком и накладкой, прилегает к верхней части головы очень тонкими, равномерной частоты прядями, похожими на рубчатый шелк, а у затылка, начиная от определенной косой линии, меняет свою фактуру и падает на плечи мелкими, симметричными завитками, как черепица, набегающими один на другой; на шее у него, кроме пестрого воротника, плоская цепочка, изготовленная из тростника и золота, на которой висит защитный скарабей; лицо его несколько изменено иератической картинностью, достигнутой теми искусственными приемами, которые он, приспособляясь к египетским нравам, ввел в утренний свой туалет, – симметричным подведением бровей и удлинением линии верхних ресниц к вискам. В таком виде ходил он, выставляя, вероятно, вперед длинный посох, по усадьбе в качестве верховных уст управляющего, в таком виде ездил на рынок, в таком виде, делая знаки слугам, стоял в столовой за креслом Петепра – таким и видела его госпожа, видела либо в обеденном зале, либо когда он появлялся в гареме и, бывало, самым смиренным образом обращался за каким-либо распоряжением к ней самой, – таким она его вообще впервые увидела; ибо прежде, ничтожным новокупленным рабом, и даже во времена, когда он сумел согреть сердце Потифара, она его вообще не видела, и даже когда он рос в доме, словно у родника, все еще нужны были заушательские указания Дуду, чтобы у нее наконец открылись глаза на него.
Но даже и это отверзание глаз, выполненное таким «копытцем», как язык Дуду, было еще далеко не полным: не более чем со строгим любопытством глядела она на раба, о предосудительном возвышении которого ей твердили. Опасность (как приходится выразиться тому, кому дороги ее гордость, ее покой) – опасность заключалась лишь в том, что глаза ее обратились тогда именно на Иосифа, что именно его глаза встречались тогда на какие-то доли секунды с ее глазами, – а это действительно немаловажное обстоятельство, и недаром у маленького Беса, благодаря его карличьей мудрости, сразу же возникла страшная догадка, что злобный Дуду кладет начало чему-то более крупному, чем его злоба, и что отверзание глаз может приобрести гибельную полноту. Врожденный страх, вчуже испытываемый Бесом перед силами, которые виделись ему в образе огнедышащего быка, сделал его скорым на такие догадки. Иосиф же, по непозволительному легкомыслию – мы не собираемся щадить его в данном случае – не хотел понимать визиря и вел себя так, как будто тот мелет вздор, хотя, в сущности, разделял мнение стрекочущего своего доброжелателя. Ведь и ему, Иосифу, тоже был не так важен смысл этих мгновений в столовой, как то, что они вообще случаются, и в душе он глупейшим образом гордился тем, что перестал быть пустым местом для госпожи и что она обращает внимание, пусть гневное внимание, на него лично… Ну а наша Эни?
Что ж, она тоже не оказалась умнее. Она тоже не хотела понимать карлика. Если она глядела на Иосифа гневно и строго, то это казалось ей достаточным оправданием того, что она вообще на него глядела – а это с самого начала величайшее заблуждение, простительное, покуда она не знала, кого она видит, если видит, но потом все более добровольное и преступное заблуждение. Несчастная не хотела замечать, что из «строгого любопытства», с которым она глядела на личного слугу своего супруга, строгость постепенно ушла, а оставшееся любопытство вскоре уже заслуживало другого, более счастливого и более злосчастного имени. Она воображала, что ее очень интересует существо жалоб Дуду, досадное возвышение Иосифа; она чувствовала, что имеет право и обязана проявлять такой интерес по своей религиозной или, что одно и то же, политической позиции, в силу своей слитности с Амуном, который должен был счесть оскорбительным для себя главенство в доме раба-хабира, видя в этом уступку азиатским склонностям Атума-Ра. Тяжесть подобного оскорбления помогала оправдывать удовольствие, доставляемое ей этим занятием, удовольствие, которое она называла заботой и беспокойством. Поразительна способность человека к самообману. Когда в короткие летние или более долгие зимние, свободные от светских обязанностей часы, Мут, чтобы собраться с мыслями, ложилась на диван у края четырехугольного, с разноцветными рыбками и плавающими лотосами бассейна, устроенного в полу открытой колонной палаты гарема, у задней стены которой сидела маленькая нубийка, с завитыми, сильно намасленными волосами, обязанная сопровождать мысли хозяйки тихой игрой на лютне, – она бывала убеждена, что собирается подумать, как вопреки упрямству супруга и уклончивой выспренности Бекнехонса не допустить, чтобы раб из страны Захи и племени иврим приобретал столь большой вес в ее доме; из-за важности этого дела она не удивлялась, когда заранее радовалась таким размышленьям, – хотя почти уже знала, что радость эта вызвана лишь тем, что ей предстоит думать об Иосифе. Если бы не было ее жаль, можно было бы рассердиться за такую слепоту. Не удивлялась Мут и тому, что стала с радостью ждать трапез, за которыми она должна была увидеть Иосифа. Она воображала, что радость ее относится к тем гневным взглядам, какими она намеревалась его наказать. Это плачевно, но она не замечала, что змеистый ротик ее растерянно улыбался, когда она думала о том, как испуганно и смиренно гаснет под веками взгляд Иосифа, встретившись со строгостью ее взгляда. Если брови ее одновременно хмурились от досады на такую домашнюю неприятность, она полагала, что этого уже достаточно. И если бы карличья мудрость испуганно предостерегла ее от огнедышащего быка и вздумала указать ей, что искусственный строй ее жизни уже зашатался и грозит рухнуть, ее лицо, вероятно, сразу бы залилось краской, но она, уличи ее в этом кто-нибудь, объяснила бы все своим недовольством такой нелепой болтовней и постаралась бы с лицемерно преувеличенной беззаботностью подчеркнуть, что не понимает таких опасений. Кого хотят обмануть этой неестественной подчеркнутостью? Того, кто предостерегает? Ах, она призвана только прикрыть путь авантюр, которым, чего бы это ни стоило, хочет идти душа. Морочить себя, покуда не станет поздно морочить себя, – вот в чем задача. Спохватиться, протрезветь, опомниться прежде, чем станет поздно, – вот «опасность», которую стремятся предотвратить в плачевном лукавстве. В плачевном ли? Да не выставит себя человеколюбец в смешном свете своим соболезнованием. Его легковерное предположение, что человеку, в сущности, важнее всего сохранить покой, мир, защитить от потрясений и тем более от краха свой уклад жизни, создаваемый подчас с великим искусством и большой тщательностью, – это предположение, мягко говоря, не доказано. Не перечислить примеров, свидетельствующих скорее о том, что человек прямо-таки стремится к своему блаженству и к своей гибели и не испытывает ни малейшей благодарности к тому, кто хочет его от этого уберечь. Вот как раз такой случай – пожалуйста!
Что касается Эни, то человеколюбец должен не без горечи отметить, что ей шутя удалось миновать тот момент, когда еще не было поздно и она еще не погибла. Блаженно-ужасное подозрение, что она погибла, внушил ей тот, ранее упомянутый нами сон об Иосифе – и тут уж ее охватил страх. Тут уж ей вспомнилось, что она существо разумное, и она повела себя соответственно этому – то есть она, так сказать, подражала разумному существу, механически поступая по образцу разумного существа, но в действительности уже потеряв разум, она предприняла шаги, успеха которых на самом деле уже не могла желать, – а это шаги нелепые и недостойные, и человеколюбец предпочел бы закутать голову, чтобы вовсе не знать о них, если бы не был обязан соваться со своим состраданием.
Облекать сны в слова и рассказывать их почти невозможно, потому что не так важна самая суть сна, – ее-то именно и можно выразить, – как его аромат и флюид, тот непередаваемый дух ужаса или счастья (или того и другого сразу), которым он пропитан и которым порой наполняет душу сновидца еще долгое время спустя. В нашей истории снам принадлежит решающая роль: великие и по-детски яркие сны снились ее герою, будут здесь сниться сны и другим лицам. Но как затрудняла их всех задача хотя бы приблизительно поведать пережитое другим, как не удовлетворяла их самих каждая такая попытка! Достаточно вспомнить сон Иосифа о солнце, луне и звездах и о том, сколь беспомощно и отрывочно изложил Иосиф увиденное. Поэтому нам простят, если нам не удастся, рассказав сон Мут-эм-энет, сделать вполне понятным то чувство, которое у нее возникло после него и осталось. Как бы то ни было, мы намекали на него уже слишком часто, чтобы сейчас снова откладывать его изложение.
Итак, ей приснилось, что она сидит за трапезой в палате голубых колонн, на помосте, на своей скамеечке, рядом со старым Гуием, принимая пищу в той предупредительной тишине, какая во время этой процедуры всегда стояла. Однако на сей раз тишина была особенно предупредительной и глубокой, ибо четверо сотрапезников не только безмолвствовали, но и старались управляться с едой совершенно бесшумно, и поэтому в тишине отчетливо слышалось нестройное дыхание занятых своим делом слуг, настолько отчетливо, что казалось, оно будет слышно и при менее предупредительной тишине, так как походило уже скорей на пыхтенье. Эти торопливо-тихие звуки вызывали тревогу, и то ли потому, что Мут к ним прислушивалась, то ли по какой-то другой причине, она недостаточно внимательно следила за действиями своих рук и нанесла себе рану. Разрезая остро отточенным бронзовым ножичком гранат, она по рассеянности промахнулась, и лезвие довольно глубоко вошло в мякоть руки, между большим и четырьмя остальными пальцами, что привело к обильному кровотечению. Кровь была такая же рубиново-красная, как гранатовый сок, и глядела она на нее со стыдом и печалью. Да, она очень стыдилась своей крови, хотя та была такого прекрасного рубинового цвета, – стыдилась и потому, наверно, что ее белое платье сразу же и самым неизбежным образом замаралось, но, независимо от выпачканного платья, ей было чрезвычайно стыдно, и она всячески старалась скрыть от присутствующих, что у нее идет кровь; это ей, как можно или как до?лжно было заключить, удалось: все тщательно делали вид, что не заметили оплошности Мут, и никто не оказывал ей помощи, что раненую, с другой стороны, и огорчало. Она не хотела показывать, что у нее идет кровь, не хотела, потому что ей было стыдно; но то, что все закрывали на это глаза, что никто палец о палец не ударил, чтобы ей помочь, что все, словно сговорившись, предоставили Мут самой себе – это возмущало ее поистине до глубины души. Ее служанка, нарядное, одетое в паутину создание, деловито склонилась над одностолпным столиком Мут, как будто там срочно нужно было привести что-то в порядок. Сосед ее, старый Гуий, качая головой, беззубо глодал кольчатый валик сладкого печенья, пропитанного вином и нанизанного на позолоченную бедренную косточку, которую он держал за один конец дряхлыми пальцами, и делал вид, что целиком поглощен этим занятием. Петепра протянул через плечо свою кружку сирийцу, своему чашнику и слуге, чтобы тот ее снова наполнил. А мать господина, старуха Туий, та даже ободряюще подмигнула растерянной Мут слепыми щелками своего большого, белого лица, и было неясно, с каким она это сделала смыслом и заметила ли она неловкость Эни. Что же касается Эни, то она, во сне, продолжала постыдно истекать пачкавшей платье кровью, молча досадуя на всеобщее равнодушие и печалясь, независимо от этого равнодушия, по поводу самой своей ярко-красной крови. Ибо эта упрямо сочившаяся кровь вызывала у нее неописуемое чувство раскаянья; ей было жаль ее, ах, как жаль, это была глубокая, несказанная скорбь души, скорбь не о себе и не о своей незадаче, а о милой крови, которая так утекала и утекала, и от горя она без слез коротко всхлипывала. Вдруг она спохватилась, что из-за этой беды она забыла о своей обязанности – бросать во имя Амуна осуждающий взгляд на несчастье дома, на раба-кенанитянина, который возвысился самым неподобающим образом; и она нахмурила брови и строго взглянула на юношу Озарсифа, стоявшего у Петепра за спиной. И тот, словно его позвал ее строгий взгляд, покинул место, указанное ему службой, и приблизился к ней. И он был близко от нее, и близость его была очень чувствительна. А приблизился он к ней для того, чтобы остановить кровь. Он взял раненую ее руку и приложил к своему рту, так что четыре пальца прижались к одной его щеке, большой палец к другой, а рана к его губам. И от восторга кровь у нее остановилась, перестала идти. А в палате, покуда происходило это исцеление, все было противно и страшно. Слуги, все, сколько их там находилось, забегали как безумные, на цыпочках, правда, но дружно пыхтя; Петепра закутал голову, и его, согбенного и закутанного, ощупывала растопыренными пальцами его родительница, сокрушенно качая над ним своим слепым, обращенным кверху лицом. А старик Гуий стоял и грозил Эни своей золотой косточкой, на которой уже не было печенья, и рот его над сероватой бородкой отворялся и затворялся, извергая беззвучную брань. Богам было ведомо, какие ужасные речи слетали с его хлопотливого языка и вылетали из его беззубого рта, но всего вероятней, что они совпадали по смыслу с тем, о чем пыхтели мечущиеся слуги. Ибо в их дружном и громком дыхании можно было различить шепот: «Огню, реке, собакам и крокодилу», – и звуки эти повторялись снова и снова. Этот хор шепчущих голосов еще ясно слышался Эни, когда она пробудилась от сна и сначала похолодела от ужаса, а потом запылала от блаженства такого исцеленья, зная, что жезл жизни ее ударил.
Супруги
После этого отверзания глаз Мут решила вести себя как существо разумное и сделать шаг, который, имея своей бесспорной и ясной целью убрать Иосифа из ее поля зрения, был бы сочувственно встречен престолом разума. Она изо всех сил стала ходатайствовать перед своим супругом об удаленье его слуги.
День после той ночи, когда ей приснился этот сон, она провела в одиночестве, вне круга своих сестер и не принимая гостей. Она сидела в своем дворе у бассейна и глядела поверх сновавших в воде рыбок «в одну точку», как принято говорить, когда взгляд оцепенело теряется в пустоте и, ни на что не направленный, расплывается в себе самом. Но иногда вдруг, как бы выходя из тупого оцепенения, глаза ее испуганно расширялись, очень широко, словно бы в ужасе, распахивались, хотя и не отрывались от пустоты, а рот ее при этом сразу же отворялся и учащенно заглатывал воздух. Затем глаза ее снова становились спокойными, ужас в них исчезал, но зато рот ее, углубляя свои уголки, оживлялся безотчетной улыбкой и незаметно для Мут продолжал улыбаться под ее задумчивыми глазами, покуда, через минуту-другую, она не спохватывалась и в испуге не прижимала руку к непокорным губам, большим пальцем к одной щеке, а четырьмя другими – к другой. «О боги!» – шептала она при этом. А потом все повторялось опять – оцепенение, учащенное дыхание, самозабвенная улыбка, испуг, когда она замечала ее, – повторялось до тех пор, пока Эни наконец не решила покончить со всем одним махом.
На закате, удостоверившись, что Петепра дома, она велела служанкам нарядить ее для посещения господина.
Царедворец находился в западной палате своего дома, откуда открывался вид на плодовый сад и на боковую стену стоявшей на одном из его холмов беседки. Вечерняя заря, свет которой вливался сквозь легкие и пестрые наружные колонны, стала уже наполнять это помещение, сгущая бледные краски картин, небрежно набросанных каким-то художником на штукатурке пола, стен и потолка; картины эти изображали порхающих над болотом птиц, прыгающих телят, пруды с утками, стадо коров, которое пастухи гонят вброд через реку и за которым следит притаившийся в воде крокодил. Фрески задней стены, в простенках между дверями, соединявшими эту палату со столовой, показывали жизнь самого хозяина дома, воспроизводя, например, его возвращение домой и старание слуг все приготовить к прибытию хозяина по его вкусу. Прозрачные изразцы окаймляли двери, на которых, сине-красно-зелеными иероглифами по верблюжье-коричневатому грунту, были написаны изречения славных старинных авторов и слова из гимнов богам. Между дверями тянулось подобие эмпоры или террасы со ступенькой-скамеечкой и невысокой, прилегающей к стене спинкой; глиняное это сооружение было покрыто белой штукатуркой и размалевано по передним своим плоскостям цветными надписями. Оно служило и подставкой для всяких вещей, произведений искусства, подарков, которыми были битком набиты палаты Петепра, и просто скамьей для сидения; сейчас наш сановник как раз сидел посредине этого возвышения на подушке, сложив ноги на ступеньке-скамеечке, и по бокам его, справа и слева, громоздились такие чудесные вещи, как животные, боги и царские сфинксы из золота, малахита и слоновой кости, а за спиной его – совы, соколы, утки, зубчатые линии воды и другие символы надписей. Устраиваясь поудобнее, он снял с себя всю одежду, кроме белого, до колен набедренника плотного полотна с широким накрахмаленным кушаком. (Его верхнее платье, его палка и прикрепленные к ней сандалии лежали на львиноногом кресле у одной из дверей.) Однако он не позволил себе совсем распуститься, он сидел подчеркнуто стройно, положив на колени маленькие, почти крошечные в сравнении с массивным телом кисти рук и держа очень прямо свою тоже очень изящную сравнительно с туловищем голову с благородно изогнутым носом и с тонко очерченным ртом, и глядел через зал своими кроткими, карими, в длинных ресницах глазами на алеющий вечер – жирное, но не лишенное достоинства и аристократизма сидячее изваяние, у которого огромные голени высились, как колонны, руки не отличались от рук толстой женщины, а груди подушками выступали вперед. При всей тучности у него не было живота. Он был даже довольно узок в тазу. Зато бросался в глаза его пупок, который был так велик и так вытянут лежевесно, что походил немного на рот.
Уже много времени провел Петепра в этой исполненной достоинства неподвижности, в этом облагороженном осанкой безделье. В темноте ожидавшей его могилы, стоя где-нибудь в ложных дверях, его натуральной величины изваяние вечно будет вот так же спокойно и неподвижно, как он сейчас, глядеть своими стеклянными карими глазами на его вечную собственность, на предметы, которые ему дадут, и на те, которые, волшебства ради, изобразят на стене. Его статуя будет тождественна с ним – и он предвосхищал это тождество, он сидел и увековечивал себя. За его спиной и у ступеньки-скамеечки красно-сине-зеленые иероглифы говорили свое; по бокам от него громоздились дары фараона; совершенны, согласно египетской идее формы, были расписные колонны палаты, сквозь которые он глядел на вечернее небо. Окружающее имущество благоприятствует неподвижности. Ему предоставляют покоиться и сиять красотой и, сложив руки, предаются покою в его окружении. К тому же подвижность подобает скорее тем, кто плодотворно открыт миру, кто сеет и расточает и, умирая, растворяется в собственном семени, – а не тем, кто, как Петепра, замкнут в своем бытии. Он сидел, целиком сосредоточившись в себе, лишенный выхода в мир, неподвластный смерти плодозачатия, вечный, он сидел, как сидит в своем капище какой-нибудь бог.
Черная тень бесшумно вплыла между колоннами сбоку, только темный окоемок на багрянце зари, и согбенно скользнув, замерла ничком, ладонями к полу. Он медленно перевел туда взгляд: это была одна из голых мавританочек Мут, настоящий зверек. Он собрался с мыслями, моргая глазами. Потом он слегка, только до запястья, поднял одну руку с колена и приказал:
– Говори.
Она оторвала лоб от каменного настила, повращала глазами и выпалила хриплым, дикарским голосом:
– Госпожа близка к господину и хотела бы быть ближе к нему.
Он еще раз собрался с мыслями. Потом ответил:
– Разрешается.
Зверек, пятясь, исчез за порогом. Петепра сидел, высоко подняв брови. Прошло несколько мгновений, и на том месте, где прижималась к полу рабыня, уже стояла Мут-эм-энет. Не отрывая локтей от туловища, она протянула к нему обе ладони, словно приносила жертвенный дар. Он увидел, что она плотно одета. Поверх узкого, до щиколоток, нижнего платья на ней было второе, широкое, как плащ, и целиком в складках. Тенистые ее щеки были окаймлены синим платком-париком, падавшим ей на затылок и на плечи и схваченным вышитой лентой. На темени у нее стояла душница, сквозь отверстия которой был продет стебель лотоса. Он изгибался на некотором расстоянии от головы, так что цветок висел надо лбом. Тускло блестели каменья ее воротника и браслетов.
Петепра тоже приветственно поднял маленькие свои руки и одну из них, тыльной стороной, поднес для поцелуя к губам.
– Цветок стран! – сказал он удивленным тоном. – Прекрасноликая, у которой есть место в доме Амуна! Неповторимая красавица с чистыми руками, когда она держит систр, и со сладостным голосом, когда она поет! – Он сохранял тон радостного изумления, быстро произнося эти заученные формулы. – О ты, которая наполняешь дом красотой, прелестное создание, перед которым все преклоняются, подруга царицы… ты умеешь читать в моем сердце, ибо ты исполняешь его еще не высказанные желания, ты исполняешь их, явившись ко мне… Вот подушка, – сказал он более сухо, извлекая таковую у себя из-за спины и кладя ее на ступеньку-скамеечку у своих ног. – Молю богов, – прибавил он, снова переходя на придворный язык, – чтобы ты, сама ты, пришла ко мне с каким-нибудь желанием, которое я выполнил бы тем радостнее, чем сильней оно будет!
У него имелись основания для любопытства. Этот визит был чем-то из ряда вон выходящим и встревожил его, потому что нарушал привычный, исполненный бережной предупредительности порядок. Он полагал, что она пришла к нему с просьбой, и это вызывало у него какую-то боязливую радость. Но покамест она говорила только красивые слова.
– Чего мне еще желать, будучи твоею сестрою, господин мой и друг? – сказала она своим мягким, хорошо поставленным голосом певицы, благозвучным альтом. – Тобой только я и живу, но благодаря твоему величию у меня есть все, чего только можно желать. Если у меня есть место в храме, то потому только, что ты выделяешься среди украшений страны. Если я зовусь подругой царицы, то лишь потому, что ты друг фараона и блещешь золотом солнечной милости. Без тебя я была бы покрыта мраком. Будучи же твоей сестрой, я обильно озарена светом.
– Не стоит, пожалуй, противоречить тебе, коль скоро таково твое мненье, – сказал он, улыбаясь. – Постараемся лучше не опровергнуть сразу же сказанного тобой об обилии света.
Он хлопнул в ладоши.
– Зажги свет! – приказал он явившемуся со стороны столовой слуге в набедреннике.
Эни попросила не делать этого:
– Не нужно, супруг мой! Сумерки только наступают. Ты сидел и радовался прекрасному свету этого часа. Ты заставишь меня раскаиваться в том, что я помешала тебе.
– Нет, я настаиваю на своем приказании, – ответил он. – Прими уж это как подтверждение того, в чем меня упрекают, – что моя воля похожа на черный гранит из долины Рехену. Ничего не поделаешь, я слишком стар, чтобы исправиться. Да и не хватало еще, чтобы самую любимую и самую праведную, когда она, угадав сокровеннейшее желание моего сердца, приходит ко мне, я принимал во мраке и сумраке! Разве не праздник для меня твой приход, а разве праздник оставляют неосвещенным? Все четыре! – сказал он двум вошедшим с огнем слугам, которые спешили зажечь стоявшие на подстолбиях по углам зала пятиплошечные светильники. – Да чтобы горели поярче!
– Твоя воля – закон, – сказала она, как бы восхищаясь, и покорно пожала плечами. – Мне и в самом деле известна твердость твоих решений, и пусть упрекают тебя за нее мужчины, которые с ними сталкиваются. Женщины же обычно ценят в мужчине его несгибаемость. Сказать – почему?
– Я был бы рад услышать.
– Потому что только она придает ценность снисходительной уступчивости и превращает ее в подарок, которым мы вправе гордиться, если его получим.
– Очень мило, – сказал он и поморгал глазами – отчасти из-за сильного света, наполнившего теперь палату (ибо фитили двадцати плошек торчали в вощаном жиру и горели широким и ярким пламенем, так что их беловатый свет и багрянец зари залили залу красками молока и крови), отчасти же потому, что задумался о смысле ее слов. Конечно же, она пришла с просьбой, думал он, и с просьбой немалой, иначе она обошлась бы без таких долгих сборов. Это совсем на нее не похоже, ибо она знает, как важно мне, человеку особенному и священному, чтобы меня оставляли в покое и не заставляли ни за что браться. Да и вообще она слишком горда, чтобы чего-то от меня требовать, и, таким образом, ее высокомерие и мой покой живут в добром брачном согласии. Тем не менее было бы приятно и утешительно сделать ей любезность, показав ей свое могущество. Я жажду и боюсь услыхать, чего она хочет. Лучше бы это только казалось ей важным, но не было важно для меня, тогда я смог бы порадовать ее без особого ущерба для своего покоя. Оказывается, в груди у меня существует известное противоречие между моим вполне оправданным себялюбием, вытекающим из моей особой священности, в силу которой я особенно не люблю, когда кто-либо задевает или хотя бы только беспокоит меня, и, с другой стороны, желанием показаться этой женщине могущественным и любезным. Она красива в плотной своей одежде, в которой явилась ко мне по той же причине, по какой я приказал осветить эту палату, – красивы ее глаза-самоцветы и ее тенистые щеки. Я люблю ее, насколько это допускает оправданное мое себялюбие; но тут-то, собственно, и заключено настоящее противоречие, ибо я еще и ненавижу, не перестаю ненавидеть ее из-за требования, которого она мне, разумеется, не предъявляет, но которое в общем заключено в нашем союзе. Однако мне не хочется ненавидеть ее, я предпочел бы, чтобы я мог любить ее без ненависти. Если бы она сейчас дала мне удобный случай показать ей мою любезность и могущество, моя любовь хоть на этот раз лишилась бы ненависти, и я был бы счастлив. Поэтому мне весьма любопытно узнать, чего она хочет, хотя одновременно мне страшно за свой покой.
Так думал, моргая глазами, Петепра, покуда рабы зажигали светильники, а затем, с тихой поспешностью, удалялись, держа головешки в скрещенных руках.
– Значит, ты разрешаешь мне присесть рядом с тобой? – услышал он обращенный к нему с улыбкой вопрос Эни и, оторвавшись от своих мыслей, еще раз, со всяческими изъявлениями радости, склонился над подушкой, чтобы поудобнее устроить жену. Она села у его ног на испещренную письменами ступеньку.