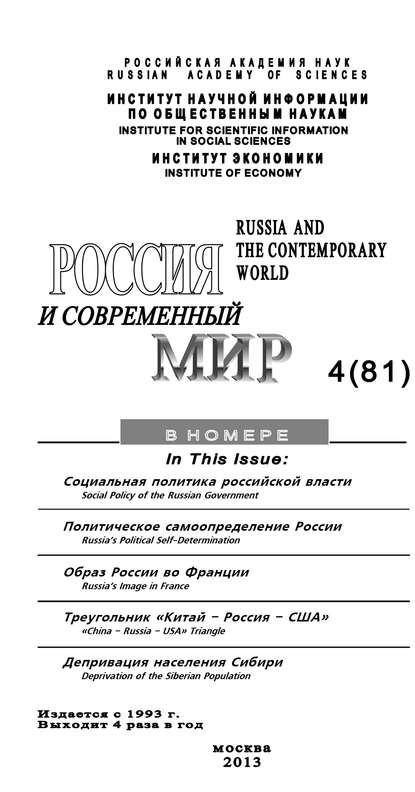По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Россия и современный мир №4 / 2013
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Со многими из этих цивилизаций и цивилизационных комплексов Россия связана с породнением, порой неоднократным и по большей части весьма двусмысленным. Наша цивилизационная и культурная идентичность оказывается весьма растяжимой. Срединное положение России на суперконтиненте Старого Света делает ее своего рода сердцевиной цветка, к которой различные цивилизации от европейских до дальневосточных примыкают наподобие лепестков. Россия легко идентифицирует себя с цветком и с отдельными его лепестками. Не это ли позволяет русским ощущать себя, по выражению Ф.М. Достоевского, всечеловеком?
Особенно важно то, что Россия осуществила крупнейший всемирно-исторический эксперимент, «приватизировав» марксизм и сделав его краеугольным камнем мирового соперничества коммунизма и капитализма, Востока и Запада, центрами силы этих двух сверхцивилизаций в виде двух сверхдержав – СССР и США. Тем самым одна из радикальных версий революционной модернизации, выработанной европейской цивилизацией в числе других внутренних альтернатив, была превращена во внешнюю идею антикапитализма, или анти-Запада.
Подобного рода экстериоризация позволила Западу в определенной мере транслировать вовне, экспортировать некоторые стороны антиномий Модерна, с которыми трудно и опасно было совладать на собственной почве. Так, вполне органичный для модернизирующегося Запада тоталитарный тренд от диктатуры Савонаролы и Нового Иерусалима мюнстерских анабаптистов до итальянского фашизма и германского нацизма был представлен как отдельные национальные девиации на фоне полномасштабного и всемирно-исторического проекта советского коммунизма. Это обернулось благом для Запада, которому оказалось легче преодолевать внутренние искушения тоталитаризмом.
Однако и внешний мир в лице «реального социализма» получил не только издержки в виде тоталитарных диктатур, но и ценнейший опыт эффективного решения отдельных изолированных задач модернизации в их предельной или близкой к предельной форме. Более того – Россия обрела выстраданное и – увы – пока еще не слишком рационализованное знание, скорее интуитивное ощущение того, что развитие должно быть многогранным, сбалансированным и глобальным. Недаром выход из утопии анти-Запада был начат под лозунгами «нового мышления» с их пафосом коэволюции, конвергенции и приоритетов глобализации.
Наконец, Россия оказалась средоточием так называемого «посткомму-нистического транзита» – процесса неопределенных по исходу перемен. Это небывалые по своим масштабам процессы, непосредственно охватившие не только страны «реального социализма», но и зону бывших периферий соперничества Востока и Запада, а косвенно – все остальное человечество. При этом обстоятельства не оставляют ни времени на подготовку перемен и на «раскачку», ни страховочных ресурсов, ни исторического резерва на осуществление проб и ошибок. Главное же заключается в том, что наиболее простой способ перемен – через революционный кризис, обвал и возрождение с нуля – оказывается уже более недопустимым, поскольку он не только сопряжен с бедствиями для миллионов людей, живущих на огромных пространствах нашей планеты, но почти наверняка может спровоцировать резкое обострение глобального кризиса, вызвать поистине планетарную катастрофу.
Основная задача не только России и других стран зоны транзита, но и всего мира заключается таким образом в том, чтобы обеспечить не катастрофическое осуществление перемен, а в идеале их постепенный перевод в режим устойчивого, т.е. управляемого развития. По существу именно в условиях глобализации как наиболее продвинутой стадии модернизации обеспечение управляемости развития, его синхронизации в масштабах планеты начинает проявляться как центральная проблема и одновременно смысл эволюционных сдвигов, начатых пять с лишним веков назад в западноевропейском «поясе городов» и приобретших глобальный масштаб и отчетливость на рубеже тысячелетий.
Стабилизатор мирового развития?
В духе подобной рационализации возможно, например, перетолкование геополитической самоидентификации новой России. Дело в том, что выход из утопии анти-Запада был начат под лозунгами «нового мышления» с их пафосом коэволюции, конвергенции и приоритетов глобализации. Исторический вызов состоит в том, чтобы найти «антиреволюционные», а точнее нереволюционные (некатастрофические) способы осуществления «революций». Подобный подход к «посткоммунистическому транзиту» позволяет рассматривать его как критически важный пример, а при получении позитивных результатов и как образец для постепенного разрешения противоречий модернизации и глобализации в череде конструктивных (некатастрофических) перемен, открытых для трансформации в режим устойчивого развития.
Решение подобного круга задач, как подчеркивалось выше, немыслимо без ясного политического самоопределения России для мира и для себя, без отчетливого понимания нами самими, нашими соседями и лидерами мирового развития, чем Россия является и может стать. Однако для того, чтобы достичь необходимой ясности, требуется своего рода «затемнение», проблематизация кажущихся бесспорными представлений. И помочь в этом может восходящая к Х. Маккиндеру идентификация России как Сердцевины Земли (Heartland), которая одновременно является Осью Коловращения Истории (Pivot Area of History), поскольку по своим краям оказывается вовлеченной в мировое развитие, тогда как основная ее внутриконтинентальная масса остается непроницаемой для внешних веяний.
Данная геополитическая модель обычно интерпретировалась в терминах силового противоборства. Но на нее можно взглянуть иначе, предположив, что Ось Коловращения Истории становится неким подобием «ока тайфуна», т.е. зоны покоя и замедленности среди наиболее интенсивных перемен и развития, порождаемых окружающими Евразию регионами так называемого Внешнего и Внутреннего Полумясяца (Outer and Inner Crescent), или – уже в терминах Н. Спайкмана – Окружия Земли (Rimland).
Метафорика Оси Коловращения Истории обладает большим когнитивным потенциалом. Так, предназначение Сердцевины Земли может быть усмотрено в том, чтобы служить своего рода стабилизатором мировых процессов, обеспечивая устойчивость развития. Подобная геософская интерпретация прямо связывает Россию с ключевой проблемой всего мирового развития – обеспечения его, как обычно говорят, устойчивости, а точнее – сустентабильности (sustainability), поддерживаемости.
Необходимо отметить, однако, что для претензий на осуществление роли стабилизатора мирового развития, России следует сначала обеспечить свою собственную устойчивость, добиться некатастрафического исхода политической и культурной перестройки в России и Евразии в целом. Насколько оправданы подобные надежды? Сможет ли Россия стабилизировать себя и стать мировым стабилизатором? Результаты зависят от множества обстоятельств, например от политических решений, которые будут приниматься и Россией (на разных уровнях), и ее соседями, и державами Окружия Коловращения, и, наконец, мировым сообществом в целом. Не в последнюю очередь зависят они и от частных лиц, их сообществ, особенно если это сообщества творческие, а образующие их личности – люди обширных знаний и доброй воли, если они способны сочетать укорененность в своей культурной почве с поистине космополитическим ви? дением глобальных проблем.
Для соединения устойчивости и развития, для использования в данных целях геополитического, цивилизационного, культурного, а также ресурсного в широком смысле разнообразия для начала необходимо одновременное и согласованное решение двух ключевых проблем. Одна заключается в осознании Россией и ее евразийскими соседями своей роли мирового стабилизатора, в мобилизации ими политической воли и внутренних ресурсов на то, чтобы сыграть такую роль. Другая состоит в том, чтобы мировое сообщество и, в первую очередь, евроатлантические и тихоокеанские державы признали мировое «разделение труда» в деле обеспечения глобального устойчивого развития и перестроили свои отношения с Россией и с ее соседями ради партнерства в данном отношении.
Особая, вторичная, но от этого не менее, а в перспективе даже более важная роль принадлежит странам и культурам переходной зоны так называемого Великого Лимитрофа. Они могут и должны стать трансляторами организационных, информационных и прочих взаимодействий между уже провоцирующим развитие и тем самым дестабилизирующим мировой порядок Окружием Земли и Сердцевиной Земли, пока лишь потенциально способной (а быть может и геополитически предназначенной?) придать развитию устойчивость, а мировому порядку – стабильность.
Подобная концептуализация предназначения России – лишь одна из многих возможных. Будущее нашей страны, а во многом и мира, зависит от того, насколько полно и интенсивно будут использованы накопленные в нашей тысячелетней истории возможности понимания того, кто мы в мире и что мир для нас.
Истоки и процесс самоопределения России
Можно спорить о том, происходило ли самоопределение Руси в момент легендарного «призвания варягов». Во всяком случае «схватывание» незавершенного союза племенных союзов и городов обручем-державой дружинного господства Рюриковичей не вызывает сомнений. Следующий, уже совершенно бесспорный акт самоопределения Руси связан с ее так называемым «крещением». В ходе этой преимущественно политической акции осуществляется крайне двусмысленный выбор цивилизационной формы, отразившийся в сказании об «испытании вер» [1, с. 370–371].
Двойное испытание четырех альтернативных образцов для подражания (их не религиозные, а геохронополитические версии – это, во-первых, деспотическая протоимперия хазар, во-вторых, полисная протоимперия булгар, в-третьих, романо-германская хризалида и, в-четвертых, теократия Византии) ведет отнюдь не к принятию какой-либо из них, хотя симпатии к византийству и подчеркиваются дважды. Подлинный акт самоопределения связан с последующим завоеванием символов теократической власти в Корсуни. Вера, а с нею модель политической организации не принимается, а завоевывается, присваивается.
Сказание о выборе веры и идейно развивающее его «Слово о Законе и Благодати» Илариона свидетельствуют, что политическая реформа Владимира была ориентирована на творческий псевдоморфоз теократии. Она была проникнута задачей не только освоения, но и пересоздания византийской теократической формы, была осенена мощным пафосом превращения Руси в иную, более высокую, чем Византия, теократию.
Эпоха ордынского владычества повлекла новые преобразования, а с ними появление четырех различных геополитических образований на месте прежней Руси. При этом происходит как симуляция, так и имитация политических форм Орды. С образованием самостоятельной Московии вновь возникает проблема самоопределения. Она концептуализуется в виде проблемы наследия Московского государства, понимаемого как личное достояние государя.
Чтобы из великого князя захолустной Москвы, лимитрофного вассала Золотой Орды стать царем (русский титул владыки Орды) «всея Руси», требовалось обосновать свое право на наследие Чингисхана. Дело упрощалось из-за раздробленности этого наследия. Московские князья прибегли к хитрому ходу – даровали земли Чингизидам из Касимова рода, сделав их тем самым своими подданными. Затем путем породнений московская ветвь Рюриковичей стала числить в своих предках Палеологов (византийское наследство), Гедеминовичей (литовское и, что важнее, киевское наследство) и Чингизидов (евразийское наследство). Наконец, были «разысканы» генеалогические связи с императором Августом (римское наследство). Все это позволило Ивану Грозному увенчать себя царской короной. Далее последовало присоединение других корон – Казанской, Астраханской и т.п.
В результате возникает крайне двусмысленно самоопределенный царский (имперский) престол: исконно русский (киевский), римский, византийский, евразийский. Призматичность такой системы была выражена очень ярко, а история с введением государств-двойников (опричнины и земщины) только ее подчеркивала.
Как выражение сакральной власти самодержавие не является только автократией в узком европейском смысле простого и прямого доминирования. К этому смыслу добавлено еще и понимание самодержавия как интегрирующей скрепы, как всеобщей мирской инстанции, наделенной властью свыше и обеспечивающей целостность мира. Концептуально самодержавие предполагает, что как власти, так и народ образуют одно политическое целое. На самом деле, эта концептуальная схема была настолько сильной, что легла в основу пожалуй самого распространенного советского лозунга «Народ и Партия – едины». В действительности любая власть в России постоянно была бы одержима этим заветом достижения единства с народом. Доминирующая в Государственной думе партия имеет характерное название Единая Россия.
Восстановление и укрепление российской государственности после Смуты потребовало нового самоопределения. С образованием в середине XVII столетия Вестфальской системы и с подключением к ней в качестве державы внешнего имперского кольца европейский фактор стал играть особенно важную роль в тогдашнем и во всех последующих самоопределениях России. Вызов получил ответ в виде усвоения европейского культурного, политического и, особенно, военно-административного наследия путем подражания Европе.
По странному совпадению на середину XVII столетия приходится завершение трансформации лимитрофного Великого княжества московского в евразийскую державу Алексея Михайловича Романова, которая ярко и точно определена Ю.С. Пивоваровым и А.И.Фурсовым как Великая самодержавная революция [6, с. 78]. Суть ее в том, что намечавшееся было формирование сословий, корпораций и слобод было повернуто вспять радикальным упрощением договорных феодальных иерархий в систему простого подчинения в виде службы и тягла. Этой тенденции отвечало и свертывание институтов политического представительства, прежде всего Земских соборов.
В результате практически полного подчинения самодержавному авторитету всех остальных сегментов или блоков отечественной политической системы в середине XVII в. создаются условия для того, чтобы уже к концу столетия, в петровские времена сформировать политическую систему, которая с многочисленными модификациями просуществовала вплоть до наших времен. Это призматическая система, образованная четырьмя эволюционно разнородными блоками политической организации, консервировавшими и воспроизводящими логику целедостижения определенного эволюционного типа.
Первый блок – вотчинный, или патримониальный представляет собой простое сочленение вотчин-патримониумов, воспроизведение «семейной модели» господства во все более крупных масштабах. Второй блок развился из поверхностно и ускоренно заимствованной у Византии христианской теократии. Он основан на господстве единой и единственной «правды». Третий блок – упрощение и без того не слишком изощренной ордынской деспотии (варяжское дружинное господство можно рассматривать как протоверсию данного блока). Функционирует этот блок как непосредственная мобилизация всех ресурсов, включая и ресурсы принуждающего насилия, на решение некой «судьбоносной» задачи. Наконец, четвертый блок – это претендующая на модернизованность военно-бюрократическая структура «государевой службы» – упрощенная версия популярной в Германии XVII–XVIII вв. утопии так называемого полицеистского государства (Polizeistaat), власти которого, руководствующиеся «просвещенностью» и полицеистической наукой (Polizeiwissenschaft), обо всем пекутся и все устраивают наилучшим образом.
Петровская «модернизация» не была и не могла быть действительной модернизацией – даже вторичной. Причина в том, что даже у самых выдающихся умов Европы того времени еще не было понимания того, что европейцы живут в особую эпоху и решают небывалые эволюционные задачи. Тем более не было подобного понимания и у европейских политиков, военных, купцов и мореходов, с которыми имели дело россияне. Петр и его «птенцы», однако, уже вероятно, ощущали качественные отличия Европы и, без сомнения, видели, что в двойной цивилизационной системе России отводится роль альтернативного противовеса, своего рода периферийной анти-Европы. В этой ситуации вполне естественным было желание присвоить достижения Европы и перестать быть ее периферией.
Решение было вполне традиционным, в духе Святого Владимира и Ивана Грозного: принятие европейства путем его завоевания, разделение страны на новую и старую с последующим внутренним завоеванием и т.п. В этом же ряду вполне традиционный для исторических империй прием – создание новой столицы. И все это сопровождается очередным моментом самоопределения России: к достоинству царства добавляется не меньшее достоинство империи.
Обычно создание Петром военно-бюрократического аппарата рассматривают как пример пусть ограниченной, но модернизации. На деле симулирование европейских административных и бытовых практик лишь сопровождало вполне эндогенные процессы поиска более эффективных механизмов функционирования имперских иерархий. Симулякры позволяли реформировать институты и роли за счет их упрощения и поверхностной рационализации. При этом их значимость была второстепенной, поскольку логику упрощения задавало вышеописанное сооружение четырехблочной структуры с посредником-медиатором.
Довольно распространено также мнение, что события начала 1730 г. и попытки «верховников» ограничить самодержавие государя являются примером неудачной конституционной реформы, чуть ли не введения конституционной монархии в России. При всех аналогиях, которые напрашиваются при сравнении событий 1730 г. с британской Славной революцией или с попытками подобного же рода в Швеции, Дании и некоторых германских государствах, природа российского казуса и его европейских аналогов различна.
Создание конституций и переход от абсолютной монархии к ограниченной связаны с решением ключевой функциональной проблемы раннего модерна, а именно с преодолением конфликта между суверенным государством и гражданским обществом. Конституция формализует и закрепляет исторический компромисс между суверенным государем (государством) и гражданским обществом (общинами, сословиями-штатами и т.п.). Она становится рамкой, которая сдерживает абсолютизм суверенитета и своеволие гражданского общества, подчиняя их общим стандартам государственного права и прав человека.
В российском случае трудно вообще разглядеть неконъюнктурную сторону конфликта между верховниками и Анной Иоановной, или между государыней и шляхтой. Здесь скорее виден внутрисословный (при всей условности данной квалификации) конфликт между боярством и шляхтой. Более того, весьма сомнительно, что Россию XVIII в. можно считать суверенным государством с равноположенным ему гражданским обществом. Верно, государь обладал монополией на принуждающее насилие, но она была далеко не полной, например, степень всевластия помещика над своими крепостными была ничуть не меньше, чем власть феодального сеньора в Западной Европе. Кроме того западноевропейский суверен отличался от деспота тем, что был ограничен так называемым государственным расчетом (raison d’etat) и его институтами государства – своими же собственными законами и судами, административной практикой, балансом интересов и т.п. [1, с. 119–139, 354–362]. Российский самодержец ничем кроме «удавки», как показывает практика того же XVIII столетия, ограничен не был.
Совсем неудивительно, что никак не обнаруживаются малейшие признаки гражданского общества. Да и откуда ему было взяться? В Европе монополия суверена на принуждающее насилие уравняла всех его подданных, которые вынуждены были строить свои отношения на основе контрактных отношений и для обеспечения их эффективности переработали частные (сословные, корпоративные, поселенческие) привилегии и свободы в общие стандарты естественного права и прав человека. Деспотическая монополия на принуждающее насилие порождает модель отношений «наедине с державой». В этих условиях актуальным становится создание посредующих механизмов, в частности формирования сословий как институтов защиты от деспотического произвола. Дарования различных сословных и корпоративных свобод российскими императорами и прежде всего усилия Екатерины Великой могут рассматриваться в связи с этим как фактор развития, накопления его потенциала, но развития не современного, а связанного с предыдущими (феодальными, имперскими) этапами развития.
В условиях XVIII столетия для России в отличие от европейских стран развивающим становится движение к сословиям и сословным свободам, а не их преодоление через общее гражданство с его более высокими правами и свободами. Равным образом накоплению потенциала развития способствуют не столько имитации и симулякры модерности от академии и университета до журналов и клубов (салонов), сколько регламентация и тем самым рационализация имперской иерархии, например введение Петром Табели о рангах или издание его правнуком Павлом Акта о престолонаследии. Это вполне понятно, если видеть различие между европейским абсолютизмом и российским консолидированным самодержавием. Первый – представлял собой отвечающий логике Раннего модерна способ утверждения суверенного (абсолютного) государства, порождающий свою антитезу в виду гражданского общества, благодаря чему создавались условия для того, чтобы путем компромисса или революции перейти затем к консолидации нации и скрепляющей ее конституции. Второе было не современной, а вполне традиционной (имперской по своей эволюционной природе) концентрацией власти и упрощением, унификацией разнородных способов ее функционирования (вотчина, церковь, общинность, точнее патриархальная «семейственность», дружинная в своей основе «служба» и т.п.). В результате происходила «экспроприация субъектности» этих и иных «состояний», что превращало власть не просто в абсолютную, но тотальную, хотя и не тоталитарную.
Консолидация абсолютного (тотального) самодержавия создавала казалось бы непреодолимые препятствия для политического развития. Однако при жестком блокировании эндогенных источников развития она облегчала использование экзогенных источников, что отвечает логике вторичной модернизации. Всякое изменение, однако, должно было получить санкцию властного центра в лице самодержца. Именно он и только он мог стать эффективным агентом модернизации, точнее помимо него и вопреки ему всякие попытки прогрессивных перемен были заведомо контрпродуктивны.
Вместе с тем общественное сознание России во все эпохи воспринимало монарха как выразителя «всеобщей воли», воли всего народа. Несмотря на растущее разнообразие политического и интеллектуального ландшафта постреформенной России, мысли и чувства образованного и необразованных классов были сосредоточены на идеях политического единства. Одним из самых ярких тому примеров следует считать понятие самодержавной республики, предложенное отцом-основателем русского либерализма К.Д. Кавели-ным (1818–1885). Его отправной точкой было органическое единство власти и народа. Исходя из этого, он придумал следующую формулу – «так как народ, без сомнения, по самому существу своему самодержавен, то и единая с ним власть, eo ipso должна быть самодержавной» [4, с. 439]. Далее Кавелин продолжает: «Царь есть единственный и самый верный оплот крестьянства против аристократических или мещанских конституций; он и в будущем лучшая гарантия против возникновения всяких привилегированных правящих классов. И нет сомнения, что всею массой своей, дружно и уверенно Россия может идти только за самодержавным, т.е. свободным царем, не зависящим ни от бояр, ни от плутократов. Сама история заставляет нас создать новый, небывалый своеобразный политический строй, для которого не подыщешь другого названия, как – самодержавной республики» [4, с. 436].
Оставляя в стороне последующие волны реформ и контрреформ, отмечу, что к началу XX столетия и без того многоликая российская полития становится все более «растянутой»: институты разного хронополитического (эволюционного) возраста призматически или анклавно сосуществуют и функционируют каждый в своем режиме. Возникают все более серьезные напряжения, что делало дальнейшую трансформацию политической системы необходимой, а более основательную модернизацию крайне привлекательной. Однако она могла быть осуществлена лишь при условии компромисса власти с «обществом», самодержавия с автономными политическими акторами могла бы способствовать превращению октроированной квазиконституции в функциональное подобие конституции действительной. Этот компромисс не состоялся, открыв дорогу революции 1917 г.
Самоопределение России–СССР
В результате очередной освободительной революции в нашей стране вновь воссоздалась самодержавная власть. Вновь великий акт всеобщего освобождения обернулся открытой диктатурой. Советская власть была крайне противоречивой. С одной стороны, она опиралась на массовое участие, что придавало ей демократические черты особенно в сочетании с институциональной формой прямой демократии советов. С другой стороны, управлять формирующейся системой смогла только в высшей степени интегрированная и дисциплинированная авангардная партия нового типа. Ленин в своей основополагающей книге «Детская болезнь “левизны” в коммунизме», написанной в 1920 г., фиксирует иерархию власти: лидеры, партия, (рабочий) класс, массы. Это была ровно та структура-луковица, о которой впоследствии писала Ханна Арендт в своем «Происхождении тоталитаризма».
Уже в условиях военного коммунизма начинает воспроизводиться конфигурация прежней политической системы четырех блоков и медиатора. Полицеистский блок замещается системой «демократического централизма». Вотчинный – воспроизводится в виде безусловного и персонального господства полностью контролирующих свои «уделы» комиссаров и личной ответственности пред вождями различных масштабов всех, попавших в сферу их контроля. Православный блок замещается в потенции коммунистической идеократией, представленной пока весьма размытым революционным этосом. Наконец, дружинно-деспотический блок представлен режимом чрезвычайщины и господством «революционной законности».
Воспроизведение самодержавной по сути конфигурации власти, замаскированной квазимарксистским идеологическим антуражем, было спровоцировано модернизационными вызовами, однако получало архаические ответы. Результатом стало превращение новой российской версии абсолютного, тотального самодержавия «вождя пролетариата и всего прогрессивного человечества» в один из вариантов тоталитарной диктатуры, эволюционно связанной с дисфункциональными срывами форсированных модернизаций в XX столетии.
«Реальный социализм» как разновидность политической организации является коммунистическим самодержавием. Оно пронизано глубоким противоречием, связанным с проблематикой модернизации. Его исходной целью является утверждение любой ценой максимальной политической, социальной, экономической, идеологической, культурной и прочей однородности ради форсирования модернизации. Однако рациональный смысл модернизации как раз и заключается в осуществлении постоянной инновации, а значит порождения все большего разнообразия, гетерогенности политической организации.
В условиях экзогенной модернизации утверждение мощных начал гомогенности служит своего рода противовесом для сдерживания, уравновешивания инновационных тенденций повышения гетерогенности, не дает им выйти из-под контроля и разнести систему в клочья. Кроме того создается необходимая среда для испытания новаций. Иное дело тоталитаризм с его форсированной и деформированной модернизацией. Экстремизм установок как на гомогенизацию, так и на модернизацию создает чудовищное противоречие: бескомпромиссная гомогенизация делает всякую инновацию невозможной, последовательная инновация несовместима со всеобщей усредненностью, стандартизацией и т.п.
Создание заповедников инновации (неординарности) эффективно, когда туда загоняется небольшое творческое меньшинство, которому вполне по силам решение тех или иных задач модернизации. Однако почти сразу, а чем дальше тем больше, возникает проблема трансляции, переноса достижений из заповедников в массы. Порожденные же модернизацией массы не готовы к восприятию инноваций, элиты из заповедников не могут и не хотят снижать качественную планку инноваций. Приходится мобилизовывать идеологию, административный и даже репрессивный аппарат, чтобы заставлять массы «усваивать» новшества – результатом становится массовое производство и воспроизводство симулякров модерности.
Одновременно приходится внедрять в заповедники очажки усредненности, чтобы редуцировать образцы инноваций до приемлемого массами уровня. Вновь производятся симулякры модерности. Система тратит все больше сил, получая относительно все меньший и, главное, качественно сомнительный реальный выход. Это, собственно, и порождает действительный застой.
Годы и десятилетия после смерти Сталина можно рассматривать как постепенный процесс десталинизации или как ряд структурных и существенных изменений, влияние которых оказалось чрезвычайно большим, несмотря на заявления радикально настроенных критиков 80-х годов о том, что система нереформируема. Тем не менее советская система развивалась. Во время правления Хрущёва была выдвинута идея «всенародного государства». Заявлялось о восстановлении ленинских норм демократического централизма в партии и государстве. Партия стремилась сохранить единство народа и власти. Распространенным лозунгом в то время был «Народ и Партия – едины».
Вопреки распространенному предубеждению, будто «система нереформируема», за годы советской власти удалось не только добиться определенных политических, военных и экономических успехов в течение нескольких десятилетий, выступая в роли сверхдержавы, но и существенно реформировать политический строй в череде переходов – сначала в сталинский тоталитаризм, затем в его более сложную послевоенную версию, после этого в его хрущёвскую квазитоталитарную версию – «десталинизованную» и мультиплицированную, наконец в неоквазитоталитаризм так называемого «застоя» и в лихорадку посттоталитарного ремонта начиная с андроповских времен.
Все эти превращения самодержавного по сути правления сопровождались как созданием разного рода симулякров, так и имитацией модернизационных процедур. В целом можно признать, например, что СССР фактически консолидировал свой суверенитет, создав достаточно однородный политический режим внутри четко очерченных территориальных границ и обеспечив его внутреннее и внешнее признание. Хуже обстояло дело с формированием гражданского общества. Официально насаждавшиеся структуры были малоэффективны и малоубедительны. Хотя они и позволяли немалому числу людей проявлять инициативу – достаточно вспомнить студенческие строительные отряды, коммунарское движение, МЖК и т.п. – собственно контрактные отношения оставались неразвитыми. Что касается такого важного аспекта политической модернизации, как формирование гражданской нации (nation-building), то отчасти удалось эти процессы проимитировать, получив в качестве результата «новую историческую общность». В то же время все советские конституции оставались симулякрами, что позволяет говорить о системе «номинального конституционализма» [5, с. 482–563].
Современные дилеммы самоопределения России
Особенно важно то, что Россия осуществила крупнейший всемирно-исторический эксперимент, «приватизировав» марксизм и сделав его краеугольным камнем мирового соперничества коммунизма и капитализма, Востока и Запада, центрами силы этих двух сверхцивилизаций в виде двух сверхдержав – СССР и США. Тем самым одна из радикальных версий революционной модернизации, выработанной европейской цивилизацией в числе других внутренних альтернатив, была превращена во внешнюю идею антикапитализма, или анти-Запада.
Подобного рода экстериоризация позволила Западу в определенной мере транслировать вовне, экспортировать некоторые стороны антиномий Модерна, с которыми трудно и опасно было совладать на собственной почве. Так, вполне органичный для модернизирующегося Запада тоталитарный тренд от диктатуры Савонаролы и Нового Иерусалима мюнстерских анабаптистов до итальянского фашизма и германского нацизма был представлен как отдельные национальные девиации на фоне полномасштабного и всемирно-исторического проекта советского коммунизма. Это обернулось благом для Запада, которому оказалось легче преодолевать внутренние искушения тоталитаризмом.
Однако и внешний мир в лице «реального социализма» получил не только издержки в виде тоталитарных диктатур, но и ценнейший опыт эффективного решения отдельных изолированных задач модернизации в их предельной или близкой к предельной форме. Более того – Россия обрела выстраданное и – увы – пока еще не слишком рационализованное знание, скорее интуитивное ощущение того, что развитие должно быть многогранным, сбалансированным и глобальным. Недаром выход из утопии анти-Запада был начат под лозунгами «нового мышления» с их пафосом коэволюции, конвергенции и приоритетов глобализации.
Наконец, Россия оказалась средоточием так называемого «посткомму-нистического транзита» – процесса неопределенных по исходу перемен. Это небывалые по своим масштабам процессы, непосредственно охватившие не только страны «реального социализма», но и зону бывших периферий соперничества Востока и Запада, а косвенно – все остальное человечество. При этом обстоятельства не оставляют ни времени на подготовку перемен и на «раскачку», ни страховочных ресурсов, ни исторического резерва на осуществление проб и ошибок. Главное же заключается в том, что наиболее простой способ перемен – через революционный кризис, обвал и возрождение с нуля – оказывается уже более недопустимым, поскольку он не только сопряжен с бедствиями для миллионов людей, живущих на огромных пространствах нашей планеты, но почти наверняка может спровоцировать резкое обострение глобального кризиса, вызвать поистине планетарную катастрофу.
Основная задача не только России и других стран зоны транзита, но и всего мира заключается таким образом в том, чтобы обеспечить не катастрофическое осуществление перемен, а в идеале их постепенный перевод в режим устойчивого, т.е. управляемого развития. По существу именно в условиях глобализации как наиболее продвинутой стадии модернизации обеспечение управляемости развития, его синхронизации в масштабах планеты начинает проявляться как центральная проблема и одновременно смысл эволюционных сдвигов, начатых пять с лишним веков назад в западноевропейском «поясе городов» и приобретших глобальный масштаб и отчетливость на рубеже тысячелетий.
Стабилизатор мирового развития?
В духе подобной рационализации возможно, например, перетолкование геополитической самоидентификации новой России. Дело в том, что выход из утопии анти-Запада был начат под лозунгами «нового мышления» с их пафосом коэволюции, конвергенции и приоритетов глобализации. Исторический вызов состоит в том, чтобы найти «антиреволюционные», а точнее нереволюционные (некатастрофические) способы осуществления «революций». Подобный подход к «посткоммунистическому транзиту» позволяет рассматривать его как критически важный пример, а при получении позитивных результатов и как образец для постепенного разрешения противоречий модернизации и глобализации в череде конструктивных (некатастрофических) перемен, открытых для трансформации в режим устойчивого развития.
Решение подобного круга задач, как подчеркивалось выше, немыслимо без ясного политического самоопределения России для мира и для себя, без отчетливого понимания нами самими, нашими соседями и лидерами мирового развития, чем Россия является и может стать. Однако для того, чтобы достичь необходимой ясности, требуется своего рода «затемнение», проблематизация кажущихся бесспорными представлений. И помочь в этом может восходящая к Х. Маккиндеру идентификация России как Сердцевины Земли (Heartland), которая одновременно является Осью Коловращения Истории (Pivot Area of History), поскольку по своим краям оказывается вовлеченной в мировое развитие, тогда как основная ее внутриконтинентальная масса остается непроницаемой для внешних веяний.
Данная геополитическая модель обычно интерпретировалась в терминах силового противоборства. Но на нее можно взглянуть иначе, предположив, что Ось Коловращения Истории становится неким подобием «ока тайфуна», т.е. зоны покоя и замедленности среди наиболее интенсивных перемен и развития, порождаемых окружающими Евразию регионами так называемого Внешнего и Внутреннего Полумясяца (Outer and Inner Crescent), или – уже в терминах Н. Спайкмана – Окружия Земли (Rimland).
Метафорика Оси Коловращения Истории обладает большим когнитивным потенциалом. Так, предназначение Сердцевины Земли может быть усмотрено в том, чтобы служить своего рода стабилизатором мировых процессов, обеспечивая устойчивость развития. Подобная геософская интерпретация прямо связывает Россию с ключевой проблемой всего мирового развития – обеспечения его, как обычно говорят, устойчивости, а точнее – сустентабильности (sustainability), поддерживаемости.
Необходимо отметить, однако, что для претензий на осуществление роли стабилизатора мирового развития, России следует сначала обеспечить свою собственную устойчивость, добиться некатастрафического исхода политической и культурной перестройки в России и Евразии в целом. Насколько оправданы подобные надежды? Сможет ли Россия стабилизировать себя и стать мировым стабилизатором? Результаты зависят от множества обстоятельств, например от политических решений, которые будут приниматься и Россией (на разных уровнях), и ее соседями, и державами Окружия Коловращения, и, наконец, мировым сообществом в целом. Не в последнюю очередь зависят они и от частных лиц, их сообществ, особенно если это сообщества творческие, а образующие их личности – люди обширных знаний и доброй воли, если они способны сочетать укорененность в своей культурной почве с поистине космополитическим ви? дением глобальных проблем.
Для соединения устойчивости и развития, для использования в данных целях геополитического, цивилизационного, культурного, а также ресурсного в широком смысле разнообразия для начала необходимо одновременное и согласованное решение двух ключевых проблем. Одна заключается в осознании Россией и ее евразийскими соседями своей роли мирового стабилизатора, в мобилизации ими политической воли и внутренних ресурсов на то, чтобы сыграть такую роль. Другая состоит в том, чтобы мировое сообщество и, в первую очередь, евроатлантические и тихоокеанские державы признали мировое «разделение труда» в деле обеспечения глобального устойчивого развития и перестроили свои отношения с Россией и с ее соседями ради партнерства в данном отношении.
Особая, вторичная, но от этого не менее, а в перспективе даже более важная роль принадлежит странам и культурам переходной зоны так называемого Великого Лимитрофа. Они могут и должны стать трансляторами организационных, информационных и прочих взаимодействий между уже провоцирующим развитие и тем самым дестабилизирующим мировой порядок Окружием Земли и Сердцевиной Земли, пока лишь потенциально способной (а быть может и геополитически предназначенной?) придать развитию устойчивость, а мировому порядку – стабильность.
Подобная концептуализация предназначения России – лишь одна из многих возможных. Будущее нашей страны, а во многом и мира, зависит от того, насколько полно и интенсивно будут использованы накопленные в нашей тысячелетней истории возможности понимания того, кто мы в мире и что мир для нас.
Истоки и процесс самоопределения России
Можно спорить о том, происходило ли самоопределение Руси в момент легендарного «призвания варягов». Во всяком случае «схватывание» незавершенного союза племенных союзов и городов обручем-державой дружинного господства Рюриковичей не вызывает сомнений. Следующий, уже совершенно бесспорный акт самоопределения Руси связан с ее так называемым «крещением». В ходе этой преимущественно политической акции осуществляется крайне двусмысленный выбор цивилизационной формы, отразившийся в сказании об «испытании вер» [1, с. 370–371].
Двойное испытание четырех альтернативных образцов для подражания (их не религиозные, а геохронополитические версии – это, во-первых, деспотическая протоимперия хазар, во-вторых, полисная протоимперия булгар, в-третьих, романо-германская хризалида и, в-четвертых, теократия Византии) ведет отнюдь не к принятию какой-либо из них, хотя симпатии к византийству и подчеркиваются дважды. Подлинный акт самоопределения связан с последующим завоеванием символов теократической власти в Корсуни. Вера, а с нею модель политической организации не принимается, а завоевывается, присваивается.
Сказание о выборе веры и идейно развивающее его «Слово о Законе и Благодати» Илариона свидетельствуют, что политическая реформа Владимира была ориентирована на творческий псевдоморфоз теократии. Она была проникнута задачей не только освоения, но и пересоздания византийской теократической формы, была осенена мощным пафосом превращения Руси в иную, более высокую, чем Византия, теократию.
Эпоха ордынского владычества повлекла новые преобразования, а с ними появление четырех различных геополитических образований на месте прежней Руси. При этом происходит как симуляция, так и имитация политических форм Орды. С образованием самостоятельной Московии вновь возникает проблема самоопределения. Она концептуализуется в виде проблемы наследия Московского государства, понимаемого как личное достояние государя.
Чтобы из великого князя захолустной Москвы, лимитрофного вассала Золотой Орды стать царем (русский титул владыки Орды) «всея Руси», требовалось обосновать свое право на наследие Чингисхана. Дело упрощалось из-за раздробленности этого наследия. Московские князья прибегли к хитрому ходу – даровали земли Чингизидам из Касимова рода, сделав их тем самым своими подданными. Затем путем породнений московская ветвь Рюриковичей стала числить в своих предках Палеологов (византийское наследство), Гедеминовичей (литовское и, что важнее, киевское наследство) и Чингизидов (евразийское наследство). Наконец, были «разысканы» генеалогические связи с императором Августом (римское наследство). Все это позволило Ивану Грозному увенчать себя царской короной. Далее последовало присоединение других корон – Казанской, Астраханской и т.п.
В результате возникает крайне двусмысленно самоопределенный царский (имперский) престол: исконно русский (киевский), римский, византийский, евразийский. Призматичность такой системы была выражена очень ярко, а история с введением государств-двойников (опричнины и земщины) только ее подчеркивала.
Как выражение сакральной власти самодержавие не является только автократией в узком европейском смысле простого и прямого доминирования. К этому смыслу добавлено еще и понимание самодержавия как интегрирующей скрепы, как всеобщей мирской инстанции, наделенной властью свыше и обеспечивающей целостность мира. Концептуально самодержавие предполагает, что как власти, так и народ образуют одно политическое целое. На самом деле, эта концептуальная схема была настолько сильной, что легла в основу пожалуй самого распространенного советского лозунга «Народ и Партия – едины». В действительности любая власть в России постоянно была бы одержима этим заветом достижения единства с народом. Доминирующая в Государственной думе партия имеет характерное название Единая Россия.
Восстановление и укрепление российской государственности после Смуты потребовало нового самоопределения. С образованием в середине XVII столетия Вестфальской системы и с подключением к ней в качестве державы внешнего имперского кольца европейский фактор стал играть особенно важную роль в тогдашнем и во всех последующих самоопределениях России. Вызов получил ответ в виде усвоения европейского культурного, политического и, особенно, военно-административного наследия путем подражания Европе.
По странному совпадению на середину XVII столетия приходится завершение трансформации лимитрофного Великого княжества московского в евразийскую державу Алексея Михайловича Романова, которая ярко и точно определена Ю.С. Пивоваровым и А.И.Фурсовым как Великая самодержавная революция [6, с. 78]. Суть ее в том, что намечавшееся было формирование сословий, корпораций и слобод было повернуто вспять радикальным упрощением договорных феодальных иерархий в систему простого подчинения в виде службы и тягла. Этой тенденции отвечало и свертывание институтов политического представительства, прежде всего Земских соборов.
В результате практически полного подчинения самодержавному авторитету всех остальных сегментов или блоков отечественной политической системы в середине XVII в. создаются условия для того, чтобы уже к концу столетия, в петровские времена сформировать политическую систему, которая с многочисленными модификациями просуществовала вплоть до наших времен. Это призматическая система, образованная четырьмя эволюционно разнородными блоками политической организации, консервировавшими и воспроизводящими логику целедостижения определенного эволюционного типа.
Первый блок – вотчинный, или патримониальный представляет собой простое сочленение вотчин-патримониумов, воспроизведение «семейной модели» господства во все более крупных масштабах. Второй блок развился из поверхностно и ускоренно заимствованной у Византии христианской теократии. Он основан на господстве единой и единственной «правды». Третий блок – упрощение и без того не слишком изощренной ордынской деспотии (варяжское дружинное господство можно рассматривать как протоверсию данного блока). Функционирует этот блок как непосредственная мобилизация всех ресурсов, включая и ресурсы принуждающего насилия, на решение некой «судьбоносной» задачи. Наконец, четвертый блок – это претендующая на модернизованность военно-бюрократическая структура «государевой службы» – упрощенная версия популярной в Германии XVII–XVIII вв. утопии так называемого полицеистского государства (Polizeistaat), власти которого, руководствующиеся «просвещенностью» и полицеистической наукой (Polizeiwissenschaft), обо всем пекутся и все устраивают наилучшим образом.
Петровская «модернизация» не была и не могла быть действительной модернизацией – даже вторичной. Причина в том, что даже у самых выдающихся умов Европы того времени еще не было понимания того, что европейцы живут в особую эпоху и решают небывалые эволюционные задачи. Тем более не было подобного понимания и у европейских политиков, военных, купцов и мореходов, с которыми имели дело россияне. Петр и его «птенцы», однако, уже вероятно, ощущали качественные отличия Европы и, без сомнения, видели, что в двойной цивилизационной системе России отводится роль альтернативного противовеса, своего рода периферийной анти-Европы. В этой ситуации вполне естественным было желание присвоить достижения Европы и перестать быть ее периферией.
Решение было вполне традиционным, в духе Святого Владимира и Ивана Грозного: принятие европейства путем его завоевания, разделение страны на новую и старую с последующим внутренним завоеванием и т.п. В этом же ряду вполне традиционный для исторических империй прием – создание новой столицы. И все это сопровождается очередным моментом самоопределения России: к достоинству царства добавляется не меньшее достоинство империи.
Обычно создание Петром военно-бюрократического аппарата рассматривают как пример пусть ограниченной, но модернизации. На деле симулирование европейских административных и бытовых практик лишь сопровождало вполне эндогенные процессы поиска более эффективных механизмов функционирования имперских иерархий. Симулякры позволяли реформировать институты и роли за счет их упрощения и поверхностной рационализации. При этом их значимость была второстепенной, поскольку логику упрощения задавало вышеописанное сооружение четырехблочной структуры с посредником-медиатором.
Довольно распространено также мнение, что события начала 1730 г. и попытки «верховников» ограничить самодержавие государя являются примером неудачной конституционной реформы, чуть ли не введения конституционной монархии в России. При всех аналогиях, которые напрашиваются при сравнении событий 1730 г. с британской Славной революцией или с попытками подобного же рода в Швеции, Дании и некоторых германских государствах, природа российского казуса и его европейских аналогов различна.
Создание конституций и переход от абсолютной монархии к ограниченной связаны с решением ключевой функциональной проблемы раннего модерна, а именно с преодолением конфликта между суверенным государством и гражданским обществом. Конституция формализует и закрепляет исторический компромисс между суверенным государем (государством) и гражданским обществом (общинами, сословиями-штатами и т.п.). Она становится рамкой, которая сдерживает абсолютизм суверенитета и своеволие гражданского общества, подчиняя их общим стандартам государственного права и прав человека.
В российском случае трудно вообще разглядеть неконъюнктурную сторону конфликта между верховниками и Анной Иоановной, или между государыней и шляхтой. Здесь скорее виден внутрисословный (при всей условности данной квалификации) конфликт между боярством и шляхтой. Более того, весьма сомнительно, что Россию XVIII в. можно считать суверенным государством с равноположенным ему гражданским обществом. Верно, государь обладал монополией на принуждающее насилие, но она была далеко не полной, например, степень всевластия помещика над своими крепостными была ничуть не меньше, чем власть феодального сеньора в Западной Европе. Кроме того западноевропейский суверен отличался от деспота тем, что был ограничен так называемым государственным расчетом (raison d’etat) и его институтами государства – своими же собственными законами и судами, административной практикой, балансом интересов и т.п. [1, с. 119–139, 354–362]. Российский самодержец ничем кроме «удавки», как показывает практика того же XVIII столетия, ограничен не был.
Совсем неудивительно, что никак не обнаруживаются малейшие признаки гражданского общества. Да и откуда ему было взяться? В Европе монополия суверена на принуждающее насилие уравняла всех его подданных, которые вынуждены были строить свои отношения на основе контрактных отношений и для обеспечения их эффективности переработали частные (сословные, корпоративные, поселенческие) привилегии и свободы в общие стандарты естественного права и прав человека. Деспотическая монополия на принуждающее насилие порождает модель отношений «наедине с державой». В этих условиях актуальным становится создание посредующих механизмов, в частности формирования сословий как институтов защиты от деспотического произвола. Дарования различных сословных и корпоративных свобод российскими императорами и прежде всего усилия Екатерины Великой могут рассматриваться в связи с этим как фактор развития, накопления его потенциала, но развития не современного, а связанного с предыдущими (феодальными, имперскими) этапами развития.
В условиях XVIII столетия для России в отличие от европейских стран развивающим становится движение к сословиям и сословным свободам, а не их преодоление через общее гражданство с его более высокими правами и свободами. Равным образом накоплению потенциала развития способствуют не столько имитации и симулякры модерности от академии и университета до журналов и клубов (салонов), сколько регламентация и тем самым рационализация имперской иерархии, например введение Петром Табели о рангах или издание его правнуком Павлом Акта о престолонаследии. Это вполне понятно, если видеть различие между европейским абсолютизмом и российским консолидированным самодержавием. Первый – представлял собой отвечающий логике Раннего модерна способ утверждения суверенного (абсолютного) государства, порождающий свою антитезу в виду гражданского общества, благодаря чему создавались условия для того, чтобы путем компромисса или революции перейти затем к консолидации нации и скрепляющей ее конституции. Второе было не современной, а вполне традиционной (имперской по своей эволюционной природе) концентрацией власти и упрощением, унификацией разнородных способов ее функционирования (вотчина, церковь, общинность, точнее патриархальная «семейственность», дружинная в своей основе «служба» и т.п.). В результате происходила «экспроприация субъектности» этих и иных «состояний», что превращало власть не просто в абсолютную, но тотальную, хотя и не тоталитарную.
Консолидация абсолютного (тотального) самодержавия создавала казалось бы непреодолимые препятствия для политического развития. Однако при жестком блокировании эндогенных источников развития она облегчала использование экзогенных источников, что отвечает логике вторичной модернизации. Всякое изменение, однако, должно было получить санкцию властного центра в лице самодержца. Именно он и только он мог стать эффективным агентом модернизации, точнее помимо него и вопреки ему всякие попытки прогрессивных перемен были заведомо контрпродуктивны.
Вместе с тем общественное сознание России во все эпохи воспринимало монарха как выразителя «всеобщей воли», воли всего народа. Несмотря на растущее разнообразие политического и интеллектуального ландшафта постреформенной России, мысли и чувства образованного и необразованных классов были сосредоточены на идеях политического единства. Одним из самых ярких тому примеров следует считать понятие самодержавной республики, предложенное отцом-основателем русского либерализма К.Д. Кавели-ным (1818–1885). Его отправной точкой было органическое единство власти и народа. Исходя из этого, он придумал следующую формулу – «так как народ, без сомнения, по самому существу своему самодержавен, то и единая с ним власть, eo ipso должна быть самодержавной» [4, с. 439]. Далее Кавелин продолжает: «Царь есть единственный и самый верный оплот крестьянства против аристократических или мещанских конституций; он и в будущем лучшая гарантия против возникновения всяких привилегированных правящих классов. И нет сомнения, что всею массой своей, дружно и уверенно Россия может идти только за самодержавным, т.е. свободным царем, не зависящим ни от бояр, ни от плутократов. Сама история заставляет нас создать новый, небывалый своеобразный политический строй, для которого не подыщешь другого названия, как – самодержавной республики» [4, с. 436].
Оставляя в стороне последующие волны реформ и контрреформ, отмечу, что к началу XX столетия и без того многоликая российская полития становится все более «растянутой»: институты разного хронополитического (эволюционного) возраста призматически или анклавно сосуществуют и функционируют каждый в своем режиме. Возникают все более серьезные напряжения, что делало дальнейшую трансформацию политической системы необходимой, а более основательную модернизацию крайне привлекательной. Однако она могла быть осуществлена лишь при условии компромисса власти с «обществом», самодержавия с автономными политическими акторами могла бы способствовать превращению октроированной квазиконституции в функциональное подобие конституции действительной. Этот компромисс не состоялся, открыв дорогу революции 1917 г.
Самоопределение России–СССР
В результате очередной освободительной революции в нашей стране вновь воссоздалась самодержавная власть. Вновь великий акт всеобщего освобождения обернулся открытой диктатурой. Советская власть была крайне противоречивой. С одной стороны, она опиралась на массовое участие, что придавало ей демократические черты особенно в сочетании с институциональной формой прямой демократии советов. С другой стороны, управлять формирующейся системой смогла только в высшей степени интегрированная и дисциплинированная авангардная партия нового типа. Ленин в своей основополагающей книге «Детская болезнь “левизны” в коммунизме», написанной в 1920 г., фиксирует иерархию власти: лидеры, партия, (рабочий) класс, массы. Это была ровно та структура-луковица, о которой впоследствии писала Ханна Арендт в своем «Происхождении тоталитаризма».
Уже в условиях военного коммунизма начинает воспроизводиться конфигурация прежней политической системы четырех блоков и медиатора. Полицеистский блок замещается системой «демократического централизма». Вотчинный – воспроизводится в виде безусловного и персонального господства полностью контролирующих свои «уделы» комиссаров и личной ответственности пред вождями различных масштабов всех, попавших в сферу их контроля. Православный блок замещается в потенции коммунистической идеократией, представленной пока весьма размытым революционным этосом. Наконец, дружинно-деспотический блок представлен режимом чрезвычайщины и господством «революционной законности».
Воспроизведение самодержавной по сути конфигурации власти, замаскированной квазимарксистским идеологическим антуражем, было спровоцировано модернизационными вызовами, однако получало архаические ответы. Результатом стало превращение новой российской версии абсолютного, тотального самодержавия «вождя пролетариата и всего прогрессивного человечества» в один из вариантов тоталитарной диктатуры, эволюционно связанной с дисфункциональными срывами форсированных модернизаций в XX столетии.
«Реальный социализм» как разновидность политической организации является коммунистическим самодержавием. Оно пронизано глубоким противоречием, связанным с проблематикой модернизации. Его исходной целью является утверждение любой ценой максимальной политической, социальной, экономической, идеологической, культурной и прочей однородности ради форсирования модернизации. Однако рациональный смысл модернизации как раз и заключается в осуществлении постоянной инновации, а значит порождения все большего разнообразия, гетерогенности политической организации.
В условиях экзогенной модернизации утверждение мощных начал гомогенности служит своего рода противовесом для сдерживания, уравновешивания инновационных тенденций повышения гетерогенности, не дает им выйти из-под контроля и разнести систему в клочья. Кроме того создается необходимая среда для испытания новаций. Иное дело тоталитаризм с его форсированной и деформированной модернизацией. Экстремизм установок как на гомогенизацию, так и на модернизацию создает чудовищное противоречие: бескомпромиссная гомогенизация делает всякую инновацию невозможной, последовательная инновация несовместима со всеобщей усредненностью, стандартизацией и т.п.
Создание заповедников инновации (неординарности) эффективно, когда туда загоняется небольшое творческое меньшинство, которому вполне по силам решение тех или иных задач модернизации. Однако почти сразу, а чем дальше тем больше, возникает проблема трансляции, переноса достижений из заповедников в массы. Порожденные же модернизацией массы не готовы к восприятию инноваций, элиты из заповедников не могут и не хотят снижать качественную планку инноваций. Приходится мобилизовывать идеологию, административный и даже репрессивный аппарат, чтобы заставлять массы «усваивать» новшества – результатом становится массовое производство и воспроизводство симулякров модерности.
Одновременно приходится внедрять в заповедники очажки усредненности, чтобы редуцировать образцы инноваций до приемлемого массами уровня. Вновь производятся симулякры модерности. Система тратит все больше сил, получая относительно все меньший и, главное, качественно сомнительный реальный выход. Это, собственно, и порождает действительный застой.
Годы и десятилетия после смерти Сталина можно рассматривать как постепенный процесс десталинизации или как ряд структурных и существенных изменений, влияние которых оказалось чрезвычайно большим, несмотря на заявления радикально настроенных критиков 80-х годов о том, что система нереформируема. Тем не менее советская система развивалась. Во время правления Хрущёва была выдвинута идея «всенародного государства». Заявлялось о восстановлении ленинских норм демократического централизма в партии и государстве. Партия стремилась сохранить единство народа и власти. Распространенным лозунгом в то время был «Народ и Партия – едины».
Вопреки распространенному предубеждению, будто «система нереформируема», за годы советской власти удалось не только добиться определенных политических, военных и экономических успехов в течение нескольких десятилетий, выступая в роли сверхдержавы, но и существенно реформировать политический строй в череде переходов – сначала в сталинский тоталитаризм, затем в его более сложную послевоенную версию, после этого в его хрущёвскую квазитоталитарную версию – «десталинизованную» и мультиплицированную, наконец в неоквазитоталитаризм так называемого «застоя» и в лихорадку посттоталитарного ремонта начиная с андроповских времен.
Все эти превращения самодержавного по сути правления сопровождались как созданием разного рода симулякров, так и имитацией модернизационных процедур. В целом можно признать, например, что СССР фактически консолидировал свой суверенитет, создав достаточно однородный политический режим внутри четко очерченных территориальных границ и обеспечив его внутреннее и внешнее признание. Хуже обстояло дело с формированием гражданского общества. Официально насаждавшиеся структуры были малоэффективны и малоубедительны. Хотя они и позволяли немалому числу людей проявлять инициативу – достаточно вспомнить студенческие строительные отряды, коммунарское движение, МЖК и т.п. – собственно контрактные отношения оставались неразвитыми. Что касается такого важного аспекта политической модернизации, как формирование гражданской нации (nation-building), то отчасти удалось эти процессы проимитировать, получив в качестве результата «новую историческую общность». В то же время все советские конституции оставались симулякрами, что позволяет говорить о системе «номинального конституционализма» [5, с. 482–563].
Современные дилеммы самоопределения России