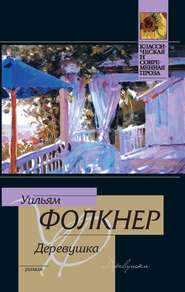По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Когда я умирала. Святилище
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Черт с ними, с деньгами. – Я говорю. – По-твоему, я когда-нибудь торопил безденежного человека?
– Да не денег я жалею. Я что думал?.. Она ведь отходит?
Сидит на ступеньке чертов малец и еще меньше кажется в желтом свете. Вот в чем беда нашей страны: все тут, и погода, и что ни возьми, – держится слишком долго. И реки и земля наша: неясные, медлительные, буйные, создают и кроят людскую жизнь по неумолимому и хмурому образу своему.
– Я ведь понимаю, – говорит Анс. – По всему убеждаюсь. Она решила.
– И слава Богу. – Я говорю. – С никчемным…
Он сидит, не шевелясь, на верхней ступеньке, маленький, в выцветшем комбинезоне. Когда я вышел, он посмотрел на меня, потом на Анса. А сейчас на нас не смотрит. Сидит, и все.
– Ты ей сказал? – спрашивает Анс.
– Зачем? На кой дьявол?
– Она догадается. Я знал: увидит тебя и догадается, как прочтет. Тебе и говорить незачем. Она реши…
За спиной у нас голос дочки: «Пап». Я смотрю на нее, на ее лицо. И говорю:
– Иди скорее.
Когда мы входим в комнату, она глядит на дверь. Глядит на меня. Глаза пылают, точно лампы перед тем, как кончится керосин.
– Она хочет, чтоб вы ушли, – говорит дочка.
– Ну как это, Адди? – говорит Анс. – Он из Джефферсона ехал тебя лечить.
Она глядит на меня; я физически чувствую ее взгляд. Он как будто выталкивает меня. Я видел такое у женщин. Видел, как гонят из комнаты тех, кто пришел с сочувствием и жалостью, с действенной помощью, и льнут к никчемному животному, которое видело в них только вьючную лошадь. Вот что такое для них любовь, превосходящая разумение: гордыня, исступленное желание прикрыть жалкую наготу, которое мы приносим с собой в мир, и несем в операционные, и упрямо, исступленно уносим с собою в землю. Я выхожу из комнаты. За верандой с храпом режет доску пила Кеша. Через минуту она окликает его, резко и громко:
– Кеш! Иди, Кеш!
Дарл
Папа стоит у кровати. Из-за его ноги выглядывает Вардаман, круглоголовый, с круглыми глазами и приоткрытым ртом. А она смотрит на папу; вся ее иссякающая жизнь выливается через глаза – упорно, необратимо.
– Она Джула хочет, – говорит Дюи Дэлл.
– Что ты, Адди, – говорит папа, – они с Дарлом повезли еще одну подводу. Думали, что успеют. Что ты их дождешься – это же три доллара и… – Он умолкает и кладет ладони ей на руки. Она смотрит на него без укоризны, вообще без всякого выражения, словно одними глазами слушает навеки умолкающий его голос. Потом приподнимается на кровати – хотя десять дней лежала не шевелясь. Дюи Дэлл наклоняется, хочет ее уложить.
– Ма, – говорит она. – Ма.
Мама глядит в окно; там Кеш, согнувшись над доской, трудится в потемках, трудится в темноте, словно ход пилы сам освещает ей дорогу, доска и пила – его порождение.
– Кеш, – кричит она резким, сильным, здоровым голосом. – Иди, Кеш!
В сумерках он оглядывается на худое лицо, обрамленное окном. В этой картине составилось для него все время, начиная с детства. Он роняет пилу и показывает ей доску, глядя на неподвижное лицо в оконной раме. Подтягивает вторую доску и прикладывает к первой так, как они будут сбиты, а потом показывает на те, что еще лежат на земле, и свободной рукой рисует в воздухе будущий гроб. Она смотрит на него с этой составной картины, не осуждая, не одобряя. Потом лицо скрывается.
Она ложится и поворачивает голову, не взглянув на папу. Смотрит на Вардамана; жизнь хлынула из глаз, два пламени сильно вспыхнули на мгновение. И гаснут, словно кто-то наклонился к ним и задул.
– Мама, – говорит Дюи Дэлл. – Мама!
Нагнулась к ней, но не прикасается руками, и, продолжая махать веером, как все эти десять дней, она начинает голосить. Ясный, сильный молодой голос вибрирует, он словно зачарован собственной громкостью и тембром, а веер машет ровно вверх-вниз и с шелестом гонит ненужный воздух. Потом она бросается к матери на колени, обхватывает ее и трясет с неистовой молодой силой, а потом вдруг распластывается на связке гнилых костей, которые оставила от себя Адди Бандрен, и кровать отзывается на толчок долгим шушуканьем шелухи в матрасе; руки у нее раскинуты, и веер в одной еще колышется, вея последними вздохами на одеяло.
Из-за папиной ноги выглядывает Вардаман с широко раскрытым ртом; вся краска стекает с его лица ко рту, словно он ухитрился вонзить зубы в свое тело и выпивает кровь. Он медленно пятится от кровати; глаза у него круглые, бледное лицо растворяется в сумраке, как клочок бумаги, прилепленный к ветхой стене, – и пропадает за дверью.
Папа нагибается над кроватью; в его сгорбленном силуэте – что-то от совы: взъерошенное возмущение, под которым прячется мудрость настолько глубокая или косная, что даже не родит мысли.
– Черт бы их взял, ребят, – говорит он.
Джул, говорю я. Над головой пластом несется серый день, затмевает солнце полетом серых копий. Под дождем чуть курятся спины мулов, заляпанные желтой грязью, и правый, скользя и вскидывая круп, хочет удержаться на обочине над канавой. Торчат блестящие темно-желтые доски, промокшие и тяжелые как свинец: почти стоймя торчат из канавы над лопнувшим колесом; мимо поломанных спиц и мимо щиколоток Джула мчится желтый поток – ни воды, ни земли, заворачивает вместе с желтой дорогой, ни земляной, ни водяной, и растворяется в курящемся темно-зеленом месиве – ни земли, ни неба. Джул, говорю я.
Кеш с пилой подходит к двери. Папа стоит у кровати, сгорбясь и свесив руки. Его невзрачный профиль сминается внизу, когда он разгоняет по деснам табак.
– Она умерла, – говорит Кеш.
– Вот, покинула нас, – говорит папа. Кеш не смотрит на него. – Много тебе осталось? – спрашивает папа. Кеш не отвечает. Он входит с пилой. – Ты там займись, а? Ребята-то уехали, надо навалиться.
Кеш смотрит на ее лицо. Совсем не слушает папу. К кровати не приближается. Остановился посреди комнаты, пила у ноги, потные руки припорошены опилками, лицо сосредоточенно.
– Если не поспеешь, может, кто приедет завтра, пособят, – говорит папа. – Вернон мог бы.
Кеш не слушает. Смотрит на ее покойное, застывшее лицо, а оно сливается с сумерками, словно темнота – предвестница могильной земли, и кажется уже, что оно отделилось, парит само по себе, легко, как отражение мертвого листа.
– Христиане тут найдутся, помогут тебе, – говорит папа.
Кеш не слушает. Немного погодя он поворачивается и, не взглянув на папу, выходит. И снова захрапела пила.
– Они помогут нам в нашем горе, – говорит папа.
Звук пилы, ровный, уверенный, неторопливый, будоражит гаснущий свет дня, так что с каждым ходом пилы ее лицо будто слегка оживает – прислушивается, ждет, считает ходы. Папа смотрит на ее лицо, на рассыпавшиеся черные волосы Дюи Дэлл, на раскинутые руки и веер в одной из них, теперь неподвижный на темном одеяле.
– Собирай-ка ужинать, – говорит он.
Дюи Дэлл не пошевелилась.
– Поднимайся, ужин ставь, – говорит папа. – Нам силы понадобятся. И доктор Пибоди небось проголодался с дороги. И Кешу поесть поскорей да опять за работу, чтобы не было задержки.
Дюи Дэлл рывком поднимается, смотрит на лицо. Оно похоже на меркнущую бронзовую маску, и только руки еще хранят подобие жизни – корявое, скрюченное, бездеятельное; силы уж нет, но как бы осталась готовность; еще не стерлась печать усталости и труда, словно и сейчас руки еще не вполне уверовали в успокоение: мозолистые и убогие, настороженно охраняют отдых, который не будет долгим.
Дюи Дэлл наклоняется, вытаскивает из-под рук одеяло и накрывает мать до подбородка, разглаживает, одергивает одеяло. Потом, не взглянув на папу, огибает кровать и выходит из комнаты.
Она пойдет туда, где стоит Пибоди, остановится в сумерках и будет смотреть ему в спину, а он, почувствовав ее взгляд, обернется и скажет: «Я бы не стал убиваться. Она была старая и больная. Мы даже не представляем себе, как она мучилась. Поправиться она не могла. Вардаман уже подрастает, и ты сумеешь за ними присмотреть. Убиваться не надо. Поди-ка лучше собери ужин. Особенно не старайся. Но поесть им надо». – А она скажет взглядом: захотели бы, так помогли мне. Если б знали. Я это я, вы это вы, и я знаю, а вы не знаете, а знали бы – помогли, если б захотели, а если б захотели, то я бы вам открылась, и никто бы ничего не знал, кроме вас, меня и Дарла.
Папа стоит над кроватью, свесив руки, сгорбленный, неподвижный. Поднимает руку к голове, ерошит волосы, слушает пилу. Подходит ближе, вытирает руку о штанину – и ладонь и тыльную сторону – и кладет ей на лицо; а потом на бугорок, где лежат ее руки под одеялом. Он трогает одеяло, хочет расправить у шеи, как Дюи Дэлл, и только хуже сминает. Снова пробует расправить, но неловко, – рука, словно птичья лапа, разглаживает морщины, а они появляются, как назло, повсюду, и тогда он сдается, опускает руку, трет о бедро – ладонь и тыльную сторону. В комнате слышен мерный храп пилы. Папа дышит тихо, с присвистом, переталкивая во рту табак.
– Исполнится воля Божья, – говорит он. – Зубы теперь вставлю.
У Джула шляпа свесилась на шею, сливает воду струйкой на мокрый мешок, повязанный вокруг плеч; в канаве, по щиколотку в воде, он поддевает скользкой доской, опертой на гнилой обрубок, ось повозки. Джул, говорю я. Она умерла, Джул. Адди Бандрен умерла.
– Да не денег я жалею. Я что думал?.. Она ведь отходит?
Сидит на ступеньке чертов малец и еще меньше кажется в желтом свете. Вот в чем беда нашей страны: все тут, и погода, и что ни возьми, – держится слишком долго. И реки и земля наша: неясные, медлительные, буйные, создают и кроят людскую жизнь по неумолимому и хмурому образу своему.
– Я ведь понимаю, – говорит Анс. – По всему убеждаюсь. Она решила.
– И слава Богу. – Я говорю. – С никчемным…
Он сидит, не шевелясь, на верхней ступеньке, маленький, в выцветшем комбинезоне. Когда я вышел, он посмотрел на меня, потом на Анса. А сейчас на нас не смотрит. Сидит, и все.
– Ты ей сказал? – спрашивает Анс.
– Зачем? На кой дьявол?
– Она догадается. Я знал: увидит тебя и догадается, как прочтет. Тебе и говорить незачем. Она реши…
За спиной у нас голос дочки: «Пап». Я смотрю на нее, на ее лицо. И говорю:
– Иди скорее.
Когда мы входим в комнату, она глядит на дверь. Глядит на меня. Глаза пылают, точно лампы перед тем, как кончится керосин.
– Она хочет, чтоб вы ушли, – говорит дочка.
– Ну как это, Адди? – говорит Анс. – Он из Джефферсона ехал тебя лечить.
Она глядит на меня; я физически чувствую ее взгляд. Он как будто выталкивает меня. Я видел такое у женщин. Видел, как гонят из комнаты тех, кто пришел с сочувствием и жалостью, с действенной помощью, и льнут к никчемному животному, которое видело в них только вьючную лошадь. Вот что такое для них любовь, превосходящая разумение: гордыня, исступленное желание прикрыть жалкую наготу, которое мы приносим с собой в мир, и несем в операционные, и упрямо, исступленно уносим с собою в землю. Я выхожу из комнаты. За верандой с храпом режет доску пила Кеша. Через минуту она окликает его, резко и громко:
– Кеш! Иди, Кеш!
Дарл
Папа стоит у кровати. Из-за его ноги выглядывает Вардаман, круглоголовый, с круглыми глазами и приоткрытым ртом. А она смотрит на папу; вся ее иссякающая жизнь выливается через глаза – упорно, необратимо.
– Она Джула хочет, – говорит Дюи Дэлл.
– Что ты, Адди, – говорит папа, – они с Дарлом повезли еще одну подводу. Думали, что успеют. Что ты их дождешься – это же три доллара и… – Он умолкает и кладет ладони ей на руки. Она смотрит на него без укоризны, вообще без всякого выражения, словно одними глазами слушает навеки умолкающий его голос. Потом приподнимается на кровати – хотя десять дней лежала не шевелясь. Дюи Дэлл наклоняется, хочет ее уложить.
– Ма, – говорит она. – Ма.
Мама глядит в окно; там Кеш, согнувшись над доской, трудится в потемках, трудится в темноте, словно ход пилы сам освещает ей дорогу, доска и пила – его порождение.
– Кеш, – кричит она резким, сильным, здоровым голосом. – Иди, Кеш!
В сумерках он оглядывается на худое лицо, обрамленное окном. В этой картине составилось для него все время, начиная с детства. Он роняет пилу и показывает ей доску, глядя на неподвижное лицо в оконной раме. Подтягивает вторую доску и прикладывает к первой так, как они будут сбиты, а потом показывает на те, что еще лежат на земле, и свободной рукой рисует в воздухе будущий гроб. Она смотрит на него с этой составной картины, не осуждая, не одобряя. Потом лицо скрывается.
Она ложится и поворачивает голову, не взглянув на папу. Смотрит на Вардамана; жизнь хлынула из глаз, два пламени сильно вспыхнули на мгновение. И гаснут, словно кто-то наклонился к ним и задул.
– Мама, – говорит Дюи Дэлл. – Мама!
Нагнулась к ней, но не прикасается руками, и, продолжая махать веером, как все эти десять дней, она начинает голосить. Ясный, сильный молодой голос вибрирует, он словно зачарован собственной громкостью и тембром, а веер машет ровно вверх-вниз и с шелестом гонит ненужный воздух. Потом она бросается к матери на колени, обхватывает ее и трясет с неистовой молодой силой, а потом вдруг распластывается на связке гнилых костей, которые оставила от себя Адди Бандрен, и кровать отзывается на толчок долгим шушуканьем шелухи в матрасе; руки у нее раскинуты, и веер в одной еще колышется, вея последними вздохами на одеяло.
Из-за папиной ноги выглядывает Вардаман с широко раскрытым ртом; вся краска стекает с его лица ко рту, словно он ухитрился вонзить зубы в свое тело и выпивает кровь. Он медленно пятится от кровати; глаза у него круглые, бледное лицо растворяется в сумраке, как клочок бумаги, прилепленный к ветхой стене, – и пропадает за дверью.
Папа нагибается над кроватью; в его сгорбленном силуэте – что-то от совы: взъерошенное возмущение, под которым прячется мудрость настолько глубокая или косная, что даже не родит мысли.
– Черт бы их взял, ребят, – говорит он.
Джул, говорю я. Над головой пластом несется серый день, затмевает солнце полетом серых копий. Под дождем чуть курятся спины мулов, заляпанные желтой грязью, и правый, скользя и вскидывая круп, хочет удержаться на обочине над канавой. Торчат блестящие темно-желтые доски, промокшие и тяжелые как свинец: почти стоймя торчат из канавы над лопнувшим колесом; мимо поломанных спиц и мимо щиколоток Джула мчится желтый поток – ни воды, ни земли, заворачивает вместе с желтой дорогой, ни земляной, ни водяной, и растворяется в курящемся темно-зеленом месиве – ни земли, ни неба. Джул, говорю я.
Кеш с пилой подходит к двери. Папа стоит у кровати, сгорбясь и свесив руки. Его невзрачный профиль сминается внизу, когда он разгоняет по деснам табак.
– Она умерла, – говорит Кеш.
– Вот, покинула нас, – говорит папа. Кеш не смотрит на него. – Много тебе осталось? – спрашивает папа. Кеш не отвечает. Он входит с пилой. – Ты там займись, а? Ребята-то уехали, надо навалиться.
Кеш смотрит на ее лицо. Совсем не слушает папу. К кровати не приближается. Остановился посреди комнаты, пила у ноги, потные руки припорошены опилками, лицо сосредоточенно.
– Если не поспеешь, может, кто приедет завтра, пособят, – говорит папа. – Вернон мог бы.
Кеш не слушает. Смотрит на ее покойное, застывшее лицо, а оно сливается с сумерками, словно темнота – предвестница могильной земли, и кажется уже, что оно отделилось, парит само по себе, легко, как отражение мертвого листа.
– Христиане тут найдутся, помогут тебе, – говорит папа.
Кеш не слушает. Немного погодя он поворачивается и, не взглянув на папу, выходит. И снова захрапела пила.
– Они помогут нам в нашем горе, – говорит папа.
Звук пилы, ровный, уверенный, неторопливый, будоражит гаснущий свет дня, так что с каждым ходом пилы ее лицо будто слегка оживает – прислушивается, ждет, считает ходы. Папа смотрит на ее лицо, на рассыпавшиеся черные волосы Дюи Дэлл, на раскинутые руки и веер в одной из них, теперь неподвижный на темном одеяле.
– Собирай-ка ужинать, – говорит он.
Дюи Дэлл не пошевелилась.
– Поднимайся, ужин ставь, – говорит папа. – Нам силы понадобятся. И доктор Пибоди небось проголодался с дороги. И Кешу поесть поскорей да опять за работу, чтобы не было задержки.
Дюи Дэлл рывком поднимается, смотрит на лицо. Оно похоже на меркнущую бронзовую маску, и только руки еще хранят подобие жизни – корявое, скрюченное, бездеятельное; силы уж нет, но как бы осталась готовность; еще не стерлась печать усталости и труда, словно и сейчас руки еще не вполне уверовали в успокоение: мозолистые и убогие, настороженно охраняют отдых, который не будет долгим.
Дюи Дэлл наклоняется, вытаскивает из-под рук одеяло и накрывает мать до подбородка, разглаживает, одергивает одеяло. Потом, не взглянув на папу, огибает кровать и выходит из комнаты.
Она пойдет туда, где стоит Пибоди, остановится в сумерках и будет смотреть ему в спину, а он, почувствовав ее взгляд, обернется и скажет: «Я бы не стал убиваться. Она была старая и больная. Мы даже не представляем себе, как она мучилась. Поправиться она не могла. Вардаман уже подрастает, и ты сумеешь за ними присмотреть. Убиваться не надо. Поди-ка лучше собери ужин. Особенно не старайся. Но поесть им надо». – А она скажет взглядом: захотели бы, так помогли мне. Если б знали. Я это я, вы это вы, и я знаю, а вы не знаете, а знали бы – помогли, если б захотели, а если б захотели, то я бы вам открылась, и никто бы ничего не знал, кроме вас, меня и Дарла.
Папа стоит над кроватью, свесив руки, сгорбленный, неподвижный. Поднимает руку к голове, ерошит волосы, слушает пилу. Подходит ближе, вытирает руку о штанину – и ладонь и тыльную сторону – и кладет ей на лицо; а потом на бугорок, где лежат ее руки под одеялом. Он трогает одеяло, хочет расправить у шеи, как Дюи Дэлл, и только хуже сминает. Снова пробует расправить, но неловко, – рука, словно птичья лапа, разглаживает морщины, а они появляются, как назло, повсюду, и тогда он сдается, опускает руку, трет о бедро – ладонь и тыльную сторону. В комнате слышен мерный храп пилы. Папа дышит тихо, с присвистом, переталкивая во рту табак.
– Исполнится воля Божья, – говорит он. – Зубы теперь вставлю.
У Джула шляпа свесилась на шею, сливает воду струйкой на мокрый мешок, повязанный вокруг плеч; в канаве, по щиколотку в воде, он поддевает скользкой доской, опертой на гнилой обрубок, ось повозки. Джул, говорю я. Она умерла, Джул. Адди Бандрен умерла.