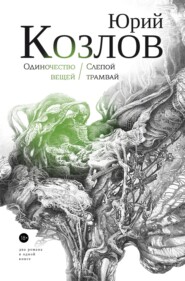По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Белая вода
Автор
Серия
Год написания книги
2021
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Дед с немцами, которые фильм снимали, по Умани ходил, показывал место, где стояла баба с подсолнухами. Там сейчас бензоколонка. Они ему пятьсот евро заплатили.
– Мало! – возмутился Объёмов. – Кто живого Гитлера видел – по пальцам пересчитать, сколько их осталось? – Объёмов вдруг замолчал, как подавился, вспомнив, что однажды и не через вторые руки, как сейчас, а напрямую общался с одной такой личностью. Фюрер как будто навязывал ему своё общество.
Зачем?
Писателю Василию Объёмову одновременно хотелось и не хотелось исследовать процесс возвращения мифа, выяснять, говоря по-простому, откуда у мифа ноги растут.
Они отрастали вполне естественно, как у ящерицы, в соответствии с природой мифа. Пока что это были замаскированные, как и сам возрождающийся миф, ноги. Внимательному и пытливому наблюдателю он (если) открывался в виде голого короля в новом формате. Этого короля окружающие изначально полагали голым и, следовательно, невозможным для публичного появления в толерантном мультикультурном пространстве, а потому – в упор не видели. Он не существовал, не мог существовать, поскольку после Освенцима нельзя было сочинять стихи о розах. В исторических музеях разных европейских городов Объёмову доводилось читать немецкие листовки времён Второй мировой войны. На обратной стороне там обычно уточнялось, что если кто, сдаваясь в плен, предъявит листовку, то ему гарантируется гуманное отношение, а если предъявитель листовки до начала войны проживал на оккупированной в настоящее время вермахтом территории, то ему, возможно, будет позволено вернуться домой и заняться мирным трудом во славу Тысячелетнего рейха. Сдавшихся с этими листовками в плен советских бойцов расстреливали тысячами, точно так же как и тех, кто сдался без листовок. Голый король не видел между ними разницы. Ему было плевать, кто считал его голым, кто – одетым, а кто вообще его не видел. Приговор обжалованию не подлежал. Это был опыт, вокруг которого, как кот вокруг плошки со сметаной, кругами ходил, облизываясь, новый мир.
Но так дело обстояло раньше, когда король был в силе. Сейчас, не существуя, он составлял другие адресные листовки.
На немецком языке: немцы не хотели войны, их втянули в неё, чтобы погубить, согнать со столбовой дороги на безнациональную и постхристианскую обочину, перемешать с различными позорными меньшинствами, чтобы немцы навсегда забыли про триумф воли. И вообще, они хотели добра, но Сталин и русская армия вынудили их превратиться в зверей.
На всемирном, как некогда латынь, английском: Гитлер был хорош, потому что, проиграв войну, на долгие годы (во всех смыслах) опустил Германию, превратил в дойную корову для новой – объединённой, толерантной и мультикультурной Европы. Гитлер был плох, потому что перед тем, как самому быть уничтоженным, он не смог уничтожить СССР.
На русском: Сталину нет и не может быть прощения за то, что он сделал СССР великим и могучим, оснастил ядерным оружием, добился того, что никакая свинья не могла просунуть рыло в его социалистический огород. Но войну выиграл не Сталин как главнокомандующий и не русский, а обобщённый, проживавший на территории тогдашнего СССР советский народ. За что теперешний – опять же обобщённый, но уже российский – народ ему благодарен не меньше, чем за разрушение проклятого СССР. А больше ни за что не благодарен, потому что всё остальное – рабство и позор!
– А потом он посмотрел в небо на самолёты, которые летели над Уманью бомбить Киев. – Буфетчица подошла к столу, поправила в металлическом держателе красные, свесившиеся набок, как петушиный гребень, салфетки. – И… Но это… – приложила палец к губам, – тайна!
– Кто? – Объёмов вдруг ясно осознал, что перед ним сумасшедшая, причём опасно сумасшедшая. С подобных, подумал он, ложных социально-исторических синдромов и начинаются революции. Они – невидимо горящие под ногами торфяники. Всё спокойно, но вдруг почва проваливается и привычная жизнь летит в огненную про(пасть). Но чтобы в России, ладно, пусть не в России, а в Белоруссии, которая ещё недавно была Россией, буфетчицы вели с клиентами беседы о Гитлере…
Надо сматываться.
Но в графинчике ещё оставалась водка, а буфетчица, хоть и поблескивала нехорошо глазами, пока не проявляла агрессивности. Интересно, подумал Объёмов, если я не буду уточнять, что сказал Гитлер, она… разъярится или, наоборот, сникнет?
Не угадал.
Буфетчица, качнув затянутыми в чёрные штаны бёдрами, как сдвоенным маятником, скрылась на кухне, напевая себе под нос. До Объёмова донеслись слова «ридна», «кохана» и, кажется, «дивчина».
Наверное, это я сумасшедший! Он схватил графинчик за длинное горлышко, решительно – до последней капли – вылил водку в рюмку. Какое мне дело, что сказал в Умани Гитлер, если я точно знаю, что это бред! Не мог он ходить по рынку, прицениваться к подсолнухам! Объёмов ни к селу ни к городу припомнил, что Гитлер вроде бы сносно знал французский язык и будто бы даже одна девушка во Франции родила от него сына, которого Гитлер, правда, так и не увидел, потому что в восемнадцатом году немецкие войска покинули Францию… Странно, что потом, когда они туда в сороковом году триумфально вернулись, недоказанный сын никак себя не обозначил, хотя, казалось бы… А что, если и в Умани… ходил-ходил по рынку, а потом шасть к подсолнуховой бабе… Графинчик в руке Объёмова играл на свету, искрился рубчатыми боками. Как граната, усмехнулся про себя Объёмов, особенно если взять да бросить его в стену. Он не сомневался, что летали, летали в этом заведении графинчики, хорошо, если в стены, а не в пьяные хари, не могли не летать. «Гитлер в Умани» – отличное название для пьесы, всё действие – на рынке среди лотков с продовольственным ассортиментом военного времени, со свиными, бычьими и бараньими (образы народов) головами на прилавках. С жужжащими то тихо, то нестерпимо мухами в виде маленьких черепов со скрещенными костями – лазерными точками по всей сцене, чтобы у зрителей кружилась голова. Четыре персонажа: Гитлер, переводчик из белых казаков, баба с подсолнухами, мальчишка, научившийся от колонистов немецкому языку… Каждый про своё. Гитлер – про новый арийский мировой порядок. Казак-переводчик – про великую и неделимую Россию. Баба – про мужа, детей, коллективизацию и голодомор. Мальчишка – про… что? Про Украину, так сказать, сердцем воспринявшую спустя семьдесят лет… Нет, это в лоб, примитивно. Тогда про свою будущую жизнь после Великой Победы, про конец СССР, про эту… в очочках, у которой губки ленточкой, про то, что у него всё ещё встаёт, про немцев, которые приедут в Умань через семьдесят лет снимать фильм о… тебе, Гитлер! А в финале – короткие монологи голов (народов), что есть война, революция, человеческая жизнь и идеология. Хор подсолнухов, как у древних греков: воля богов, мимесис, рок, фатум, судьба! Но кто поставит, какой театр возьмёт? Сволочи!
– Что сказал Гитлер? – грозно вопросил в кухонное пространство Объёмов, потрясённый величием внезапного драматургического замысла. Он был похож на взметнувший посреди пустоши дворец с башнями, мансардами и висячими садами Семирамиды. В моменты мгновенной ослепительной жизни таких замыслов Объёмов обретал мгновенную же уверенность в себе.
– Он сказал: «Es ist noch zu fr?h», – донеслось до него сквозь шум туго бьющей в металлическую раковину струи воды.
– Ещё… рано? – мобилизовав всё своё случайное знание, точнее незнание немецкого языка, неуверенно перевёл Объёмов.
– Ja, genau so, – подтвердила буфетчица.
– А ты… откуда знаешь немецкий? – растерялся Объёмов.
– За два-то года, пока драила сортиры в Лейпциге, – усмехнулась она, – научилась. Я, кстати, в Ильичёвске пищевой техникум с отличием окончила! Три года по распределению на сухогрузах при пищеблоках плавала. Так что… можем.
– Рано… что он имел в виду?
– Понятия не имею, – сухо, без прежней доброжелательности, скрипуче, как если бы двигала по полу стол, ответила Каролина. – Он не уточнил. За что купила, за то и продаю. Он долго в небо смотрел. Может, что самолёты рано полетели, а может, что-то, – добавила совсем мрачно, – услышал сверху, понял, что поспешил.
– Но людей не насмешил. Спасибо! Было очень вкусно, – выпил «на посошок», выхватил из петушиного в железном держателе гребня красную салфетку, вытер привычно скривившиеся губы Объёмов. – Пойду к себе. Я точно вам ничего не должен? – Он снова перешёл с ней на безличное «вы». Наметившаяся между ними уитменовская близость разлетелась на кусочки, как если бы была тем самым, пущенным в стену пьяной рукой графинчиком. Морской (три года на сухогрузах), сухопутный (сортиры в Лейпциге), воздушный (вдова пилота) – трёхстихийный – background буфетчицы придавил Объёмова, лишил комфортного ощущения собственного интеллектуального превосходства. Я что-то выдумываю, мучаюсь, вздохнул он, а бестселлеры… Они, как жизнь, везде. Пусть даже это странная жизнь после смерти, как сейчас в этой… Умани. Нет жизни – нет бестселлеров! Но разве не имеет права на существование мой бестселлер об исчезновении жизни? Я всю свою жизнь сочиняю исчезающий бестселлер, но, похоже, жизнь моя исчезнет раньше, чем он будет написан.
– На боковую? – Буфетчица вышла из кухни, зигзагом обогнула стойку, остановилась, блестя чёрными вороньими глазами, у стола, из-за которого только что поднялся Объёмов. Что ей Гитлер, с неожиданной тоской подумал Объёмов, да её бы… в первый же день с такой-то внешностью в ближайший концлагерь! Хотя Одессу, кажется, держали румыны.
– Не знаю… – Он зачем-то посмотрел на часы, но без очков не разглядел, который час. Стрелки как будто растворились в неясном, как исчезающая в тумане жизнь, циферблате. – Я бы прогулялся по городу, но дождь…
– В дождь хорошо спится. – Она начала собирать на поднос пустые и не пустые тарелки. Объёмов так и не прикоснулся к вздыбленному бордовому винегрету и к куриному рулету в желе, как в жёлтом увеличительном стекле. – Я сама после девяти только и думаю, как доползти до кровати… – Буфетчица непроизвольно зевнула, едва успев прикрыть рот рукой.
– Да? – ответно и тоже непроизвольно зевнул Объёмов. Дарвин прав, успел подумать он, щёлкнув челюстью, – человек точно произошёл от обезьяны. Он понимал, что надо уходить, но почему-то медлил, более того, мелькнула мыслишка, а не махануть ли ещё на сон грядущий водочки? Как она сказала: в дождь хорошо спится? Спится или спиться? Какая, в сущности, разница? – Устаёте на работе? – с неискренним участием поинтересовался он.
– Совсем не устаю. Какая тут работа? Через день, посетителей мало. Сегодня вообще вы один. Не в этом дело.
– А в чём?
– В том, что спать интереснее, чем жить.
– Как это? – Объёмов чуть было не уточнил: «С Гитлером?» Но сдержался. Он с юных лет исповедовал принцип: если не знаешь, как отреагирует собеседник, лучше молчи. Это спасало от многих возможных неприятностей. Хотя и не всегда. Молчание было свободно (в любую сторону) конвертируемой валютой.
– А вот так, – ответила буфетчица. – Во сне я… живая, где-то хожу, что-то вижу, встречаюсь с разными людьми. То в Одессе, то в Витебске, то вообще… – вздохнув, посмотрела на нетронутые тарелки с винегретом и затаившимся в дрожащем янтаре куриным рулетом, – в Париже, – призналась почему-то шёпотом. – Я там, кстати, не была. Хотела из Германии на автобусе съездить, не получилось. Шапирюзу – мою напарницу, мы тогда в Лейпциге, в парке Белантис, где египетская пирамида, работали, – сомалийцы изнасиловали в мужском сортире. Он на отшибе стоял, вокруг деревья, кусты, даже днём темно. Она как чувствовала, боялась заходить. Но они ушли, а один в приличном пальто задержался, вроде он не с ними. Украл, наверное, где-то пальто. Мадам, мадам, ребёнку, моему сыну, плохо, потерял сознание, побудьте с ним, а я в медпункт за врачом. Шапирюза раньше в универмаге на кассе сидела, привыкла людей по одежде оценивать, а потом у нас в договорах было записано, что беженцам надо помогать. Если он на улице у тебя что-то спросил, а ты не ответила, он тебя фотографирует на телефон и идёт в полицию. Хорошо, если только штрафом отделаешься, могут и с работы попереть. Она, дура, зашла, этот в пальто следом, ну и остальные из-за деревьев выскочили. Уже вечер был, как их разглядеть? В общем, по полной. Она месяц в больнице лежала. Ещё и зажигалкой прижгли. Я – не в Париж, а в полицию на допрос. Они решили, что это я сомалийцев на Шапирюзу навела, чтобы работать на две ставки. Хотели рабочую визу закрыть. В общем, – махнула рукой, – пролетел Париж. А во сне он мне понравился, – добавила после паузы каким-то странным, как будто уже спала, голосом. – Дома углами стоят, как утюги, гладят улицы, как брюки, всюду сирень и… негры. Один здоровый бык штаны спустил – и прямо на скамейку… из шланга. Они так в парках всегда делают. Я бабушкину древнюю частушку вспомнила: «Из-за леса, леса тёмного привезли его, огромного…» Совершенно меня не стеснялся.
– И что там, в Париже? – неожиданно заинтересовался Объёмов. Дело в том, что ему тоже видеть сны было интереснее, чем жить. И города в его снах были реальнее настоящих. Некоторые – настолько, что Объёмов путался, во сне или наяву он их посещал. Он не сомневался, что в общечеловеческой сети снов существует портал несуществующих городов, где у каждого пользователя открыта собственная страничка. Писатель Александр Грин совершенно точно брал названия – Гель-Гью, Лисс, Зурбаган – из альтернативного географического атласа.
– А я туда, не поверишь, – тоже перешла на «ты» буфетчица, – на симпозиум приехала! Это здесь я никто и звать никак, а во сне… – подмигнула Объёмову, – уважаемый человек. Правда, не понять, из какой оперы. Серьёзные проблемы разруливаю, и всё по уму, по справедливости. А как проснусь, всё через… – огорчённо махнула рукой. – Хотя, – продолжила задумчиво, – и во сне меня поначалу обижали, не хотели разговаривать.
– Негры? – подсказал Объёмов.
– Одеяла выдавали в одном учреждении. – Она как будто не расслышала глупого вопроса. – Всем – пожалуйста, а мне нет! Так обидно! Наверное, замёрзла ночью, вот и приснилось. Но ведь не дали! А недавно, когда же это… да позавчера, на авиабазу попала. Я, когда в техникуме училась, там практику проходила, стояла в столовой на раздаче. Как в космонавты отбирали: характеристика, допуск, анкета. С Лёшкой познакомилась. Капризный был: рис, говорит, у тебя непроваренный и салат с песком. Я ему: не по званию претензии, лейтенантик, ешь, что дают! С первого раза у нас не задалось. Сразу захотел полный обед с десертом! Послала его. Но адрес оставила. Письма писал, пока я на сухогрузах плавала, а потом за мной приехал. Проняло его. Капитаном уже был, командиром звена. Нам сразу квартиру дали, определили меня в столовую завпроизводством. Больше на раздаче не стояла. А во сне опять… понизили. Все мимо меня с подносами. Молоденькие, красивые, совсем не состарились. Лёшка в очереди, только на погонах почему-то пять странных каких-то, ушастых таких звёздочек. Наверное, там у них другие звания и знаки различия. И ещё заметила, что в зале столы в четыре ряда, а на окнах жалюзи. Такого не было. В три ряда всегда столы стояли, тюлевые занавески, каждую неделю стирали.
– И всё? – разочарованно спросил Объёмов.
– Не всё, – вздохнула буфетчица, – он со мной… по-немецки заговорил.
– Кто?
– Да Лёшка! И куртка на нём была странная – военная, но не наша, точно не наша. С тремя карманами на груди. И не на пуговицах, не на молнии – на железных таких квадратиках. Как он её застёгивал? От борща и котлеты с пюре отказался. Два компота попросил.
– Пить хотел?
– Не знаю. Поставил стаканы на поднос, а потом сказал: «Вернусь с задания, получу премию, поедем в Умань дом покупать». Я удивилась: с каких это пор стали пилотам премии давать, чтобы на дом в Умани хватило? А он мне так серьёзно: «Это не задание – миссия! Всё уже решено, хоть никто об этом не знает». Что решено? Какая миссия? Лёшка сроду такого слова не говорил, да ещё… по-немецки!
– А дальше-то что? – Объёмов вдруг как будто увидел эту полуденную столовую, поднос с двумя стаканами светящегося на солнце компота, человека в странной куртке с тремя карманами на груди и с застёжками в виде железных квадратиков. Он тоже не представлял, как они застёгиваются и расстёгиваются. И ещё у него возникло ощущение, что где-то он уже всё это видел, слышал, а может, читал? Неужели… во сне? – испугался Объёмов. Перевёл дух. Не во сне. Он точно не стоял в той очереди за пилотом с пятью ушастыми звёздочками на погонах. Иначе бы знал, что дальше. А он не знал.
– Только задание будет долгим, сказал, выпил компот, выплюнул косточку на поднос, придётся тебе меня подождать. Я хотела его полотенцем по морде, но тут сирена врубилась, наверное, мировая война началась, все разбежались, я одна в столовой осталась, не позвали меня почему-то в бомбоубежище. Как это объяснить?
Объёмов пожал плечами.
– Но всё равно, такое счастье… Хоть во сне… – Блеснув слезами, буфетчица взяла со стола графинчик, от которого никак не мог отлепиться взгляд Объёмова, поставила на поднос. – Дед говорит, – продолжила уже другим, померкшим, как опустевший графинчик, как проводивший его взгляд Объёмова, голосом, – если спать становится интересней, чем жить, значит, дело к концу. Надо срочно что-то менять, чтобы не пропасть. А ещё говорит, что если первая половина жизни даётся человеку в радость, то вторая – в наказание. Хотя у него-то наоборот. Первая половина – война и лагерь, вторая – кум королю, живи и радуйся. Неужели отпишет дом… школьной крысе?
– Сколько ему, восемьдесят пять? – припомнил Объёмов. – Уже не вторая, а… третья половина. Или третьей не бывает?
– Бывает, – охотно подтвердила буфетчица. – Она самая длинная, потому что это ожидание. Каждый чего-то ждёт. А… чего?
– Мало! – возмутился Объёмов. – Кто живого Гитлера видел – по пальцам пересчитать, сколько их осталось? – Объёмов вдруг замолчал, как подавился, вспомнив, что однажды и не через вторые руки, как сейчас, а напрямую общался с одной такой личностью. Фюрер как будто навязывал ему своё общество.
Зачем?
Писателю Василию Объёмову одновременно хотелось и не хотелось исследовать процесс возвращения мифа, выяснять, говоря по-простому, откуда у мифа ноги растут.
Они отрастали вполне естественно, как у ящерицы, в соответствии с природой мифа. Пока что это были замаскированные, как и сам возрождающийся миф, ноги. Внимательному и пытливому наблюдателю он (если) открывался в виде голого короля в новом формате. Этого короля окружающие изначально полагали голым и, следовательно, невозможным для публичного появления в толерантном мультикультурном пространстве, а потому – в упор не видели. Он не существовал, не мог существовать, поскольку после Освенцима нельзя было сочинять стихи о розах. В исторических музеях разных европейских городов Объёмову доводилось читать немецкие листовки времён Второй мировой войны. На обратной стороне там обычно уточнялось, что если кто, сдаваясь в плен, предъявит листовку, то ему гарантируется гуманное отношение, а если предъявитель листовки до начала войны проживал на оккупированной в настоящее время вермахтом территории, то ему, возможно, будет позволено вернуться домой и заняться мирным трудом во славу Тысячелетнего рейха. Сдавшихся с этими листовками в плен советских бойцов расстреливали тысячами, точно так же как и тех, кто сдался без листовок. Голый король не видел между ними разницы. Ему было плевать, кто считал его голым, кто – одетым, а кто вообще его не видел. Приговор обжалованию не подлежал. Это был опыт, вокруг которого, как кот вокруг плошки со сметаной, кругами ходил, облизываясь, новый мир.
Но так дело обстояло раньше, когда король был в силе. Сейчас, не существуя, он составлял другие адресные листовки.
На немецком языке: немцы не хотели войны, их втянули в неё, чтобы погубить, согнать со столбовой дороги на безнациональную и постхристианскую обочину, перемешать с различными позорными меньшинствами, чтобы немцы навсегда забыли про триумф воли. И вообще, они хотели добра, но Сталин и русская армия вынудили их превратиться в зверей.
На всемирном, как некогда латынь, английском: Гитлер был хорош, потому что, проиграв войну, на долгие годы (во всех смыслах) опустил Германию, превратил в дойную корову для новой – объединённой, толерантной и мультикультурной Европы. Гитлер был плох, потому что перед тем, как самому быть уничтоженным, он не смог уничтожить СССР.
На русском: Сталину нет и не может быть прощения за то, что он сделал СССР великим и могучим, оснастил ядерным оружием, добился того, что никакая свинья не могла просунуть рыло в его социалистический огород. Но войну выиграл не Сталин как главнокомандующий и не русский, а обобщённый, проживавший на территории тогдашнего СССР советский народ. За что теперешний – опять же обобщённый, но уже российский – народ ему благодарен не меньше, чем за разрушение проклятого СССР. А больше ни за что не благодарен, потому что всё остальное – рабство и позор!
– А потом он посмотрел в небо на самолёты, которые летели над Уманью бомбить Киев. – Буфетчица подошла к столу, поправила в металлическом держателе красные, свесившиеся набок, как петушиный гребень, салфетки. – И… Но это… – приложила палец к губам, – тайна!
– Кто? – Объёмов вдруг ясно осознал, что перед ним сумасшедшая, причём опасно сумасшедшая. С подобных, подумал он, ложных социально-исторических синдромов и начинаются революции. Они – невидимо горящие под ногами торфяники. Всё спокойно, но вдруг почва проваливается и привычная жизнь летит в огненную про(пасть). Но чтобы в России, ладно, пусть не в России, а в Белоруссии, которая ещё недавно была Россией, буфетчицы вели с клиентами беседы о Гитлере…
Надо сматываться.
Но в графинчике ещё оставалась водка, а буфетчица, хоть и поблескивала нехорошо глазами, пока не проявляла агрессивности. Интересно, подумал Объёмов, если я не буду уточнять, что сказал Гитлер, она… разъярится или, наоборот, сникнет?
Не угадал.
Буфетчица, качнув затянутыми в чёрные штаны бёдрами, как сдвоенным маятником, скрылась на кухне, напевая себе под нос. До Объёмова донеслись слова «ридна», «кохана» и, кажется, «дивчина».
Наверное, это я сумасшедший! Он схватил графинчик за длинное горлышко, решительно – до последней капли – вылил водку в рюмку. Какое мне дело, что сказал в Умани Гитлер, если я точно знаю, что это бред! Не мог он ходить по рынку, прицениваться к подсолнухам! Объёмов ни к селу ни к городу припомнил, что Гитлер вроде бы сносно знал французский язык и будто бы даже одна девушка во Франции родила от него сына, которого Гитлер, правда, так и не увидел, потому что в восемнадцатом году немецкие войска покинули Францию… Странно, что потом, когда они туда в сороковом году триумфально вернулись, недоказанный сын никак себя не обозначил, хотя, казалось бы… А что, если и в Умани… ходил-ходил по рынку, а потом шасть к подсолнуховой бабе… Графинчик в руке Объёмова играл на свету, искрился рубчатыми боками. Как граната, усмехнулся про себя Объёмов, особенно если взять да бросить его в стену. Он не сомневался, что летали, летали в этом заведении графинчики, хорошо, если в стены, а не в пьяные хари, не могли не летать. «Гитлер в Умани» – отличное название для пьесы, всё действие – на рынке среди лотков с продовольственным ассортиментом военного времени, со свиными, бычьими и бараньими (образы народов) головами на прилавках. С жужжащими то тихо, то нестерпимо мухами в виде маленьких черепов со скрещенными костями – лазерными точками по всей сцене, чтобы у зрителей кружилась голова. Четыре персонажа: Гитлер, переводчик из белых казаков, баба с подсолнухами, мальчишка, научившийся от колонистов немецкому языку… Каждый про своё. Гитлер – про новый арийский мировой порядок. Казак-переводчик – про великую и неделимую Россию. Баба – про мужа, детей, коллективизацию и голодомор. Мальчишка – про… что? Про Украину, так сказать, сердцем воспринявшую спустя семьдесят лет… Нет, это в лоб, примитивно. Тогда про свою будущую жизнь после Великой Победы, про конец СССР, про эту… в очочках, у которой губки ленточкой, про то, что у него всё ещё встаёт, про немцев, которые приедут в Умань через семьдесят лет снимать фильм о… тебе, Гитлер! А в финале – короткие монологи голов (народов), что есть война, революция, человеческая жизнь и идеология. Хор подсолнухов, как у древних греков: воля богов, мимесис, рок, фатум, судьба! Но кто поставит, какой театр возьмёт? Сволочи!
– Что сказал Гитлер? – грозно вопросил в кухонное пространство Объёмов, потрясённый величием внезапного драматургического замысла. Он был похож на взметнувший посреди пустоши дворец с башнями, мансардами и висячими садами Семирамиды. В моменты мгновенной ослепительной жизни таких замыслов Объёмов обретал мгновенную же уверенность в себе.
– Он сказал: «Es ist noch zu fr?h», – донеслось до него сквозь шум туго бьющей в металлическую раковину струи воды.
– Ещё… рано? – мобилизовав всё своё случайное знание, точнее незнание немецкого языка, неуверенно перевёл Объёмов.
– Ja, genau so, – подтвердила буфетчица.
– А ты… откуда знаешь немецкий? – растерялся Объёмов.
– За два-то года, пока драила сортиры в Лейпциге, – усмехнулась она, – научилась. Я, кстати, в Ильичёвске пищевой техникум с отличием окончила! Три года по распределению на сухогрузах при пищеблоках плавала. Так что… можем.
– Рано… что он имел в виду?
– Понятия не имею, – сухо, без прежней доброжелательности, скрипуче, как если бы двигала по полу стол, ответила Каролина. – Он не уточнил. За что купила, за то и продаю. Он долго в небо смотрел. Может, что самолёты рано полетели, а может, что-то, – добавила совсем мрачно, – услышал сверху, понял, что поспешил.
– Но людей не насмешил. Спасибо! Было очень вкусно, – выпил «на посошок», выхватил из петушиного в железном держателе гребня красную салфетку, вытер привычно скривившиеся губы Объёмов. – Пойду к себе. Я точно вам ничего не должен? – Он снова перешёл с ней на безличное «вы». Наметившаяся между ними уитменовская близость разлетелась на кусочки, как если бы была тем самым, пущенным в стену пьяной рукой графинчиком. Морской (три года на сухогрузах), сухопутный (сортиры в Лейпциге), воздушный (вдова пилота) – трёхстихийный – background буфетчицы придавил Объёмова, лишил комфортного ощущения собственного интеллектуального превосходства. Я что-то выдумываю, мучаюсь, вздохнул он, а бестселлеры… Они, как жизнь, везде. Пусть даже это странная жизнь после смерти, как сейчас в этой… Умани. Нет жизни – нет бестселлеров! Но разве не имеет права на существование мой бестселлер об исчезновении жизни? Я всю свою жизнь сочиняю исчезающий бестселлер, но, похоже, жизнь моя исчезнет раньше, чем он будет написан.
– На боковую? – Буфетчица вышла из кухни, зигзагом обогнула стойку, остановилась, блестя чёрными вороньими глазами, у стола, из-за которого только что поднялся Объёмов. Что ей Гитлер, с неожиданной тоской подумал Объёмов, да её бы… в первый же день с такой-то внешностью в ближайший концлагерь! Хотя Одессу, кажется, держали румыны.
– Не знаю… – Он зачем-то посмотрел на часы, но без очков не разглядел, который час. Стрелки как будто растворились в неясном, как исчезающая в тумане жизнь, циферблате. – Я бы прогулялся по городу, но дождь…
– В дождь хорошо спится. – Она начала собирать на поднос пустые и не пустые тарелки. Объёмов так и не прикоснулся к вздыбленному бордовому винегрету и к куриному рулету в желе, как в жёлтом увеличительном стекле. – Я сама после девяти только и думаю, как доползти до кровати… – Буфетчица непроизвольно зевнула, едва успев прикрыть рот рукой.
– Да? – ответно и тоже непроизвольно зевнул Объёмов. Дарвин прав, успел подумать он, щёлкнув челюстью, – человек точно произошёл от обезьяны. Он понимал, что надо уходить, но почему-то медлил, более того, мелькнула мыслишка, а не махануть ли ещё на сон грядущий водочки? Как она сказала: в дождь хорошо спится? Спится или спиться? Какая, в сущности, разница? – Устаёте на работе? – с неискренним участием поинтересовался он.
– Совсем не устаю. Какая тут работа? Через день, посетителей мало. Сегодня вообще вы один. Не в этом дело.
– А в чём?
– В том, что спать интереснее, чем жить.
– Как это? – Объёмов чуть было не уточнил: «С Гитлером?» Но сдержался. Он с юных лет исповедовал принцип: если не знаешь, как отреагирует собеседник, лучше молчи. Это спасало от многих возможных неприятностей. Хотя и не всегда. Молчание было свободно (в любую сторону) конвертируемой валютой.
– А вот так, – ответила буфетчица. – Во сне я… живая, где-то хожу, что-то вижу, встречаюсь с разными людьми. То в Одессе, то в Витебске, то вообще… – вздохнув, посмотрела на нетронутые тарелки с винегретом и затаившимся в дрожащем янтаре куриным рулетом, – в Париже, – призналась почему-то шёпотом. – Я там, кстати, не была. Хотела из Германии на автобусе съездить, не получилось. Шапирюзу – мою напарницу, мы тогда в Лейпциге, в парке Белантис, где египетская пирамида, работали, – сомалийцы изнасиловали в мужском сортире. Он на отшибе стоял, вокруг деревья, кусты, даже днём темно. Она как чувствовала, боялась заходить. Но они ушли, а один в приличном пальто задержался, вроде он не с ними. Украл, наверное, где-то пальто. Мадам, мадам, ребёнку, моему сыну, плохо, потерял сознание, побудьте с ним, а я в медпункт за врачом. Шапирюза раньше в универмаге на кассе сидела, привыкла людей по одежде оценивать, а потом у нас в договорах было записано, что беженцам надо помогать. Если он на улице у тебя что-то спросил, а ты не ответила, он тебя фотографирует на телефон и идёт в полицию. Хорошо, если только штрафом отделаешься, могут и с работы попереть. Она, дура, зашла, этот в пальто следом, ну и остальные из-за деревьев выскочили. Уже вечер был, как их разглядеть? В общем, по полной. Она месяц в больнице лежала. Ещё и зажигалкой прижгли. Я – не в Париж, а в полицию на допрос. Они решили, что это я сомалийцев на Шапирюзу навела, чтобы работать на две ставки. Хотели рабочую визу закрыть. В общем, – махнула рукой, – пролетел Париж. А во сне он мне понравился, – добавила после паузы каким-то странным, как будто уже спала, голосом. – Дома углами стоят, как утюги, гладят улицы, как брюки, всюду сирень и… негры. Один здоровый бык штаны спустил – и прямо на скамейку… из шланга. Они так в парках всегда делают. Я бабушкину древнюю частушку вспомнила: «Из-за леса, леса тёмного привезли его, огромного…» Совершенно меня не стеснялся.
– И что там, в Париже? – неожиданно заинтересовался Объёмов. Дело в том, что ему тоже видеть сны было интереснее, чем жить. И города в его снах были реальнее настоящих. Некоторые – настолько, что Объёмов путался, во сне или наяву он их посещал. Он не сомневался, что в общечеловеческой сети снов существует портал несуществующих городов, где у каждого пользователя открыта собственная страничка. Писатель Александр Грин совершенно точно брал названия – Гель-Гью, Лисс, Зурбаган – из альтернативного географического атласа.
– А я туда, не поверишь, – тоже перешла на «ты» буфетчица, – на симпозиум приехала! Это здесь я никто и звать никак, а во сне… – подмигнула Объёмову, – уважаемый человек. Правда, не понять, из какой оперы. Серьёзные проблемы разруливаю, и всё по уму, по справедливости. А как проснусь, всё через… – огорчённо махнула рукой. – Хотя, – продолжила задумчиво, – и во сне меня поначалу обижали, не хотели разговаривать.
– Негры? – подсказал Объёмов.
– Одеяла выдавали в одном учреждении. – Она как будто не расслышала глупого вопроса. – Всем – пожалуйста, а мне нет! Так обидно! Наверное, замёрзла ночью, вот и приснилось. Но ведь не дали! А недавно, когда же это… да позавчера, на авиабазу попала. Я, когда в техникуме училась, там практику проходила, стояла в столовой на раздаче. Как в космонавты отбирали: характеристика, допуск, анкета. С Лёшкой познакомилась. Капризный был: рис, говорит, у тебя непроваренный и салат с песком. Я ему: не по званию претензии, лейтенантик, ешь, что дают! С первого раза у нас не задалось. Сразу захотел полный обед с десертом! Послала его. Но адрес оставила. Письма писал, пока я на сухогрузах плавала, а потом за мной приехал. Проняло его. Капитаном уже был, командиром звена. Нам сразу квартиру дали, определили меня в столовую завпроизводством. Больше на раздаче не стояла. А во сне опять… понизили. Все мимо меня с подносами. Молоденькие, красивые, совсем не состарились. Лёшка в очереди, только на погонах почему-то пять странных каких-то, ушастых таких звёздочек. Наверное, там у них другие звания и знаки различия. И ещё заметила, что в зале столы в четыре ряда, а на окнах жалюзи. Такого не было. В три ряда всегда столы стояли, тюлевые занавески, каждую неделю стирали.
– И всё? – разочарованно спросил Объёмов.
– Не всё, – вздохнула буфетчица, – он со мной… по-немецки заговорил.
– Кто?
– Да Лёшка! И куртка на нём была странная – военная, но не наша, точно не наша. С тремя карманами на груди. И не на пуговицах, не на молнии – на железных таких квадратиках. Как он её застёгивал? От борща и котлеты с пюре отказался. Два компота попросил.
– Пить хотел?
– Не знаю. Поставил стаканы на поднос, а потом сказал: «Вернусь с задания, получу премию, поедем в Умань дом покупать». Я удивилась: с каких это пор стали пилотам премии давать, чтобы на дом в Умани хватило? А он мне так серьёзно: «Это не задание – миссия! Всё уже решено, хоть никто об этом не знает». Что решено? Какая миссия? Лёшка сроду такого слова не говорил, да ещё… по-немецки!
– А дальше-то что? – Объёмов вдруг как будто увидел эту полуденную столовую, поднос с двумя стаканами светящегося на солнце компота, человека в странной куртке с тремя карманами на груди и с застёжками в виде железных квадратиков. Он тоже не представлял, как они застёгиваются и расстёгиваются. И ещё у него возникло ощущение, что где-то он уже всё это видел, слышал, а может, читал? Неужели… во сне? – испугался Объёмов. Перевёл дух. Не во сне. Он точно не стоял в той очереди за пилотом с пятью ушастыми звёздочками на погонах. Иначе бы знал, что дальше. А он не знал.
– Только задание будет долгим, сказал, выпил компот, выплюнул косточку на поднос, придётся тебе меня подождать. Я хотела его полотенцем по морде, но тут сирена врубилась, наверное, мировая война началась, все разбежались, я одна в столовой осталась, не позвали меня почему-то в бомбоубежище. Как это объяснить?
Объёмов пожал плечами.
– Но всё равно, такое счастье… Хоть во сне… – Блеснув слезами, буфетчица взяла со стола графинчик, от которого никак не мог отлепиться взгляд Объёмова, поставила на поднос. – Дед говорит, – продолжила уже другим, померкшим, как опустевший графинчик, как проводивший его взгляд Объёмова, голосом, – если спать становится интересней, чем жить, значит, дело к концу. Надо срочно что-то менять, чтобы не пропасть. А ещё говорит, что если первая половина жизни даётся человеку в радость, то вторая – в наказание. Хотя у него-то наоборот. Первая половина – война и лагерь, вторая – кум королю, живи и радуйся. Неужели отпишет дом… школьной крысе?
– Сколько ему, восемьдесят пять? – припомнил Объёмов. – Уже не вторая, а… третья половина. Или третьей не бывает?
– Бывает, – охотно подтвердила буфетчица. – Она самая длинная, потому что это ожидание. Каждый чего-то ждёт. А… чего?