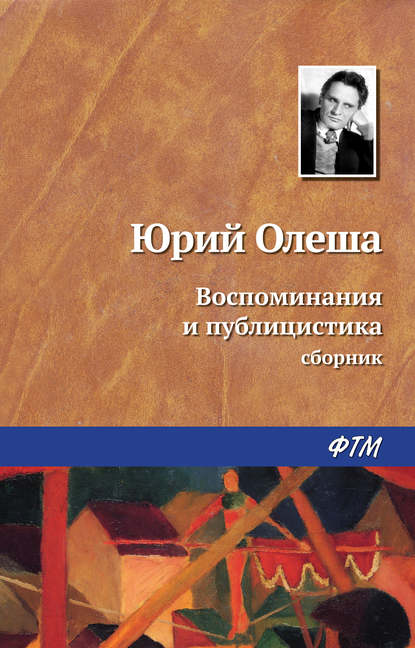По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Воспоминания и публицистика
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Что же увидел он и понял?
О чем с наибольшим волнением сказано в «Одноэтажной Америке»?
Об индейцах и неграх. Да, это книга об индейцах и неграх.
В Америке увидел Ильф чистоту, благородство и человечность индейцев, презираемых белыми угнетателями. Он восторженно вспоминает о том, что индейцы отказываются разговаривать с белыми. С необычайной выразительностью описана история миссионера, который, вместо того чтобы насаждать среди краснокожих христианство, сам проникся духом индейцев настолько, что остался жить среди них, перенял их обычаи – и счел это огромной удачей своей жизни.
Нельзя без гордости за ум и душу советского писателя читать такие строки:
«…есть в Южных штатах что-то свое, собственное, особенное, что-то удивительно милое, теплое. Природа? Может быть, отчасти и природа. Здесь нет вылощенных пальм и магнолий, начищенного солнца, как в Калифорнии. Но зато нет и сухости пустыни, которая все же чувствуется там. Южные штаты – это страна сельских ландшафтов, лесов и печальных песен. Но, конечно, не в одной природе дело. Душа Южных штатов – люди. И не белые люди, а черные».
Вот что увидел Ильф в Америке. Это было последнее, что он увидел и рассказал. Такими великолепными словами окончилась его литературная деятельность.
Она окончилась очень рано, и мы чувствуем, как тяжела наша утрата.
Как жаль, что больше нет с нами Ильфа, милого Ильфа, неповторимого человека, нашего друга, спутника молодости!
Я хочу повторить слова поэта Асеева, сказанные им у гроба Ильфа: о том, что Ильф был одним из тех людей, которым можно доверить свою жизнь.
1937
Встречи с Алексеем Толстым
Вот рассказ о том, как я с ним познакомился.
Я помню, открываются какие-то двери (это происходит в 1918 году, в Одессе, у одного из местных меценатов, который пригласил нас, группу молодых одесских поэтов, для встречи с недавно прибывшими в наш город петербургскими литераторами, в том числе и с Алексеем Толстым), и в раме этих дверей, как в раме картины, стоит целая толпа знаменитых людей. Тотчас же я узнаю Толстого по портрету Бакста. Это он, он! Надо сказать, что наша группа (в ней, между прочим, среди других начинали также и такие впоследствии крупные деятели советской литературы, как Эдуард Багрицкий и Валентин Катаев) относилась к Алексею Толстому сложно: он не мог, разумеется, не вызывать в нас восхищения, однако в то время, как восхищение наше, скажем, Буниным или Александром Блоком было чистым, восхищаться Алексеем Толстым – писателем, вошедшим в литературу позже, чем названные, – мешало нам как раз то рассуждение, что вот, мол, не слишком старше нас, а смотрите, как уже знаменит… Словом, мы восхищались Алексеем Толстым именно так, как восхищаются старшим братом, – не без оттенка некоторого раздражения, некоторой зависти. При такой предпосылке, естественно, могло бы случиться и так, что мы встретили бы его со сдержанностью… Но нет, я смотрю на товарищей и вижу на их лицах радость! Ну конечно же, поскольку мы и всегда в глубине души понимали, что глупо ставить себя – начинающих! – на один уровень с автором «Хромого барина» и «Парижских рассказов», то теперь, когда он появился перед нами во всем своем очаровании, эта наша мальчишеская заносчивость улетучилась мгновенно!
Так вот какой он! Эта наружность кажется странной – может быть, даже чуть комической. Тогда почему же он не откажется хотя бы от такого способа носить волосы – отброшенными назад и круто обрубленными над ушами? Ведь это делает его лицо, и без того упитанное, прямо-таки по-толстяцки округлым! Также мог бы он и не снимать на такой длительный срок пенсне (уже давно пора надеть, а он все держит его в несколько отведенной в сторону руке) – ведь видно же, что ему трудно без пенсне: так трудно, что переносицей его даже завладевает тик! Странно, зачем он это делает? И вдруг понимаешь: да ведь он это нарочно! Ловишь переглядывание между ним и друзьями… Да, да, безусловно, так: он стилизует эту едва намеченную в его облике комичность! Развлекая и себя и друзей, он кого-то играет. Кого? Не Пьера ли Безухова? Может быть! А не показывает ли он нам, как должен выглядеть один из тех чудаков помещиков, о которых он пишет?
– Толстой! – представляется он первому из нас, кто к нему поближе.
Представляется следующему:
– Толстой!
И дальше:
– Толстой! Толстой! Толстой!
Мы – южане, и мы еще никогда не слышали такого выговора. Впечатление настолько сильное, что тут же им хочется поделиться… Я ищу руку соседа, вот она уже в моей (как видно, и он искал мою!), и следует рукопожатие, как бы говорящее: «Да, да, еще бы! Я в восторге! А ты?»
– Толстой! – льется музыка русской речи. – Толстой! Гляди, Амари, кошка у аквариума!
Пока гонят кошку, мы с жадностью рассматриваем того, к кому он обратился. Он вошел вместе с ним, этот Амари. Кто он? Амари! Это что же фамилия? Имя?
– Миллионер, – произносит кто-то поблизости шепотом.
– Миллионер? – переспрашивает кто-то довольно громко, не то не поняв, не то в ошеломлении от того, что видит миллионера.
Его толкают под бок – тише, мол, что ты! Лицо миллионера поворачивается на шум и на некоторое время становится нам, стоящим в этом месте (в том числе и мне), хорошо видным. Попав в зеленый отблеск абажура, оно и само приобретает зеленую окраску, а так как это лицо с обвисшими на краях, как у викинга, усами красиво, то, став зеленым, оно не стало смешным, а, наоборот, жутким, – казалось, что медленно погружается на дно утопающий. Что ж, не далек срок, когда они и в самом деле погрузятся на дно – русские миллионеры!
– А это Теффи! – сообщает один из нас.
– Теффи?
– Да, да, Теффи!
Подумать только, наше внимание настолько сосредоточено на Толстом, что мы, оказывается, равнодушно скользили взглядом даже по такой знаменитости, как писательница Теффи! Ведь появись она не в качестве спутницы Алексея Толстого, а сама по себе, ого, какая это была бы сенсация! Шутка ли – сотрудница «Сатирикона» Теффи! Ведь мы прямо-таки наизусть знаем ее превосходные (хоть написанные лишь во имя юмора, но тем не менее целиком в литературе) рассказы… Еще пишет она и стихи (гораздо ниже, разумеется, стихов ее сестры Мирры Лохвицкой). Мы и не ставим их слишком высоко, однако нам нравятся такие, например, строки:
Три юных пажа покидали
Навеки свой берег родной,
В глазах у них слезы стояли,
И горек был ветер морской.
Конечно, все это дилетантизм: «покидали – стояли», «родной – морской», «пажи», «слезы», – но поскольку мы молоды, то нам приятно иногда просто погрустить.
Вскоре покинет «свой берег родной» и сама Теффи!
Случится это и с Толстым, – но как быстро, как бурно он поймет свою ошибку!
– Ну что ж, господа, – раздается голос хозяина дома, – решайте сами: сейчас чтение или после ужина?
И вот длинный стол ужина, трилистники петрушки на заливных, – и так много нас, молодых и не слишком часто сытых поэтов, пришло на ужин, что некуда деть локти… То и дело Толстой, видим мы, наклоняется к сидящей рядом юной его жене, поэтессе Наталье Крандиевской, и что-то говорит ей. Это о нас, конечно. Вот он посмотрел на меня и что-то сказал. О, если бы знать – что! Безусловно, мы ему нравимся. И верно: как может не понравиться поэту и писателю, например, Багрицкий с его выражающейся во всем облике вдохновенностью, с его сверкающими, поистине как звезды, глазами, с его мощными высказываниями о поэзии, которые сквозь пиршественный гул все же доносятся до гостя? Как может не понравиться Адалис с ее молчанием и улыбкой какой-то странной статуи? Или Катаев с его градом острот?
Как может не понравиться Юрий Олеша, который… Вот как раз Юрий Олеша и провалился!
Я тогда написал цикл стихов на темы пушкинских произведений – с десяток вещиц, каждая из которых являлась своего рода стихотворной иллюстрацией к тому или иному произведению: одна к «Пиковой даме» (стихотворение так и называлось – «Пиковая дама», и в нем изображалось, как Герман входит в зал, где сейчас проиграет), другая – к «Каменному гостю» (как статуя командора покидает кладбище), третья – к «Моцарту и Сальери» (описывается наружность Сальери). Они у меня не сохранились, эти юношеские стихи; в памяти лежит только несколько обломков… Это было не совсем плохо! Например, в стихотворении, посвященном изображению самого Пушкина, сказано о цилиндре, в котором ходил поэт, что он смешной, а плащ поэта назван крылатым…
…в плаще крылатом,
В смешном цилиндре тень твоя!
Также в этом стихотворении есть строки, в которых автор грустит по поводу того, что не может «согреть своим дыханием»
Его хладеющие руки
На окровавленном снегу!
Впрочем, «хладеющие руки» взято из самого Пушкина: «Для берегов отчизны дальной»… Так в том-то и дело, что эти стихи были далеко не совершенными, а я, упоенный признанием товарищей и одесских критиков (один из них даже дал моему циклу выспреннее название – «Пушкинианы»), считал их совершенными! Вот Толстой и свернул голову этой цыплячьей упоенности.
Сейчас я расскажу, как это произошло, но сперва пусть ликует воспоминание о том, как восхищенно слушал Алексей Толстой стихи моих товарищей. Багрицкий прочел своего прославленного «Суворова», Валентин Катаев «Три сонета о любви…», Адалис выступила с тем, что представлялось ей подражанием древней поэзии, а на самом деле просто с превосходными стихами, отмеченными необыкновенной, даже неожиданной для начинающего поэта точностью слова; Борис Бобович – с его отточенным «Казбеком»; Зинаида Шишова, как и Катаев, тоже со стихами о любви, только более трагическими.
– Наташа, а? – слышалось из уст Толстого после каждого выступления. – Здорово!
Наташу я помню с серьезностью аплодирующей.
– Амари, а?
Как все усатые люди, Амари выражал одобрение именно пощипыванием уса.
Пока Толстой общался со своими, переглядывались также и мы. «Да, да, прочитывали мы в горящих взглядах друг друга, – мы показали себя старшему брату, показали!»
О чем с наибольшим волнением сказано в «Одноэтажной Америке»?
Об индейцах и неграх. Да, это книга об индейцах и неграх.
В Америке увидел Ильф чистоту, благородство и человечность индейцев, презираемых белыми угнетателями. Он восторженно вспоминает о том, что индейцы отказываются разговаривать с белыми. С необычайной выразительностью описана история миссионера, который, вместо того чтобы насаждать среди краснокожих христианство, сам проникся духом индейцев настолько, что остался жить среди них, перенял их обычаи – и счел это огромной удачей своей жизни.
Нельзя без гордости за ум и душу советского писателя читать такие строки:
«…есть в Южных штатах что-то свое, собственное, особенное, что-то удивительно милое, теплое. Природа? Может быть, отчасти и природа. Здесь нет вылощенных пальм и магнолий, начищенного солнца, как в Калифорнии. Но зато нет и сухости пустыни, которая все же чувствуется там. Южные штаты – это страна сельских ландшафтов, лесов и печальных песен. Но, конечно, не в одной природе дело. Душа Южных штатов – люди. И не белые люди, а черные».
Вот что увидел Ильф в Америке. Это было последнее, что он увидел и рассказал. Такими великолепными словами окончилась его литературная деятельность.
Она окончилась очень рано, и мы чувствуем, как тяжела наша утрата.
Как жаль, что больше нет с нами Ильфа, милого Ильфа, неповторимого человека, нашего друга, спутника молодости!
Я хочу повторить слова поэта Асеева, сказанные им у гроба Ильфа: о том, что Ильф был одним из тех людей, которым можно доверить свою жизнь.
1937
Встречи с Алексеем Толстым
Вот рассказ о том, как я с ним познакомился.
Я помню, открываются какие-то двери (это происходит в 1918 году, в Одессе, у одного из местных меценатов, который пригласил нас, группу молодых одесских поэтов, для встречи с недавно прибывшими в наш город петербургскими литераторами, в том числе и с Алексеем Толстым), и в раме этих дверей, как в раме картины, стоит целая толпа знаменитых людей. Тотчас же я узнаю Толстого по портрету Бакста. Это он, он! Надо сказать, что наша группа (в ней, между прочим, среди других начинали также и такие впоследствии крупные деятели советской литературы, как Эдуард Багрицкий и Валентин Катаев) относилась к Алексею Толстому сложно: он не мог, разумеется, не вызывать в нас восхищения, однако в то время, как восхищение наше, скажем, Буниным или Александром Блоком было чистым, восхищаться Алексеем Толстым – писателем, вошедшим в литературу позже, чем названные, – мешало нам как раз то рассуждение, что вот, мол, не слишком старше нас, а смотрите, как уже знаменит… Словом, мы восхищались Алексеем Толстым именно так, как восхищаются старшим братом, – не без оттенка некоторого раздражения, некоторой зависти. При такой предпосылке, естественно, могло бы случиться и так, что мы встретили бы его со сдержанностью… Но нет, я смотрю на товарищей и вижу на их лицах радость! Ну конечно же, поскольку мы и всегда в глубине души понимали, что глупо ставить себя – начинающих! – на один уровень с автором «Хромого барина» и «Парижских рассказов», то теперь, когда он появился перед нами во всем своем очаровании, эта наша мальчишеская заносчивость улетучилась мгновенно!
Так вот какой он! Эта наружность кажется странной – может быть, даже чуть комической. Тогда почему же он не откажется хотя бы от такого способа носить волосы – отброшенными назад и круто обрубленными над ушами? Ведь это делает его лицо, и без того упитанное, прямо-таки по-толстяцки округлым! Также мог бы он и не снимать на такой длительный срок пенсне (уже давно пора надеть, а он все держит его в несколько отведенной в сторону руке) – ведь видно же, что ему трудно без пенсне: так трудно, что переносицей его даже завладевает тик! Странно, зачем он это делает? И вдруг понимаешь: да ведь он это нарочно! Ловишь переглядывание между ним и друзьями… Да, да, безусловно, так: он стилизует эту едва намеченную в его облике комичность! Развлекая и себя и друзей, он кого-то играет. Кого? Не Пьера ли Безухова? Может быть! А не показывает ли он нам, как должен выглядеть один из тех чудаков помещиков, о которых он пишет?
– Толстой! – представляется он первому из нас, кто к нему поближе.
Представляется следующему:
– Толстой!
И дальше:
– Толстой! Толстой! Толстой!
Мы – южане, и мы еще никогда не слышали такого выговора. Впечатление настолько сильное, что тут же им хочется поделиться… Я ищу руку соседа, вот она уже в моей (как видно, и он искал мою!), и следует рукопожатие, как бы говорящее: «Да, да, еще бы! Я в восторге! А ты?»
– Толстой! – льется музыка русской речи. – Толстой! Гляди, Амари, кошка у аквариума!
Пока гонят кошку, мы с жадностью рассматриваем того, к кому он обратился. Он вошел вместе с ним, этот Амари. Кто он? Амари! Это что же фамилия? Имя?
– Миллионер, – произносит кто-то поблизости шепотом.
– Миллионер? – переспрашивает кто-то довольно громко, не то не поняв, не то в ошеломлении от того, что видит миллионера.
Его толкают под бок – тише, мол, что ты! Лицо миллионера поворачивается на шум и на некоторое время становится нам, стоящим в этом месте (в том числе и мне), хорошо видным. Попав в зеленый отблеск абажура, оно и само приобретает зеленую окраску, а так как это лицо с обвисшими на краях, как у викинга, усами красиво, то, став зеленым, оно не стало смешным, а, наоборот, жутким, – казалось, что медленно погружается на дно утопающий. Что ж, не далек срок, когда они и в самом деле погрузятся на дно – русские миллионеры!
– А это Теффи! – сообщает один из нас.
– Теффи?
– Да, да, Теффи!
Подумать только, наше внимание настолько сосредоточено на Толстом, что мы, оказывается, равнодушно скользили взглядом даже по такой знаменитости, как писательница Теффи! Ведь появись она не в качестве спутницы Алексея Толстого, а сама по себе, ого, какая это была бы сенсация! Шутка ли – сотрудница «Сатирикона» Теффи! Ведь мы прямо-таки наизусть знаем ее превосходные (хоть написанные лишь во имя юмора, но тем не менее целиком в литературе) рассказы… Еще пишет она и стихи (гораздо ниже, разумеется, стихов ее сестры Мирры Лохвицкой). Мы и не ставим их слишком высоко, однако нам нравятся такие, например, строки:
Три юных пажа покидали
Навеки свой берег родной,
В глазах у них слезы стояли,
И горек был ветер морской.
Конечно, все это дилетантизм: «покидали – стояли», «родной – морской», «пажи», «слезы», – но поскольку мы молоды, то нам приятно иногда просто погрустить.
Вскоре покинет «свой берег родной» и сама Теффи!
Случится это и с Толстым, – но как быстро, как бурно он поймет свою ошибку!
– Ну что ж, господа, – раздается голос хозяина дома, – решайте сами: сейчас чтение или после ужина?
И вот длинный стол ужина, трилистники петрушки на заливных, – и так много нас, молодых и не слишком часто сытых поэтов, пришло на ужин, что некуда деть локти… То и дело Толстой, видим мы, наклоняется к сидящей рядом юной его жене, поэтессе Наталье Крандиевской, и что-то говорит ей. Это о нас, конечно. Вот он посмотрел на меня и что-то сказал. О, если бы знать – что! Безусловно, мы ему нравимся. И верно: как может не понравиться поэту и писателю, например, Багрицкий с его выражающейся во всем облике вдохновенностью, с его сверкающими, поистине как звезды, глазами, с его мощными высказываниями о поэзии, которые сквозь пиршественный гул все же доносятся до гостя? Как может не понравиться Адалис с ее молчанием и улыбкой какой-то странной статуи? Или Катаев с его градом острот?
Как может не понравиться Юрий Олеша, который… Вот как раз Юрий Олеша и провалился!
Я тогда написал цикл стихов на темы пушкинских произведений – с десяток вещиц, каждая из которых являлась своего рода стихотворной иллюстрацией к тому или иному произведению: одна к «Пиковой даме» (стихотворение так и называлось – «Пиковая дама», и в нем изображалось, как Герман входит в зал, где сейчас проиграет), другая – к «Каменному гостю» (как статуя командора покидает кладбище), третья – к «Моцарту и Сальери» (описывается наружность Сальери). Они у меня не сохранились, эти юношеские стихи; в памяти лежит только несколько обломков… Это было не совсем плохо! Например, в стихотворении, посвященном изображению самого Пушкина, сказано о цилиндре, в котором ходил поэт, что он смешной, а плащ поэта назван крылатым…
…в плаще крылатом,
В смешном цилиндре тень твоя!
Также в этом стихотворении есть строки, в которых автор грустит по поводу того, что не может «согреть своим дыханием»
Его хладеющие руки
На окровавленном снегу!
Впрочем, «хладеющие руки» взято из самого Пушкина: «Для берегов отчизны дальной»… Так в том-то и дело, что эти стихи были далеко не совершенными, а я, упоенный признанием товарищей и одесских критиков (один из них даже дал моему циклу выспреннее название – «Пушкинианы»), считал их совершенными! Вот Толстой и свернул голову этой цыплячьей упоенности.
Сейчас я расскажу, как это произошло, но сперва пусть ликует воспоминание о том, как восхищенно слушал Алексей Толстой стихи моих товарищей. Багрицкий прочел своего прославленного «Суворова», Валентин Катаев «Три сонета о любви…», Адалис выступила с тем, что представлялось ей подражанием древней поэзии, а на самом деле просто с превосходными стихами, отмеченными необыкновенной, даже неожиданной для начинающего поэта точностью слова; Борис Бобович – с его отточенным «Казбеком»; Зинаида Шишова, как и Катаев, тоже со стихами о любви, только более трагическими.
– Наташа, а? – слышалось из уст Толстого после каждого выступления. – Здорово!
Наташу я помню с серьезностью аплодирующей.
– Амари, а?
Как все усатые люди, Амари выражал одобрение именно пощипыванием уса.
Пока Толстой общался со своими, переглядывались также и мы. «Да, да, прочитывали мы в горящих взглядах друг друга, – мы показали себя старшему брату, показали!»