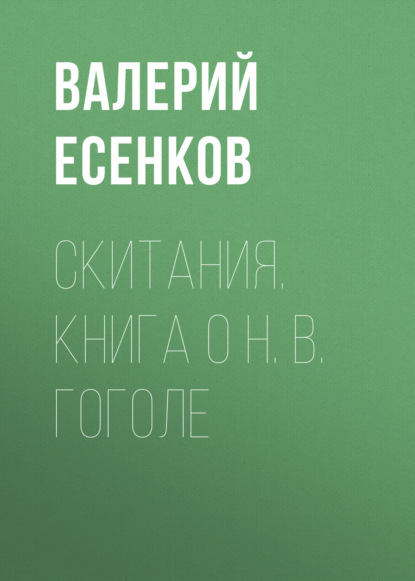По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Скитания. Книга о Н. В. Гоголе
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Затем, после всех поручений, оставался отъезд, который еще более вызывал недоумение и вопросительный взгляд москвичей. Одни не хотели понять, по какой такой надобности далась ему эта Италия. Другие же не шутя опасались, как бы он не понабрался там итальянского и таким образом не утратил бы своего прирожденного русского духа. Третьи таили обиду, что он с ними не посоветовался, ехать или не ехать ему, словно был он малый ребенок и сам не ведал ещё, что ему делать и как поступить.
Известие же о том, что, как только завершит второй том, он отправится непременно в Иерусалим поклониться гробу Господню, вызывало недоумение невероятное и даже, кажется, страх, не впал ли он уже в позорное ханжество, а Сергей Тимофеевич, человек твердой веры, глядел на него такими испуганными глазами, точно намеревался спросить, для чего ему ехать туда, да всё не решался, не понимая в растерянности, каковы у них отношения, и тут же перескакивая к мысли о том, что ему, возрастом старшему среди них, не пристало навязываться самому на доверенность.
Угадывая, какая малосъедобная каша заваривалась в этой слишком наивной душе, Николай Васильевич поощрял своего старшего друга быстрыми взглядами всё же спросить, что ничего не стрясется худого, даже если он не ответит, а их души от такого запроса станут ещё чуть поближе друг к другу. Зря старался, следовал неминуемый вывод. Знать, не находилось в его старшем друге той силы светлой любви, которой всё нипочем, и не набралось веры в силу его ответной светлой любви. Он опускал печально глаза и размышлял:
«Нашей души движения лирические сообщать кому бы то ни было неразумно. Одна только всемогущая любовь питает к ним тихую веру, умеет беречь, как святыню… Во глубине души любящего душевное слово…»
И как бы между прочим напоминал:
– А все-таки помните, что путешествие мое ещё далеко. Раньше окончания моего труда оно не может быть предпринято ни в каком случае. Раньше душа моя для него быть готова не в силах.
Тогда Сергей Тимофеевич заговаривал стороной о разных трудностях и опасностях его путешествия, своими намеками, должно быть, предлагая ему отказаться от слишком странных, никому не понятных планов своих. Он же на это ответствовал, что, напротив, опасностей не предвидится никаких, что его путешествие случится ещё очень и очень нескоро и что по этой причине едва ли имеется смысл понапрасну предавать себя во власть беспокойства. Так и не разузнали москвичи от него, отчего он назначил себе путешествие, и по этой причине ставили его в положение до того нестерпимое, ложное, что во всё пребывание в дорогой его сердцу России, по их милости, Россия как-то странно рассеивалась и разлеталась в его голове. До того рассеивалась, до того разлеталась, что он оказывался не в состоянии собрать её в одно целое, без чего в одно целое не могла сложиться поэма. По этой причине его дух упадал и даже самое желание узнать её пропадало. Кто бы в эту заваруху поверил ему, в особенности без изъяснения главнейших причин? А главнейшие причины истолковать было бы невозможно, да к тому же и долго, так что ни на какие истолкования он и решиться не мог.
Для него это дело кончилось тем, что он положил себе срок и в обязанность вменил непременно исполнить его. Такой срок был до крайности нужен ему. Вероятно, не потому, чтобы посчитал себя недостойным отправиться тотчас. Такую мысль, если бы она забралась ему в голову, он посчитал бы безумной. Человеку не только невозможно быть достойным вполне, но даже невозможно знать меру и степень своего достоинства и недостоинства. Он же потому не отправлялся в этот путь тотчас, что время ещё не настало, им же самим и определенное в глубинах души. Только по совершенном окончании труда своего хотел он предпринять этот путь. Так ему это сказалось в душе, так твердил ему внутренний голос, смысл и разум его. Окончание труда перед путешествием ко гробу Господню было необходимо, как необходима душевная исповедь перед святым причащением. Его труд явился бы его оправданием. Видимо, так.
Кому же он мог всё это сказать?
Глава третья
Проводы
Михаил Петрович не только всё это время не разговаривал с ним, но и лишал возможности беспрепятственно выехать из Москвы, так что он был принужден адресоваться к нему в его доме с антресолей на первый, хозяйский этаж:
«Пожалуйста, напиши две строки к квартальному, чтобы он написал мне свидетельство о неимении препятствий. Иначе опять пропал день, а мне сегодня же нужно хлопотать в канцелярии о паспорте…»
Наконец и паспорт был выправлен, и место приобретено в дилижансе. Настала минута, минута прощанья. И что же? А то, что Михаил Петрович не возжелал и проститься. Маменька же упала родимому сыну на грудь, прижалась к нему вся в горючих слезах и глухо молила в жилет:
– Когда ждать-то, Никоша, тебя материнскому сердцу?
Николай Васильевич поглаживал её по гладко зачесанным назад всё ещё черным молодым волосам и повторял в какой уже раз:
– Раньше пяти, по крайней мере, четырёх лет возвратиться не думаю, не смогу.
Она поднимала на него заплаканные глаза:
– Как же так?
Набравшись терпения, он говорил, естественно, то, что одно как-нибудь могло поуспокоить её:
– Всё в воле Божьей. Богу угодно – время отсутствия моего сократится, Богу угодно – это время может продлиться.
Она вновь лицом утыкалась в жилет и стонала:
– Никоша, Никоша, не дождусь я тебя!
Её шел пятьдесят первый год, и выглядела она совершенно здоровой и свежей, женщиной лет сорока, и не страх смерти внушал ей эту безумную, бестолковую мысль, а слабость характера, вечный страх перед жизнью и неизлечимая склонность к выразительным, сентиментального свойства поступкам. Сообразивши всё это давно, ещё в первую юность, он довольно холодно посоветовал ей:
– Вы лучше молитесь, но не о том, чтобы всё было так, как хочется вам, а о том, чтобы всё было так, как угодно воле Его.
Она тут же и согласилась, обтирая длинные слезы смятым комочком простого деревенского носового платка:
– Хорошо, хорошо, а ты всё приезжай поскорей.
Он тихо поцеловал её в лоб, отстранил от себя и оставил дом Михаила Петровича с камнем на сердце, в молчании, не хотя верить тому, чтобы до такой степени велика было чёрствость того, кого он без тени лукавства почитал своим другом. И был все-таки прав. Михаил Петрович позднее с грубой своей откровенностью признавался ему:
– Когда ты дверь затворил, перекрестился я и свободно вздохнул, как будто гора свалилась у меня тогда с плеч. Всё, что после я узнавал, прибавляло мне ещё более муки, и ты являлся, кроме своих святых, высоких минут, отвратительным существом.
Несмотря на всю эту кучу самых неприятных, обременительных недомыслий, недоразумений, обид, которые валились со всех сторон на него от ближайших друзей, не хотевших отпускать его на чужбину, те же друзья, кто небрежно, кто с беспокойством, выспрашивали его, станет ли ему на дорогу и на первое время в Гастейне и в Риме, пока к нему не прильют доходы с собрания сочинений и «Мёртвых душ», которых ждал он нескоро.
Он предполагал, что в первый год собрание сочинений только что окупит расходы, то есть издержки издания, поскольку спроса не наберётся и половины того, какой наберется на «Мёртвые души», в силу того, что книга не новость и в четырёх сразу томах, что потребует вытащить из кармана рублей двадцать пять. Этакая прорва всегда представляется ужасным расходом даже для самых верных читателей книг. Ждать придется да ждать. Тем не менее он твёрдым голосом объявлял, что денег хватит и деньги теперь ему не нужны.
Друзья не совсем ему верили в этом, поскольку попривыкли уже, что он всегда в своих разговорах нарочно путал дела, впрочем, не догадываясь о том, какие соображения принуждали его умалчивать, путать и докладывать о себе им не всё.
Он не смущался и с умело разыгранным убеждением отвечал, что у Прокоповича есть его деньги и что он возьмёт те деньги в зачет первых проданных сочинений. Разумеется, всё это было совершенно не так и никаких денег у Прокоповича не было, но ему слишком хотелось, чтобы выплатилась как можно скорей хотя бы половина его старых долгов из продажи первого тома поэмы и чтобы оттуда не брать для себя ни копейки до этого времени.
К такому решению его понуждало особенно то, что он видел собственными глазами, как великодушно его ссудившие люди сами нуждались в этих деньгах. Разглядевши всё это, он с глубоким умилением вспоминал о той помощи, о тех нежных душевных участиях, которые шли к нему всегда из Москвы, и с благодарностью размышлял:
«Петербургу подумать обо мне просто некогда. В Петербурге в голову не придет никому сделать запрос: этот человек ниоткуда не получает копейки денег, ничего не печатает в течение шести лет, так чем он живет в это время при своем здоровье расстроенном, при частых, необходимых для него переездах из климата в климат, из одной земли в пределы другой? Ты просто мог бы два раза умереть от голода, от нужды, и о тебе осталась бы, может быть, потом довольно трогательная молва, как о многих, многих талантах, окоченевших в то время, когда их окружали призраки славы и прочего, но великодушные друзья твои умели проникнуть то, что может проникнуть одно только нежное участие души к душе. Они умели предложить тебе таким образом, чтобы ты даже и подумать не мог, что это с их стороны что-то похожее на одолжение. И по большей части это сделали именно те, которые меньше всего располагали для этого средствами…»
Вот почему он твердо решился вернуть им как можно скорей хотя половину всех одолжений и беззастенчиво лгал, честно глядя прямо в глаза, и сумел обмануть, выезжая из гостеприимной Москвы с самой малой горстью в кармане.
Тем расспросы окончились. Потянулись долгие бестолковые московские проводы. Уезжал он из дома Аксаковых. Сергей Тимофеевич ни под каким видом не хотел отпускать его в чужие края и всё переспрашивал, когда ждать его обратно домой, разумея под домом Москву. Николай Васильевич повторял терпеливо, что положит все силы вторую часть окончить в два года, после чего непременно отправится в Иерусалим и уж оттуда, должно быть, снова заедет в Москву.
Сергей Тимофеевич точно всё подозревал его в чем-то дурном, принимал этот Иерусалим за его очередное чудачество, за нежелание быть откровенным или даже игру. От этого всё было как-то натянуто. Ещё хорошо, что вдруг явилась Надежда Николаевна Шереметева, подарила вечному путнику своими руками сплетенный шнурок, имевший чудесную силу спасать от простуды, простилась с ним искренне, от полноты добрейшей души и тотчас уехала, чтобы не помешать его прощанию с маменькой. Он и простился с ней еще раз, перекрестил её и сестриц. Сергей Тимофеевич и Константин повезли его непременно до Химок, где, по их уговору, поджидал его Михаил Семенович с сыном.
На станции заказали громадный обед и отправились погулять вверх по берегу извилистой речки, побродили без цели по березовой роще, сначала посидели, потом полежали в тени, говорили же мало, принужденно, несвязно, не находя, что на прощанье друг другу сказать. Наконец воротились с этой скучнейшей прогулки на станцию, уселись обедать, выпили за его здоровье с собой привезенным шампанским и до самого дилижанса проговорили о несноснейших пустяках.
Заслышавши издалека дилижанс, Николай Васильевич тотчас встал и ещё раз простился со всеми. Все были скованы, и прощанье получилось холодным, как лед. Он протиснулся в дилижанс, не оглянувшись ни на кого. Дверцы захлопнулись. Лошади взяли. Насилу-то выбрался он из Москвы.
Глава четвертая
В Петербурге
Всю дорогу то спал, то просто дремал. В Петербурге прямо явился к Плетневу, который оказался весь в бесчисленных хлопотах и даже принуждён был завести конспирацию, отменивши все приемы по воскресеньям и средам, чего прежде не делывал никогда, до того своими приёмами дорожил, придавая им смысл просвещения, распространения в образованном обществе здравых идей.
Ласково улыбаясь одними глазами, покуривая сигару, Петр Александрович с серьёзным видом рассказывал, заботливо усадивши его на широкий диван:
– Всем объяснил, что в городе живу только утром, часов до пяти, а обедаю и чай пью на даче. Это дает мне возможность спокойно заниматься делами, как по должности, так и по изданию «Современника». Теперь, пока не кончится в университете экзамен, я принуждён это делать. Представь, прошедшую среду, три дня назад, то есть в пятницу, прости, что сбиваюсь, был у нас отличный обед в честь попечителя отходящего и попечителя приходящего. Гостей обедало восемьдесят четыре персоны. Из лиц, князю Дондукову не подчиненных, был сам министр, был товарищ его, новый попечитель был с братом, граф Протасов, киевский попечитель князь Давыдов и тесть Дондукова. Перед тостом старому попечителю я прочитал небольшую речь в его честь, в которой благодарил за всё, что для университета, для профессоров и студентов он сделал. Его так всё это растрогало, что он тут же на оплату пригласил всё собрание приехать к нему на дачу в Ораниенбаум, для чего он наймет пароход. Вероятно, описание этого праздника Очкин напечатает в «Академических ведомостях». Так день за днем. В хлопотах весь.
Умытый, слегка перекусивший с дороги, в старом поношенном чистом халате Петра Александровича, который надел, чтобы не разбирать своего чемодана, Николай Васильевич молча с вниманием слушал, как захлопотался весь Петербург. Он видел отчётливо, что Петра Александровича искренне радует и самый парадный обед, и собственная произнесённая речь на парадном обеде, и приглашение на дачу в Ораниенбаум неизвестно зачем, и даже то, что описание этих шумных и никому не нужных университетских торжеств появится в никем не читаемом газетном листке. Само собой размышлялось о том, где же тут место и время для серьезной и строгой внутренней жизни. Тем временем Петр Александрович неторопливо и как будто важно расхаживал по кабинету с просветленным малоподвижным лицом с видимым удовольствием курил дорогую сигару и с тем же видимым удовольствием продолжал:
– Наш министр три раза звал меня к себе на обед. Я отправился. Там был и попечитель Волконский. После обеда мы долго беседовали об университетских делах и об Майкове. Министр нам читал, что ему особенно нравится из него. Тут же при нас он надел свой халат, а нас просил курить сигары, как дома. Я не поцеремонился, вынул сигарочник и закурил с Волконским и с доктором, который следит здоровье министра.
Петр Александрович так сморщил рот и съерошил глаза, что невозможно было не угадать, как ему приятна эта халатная фамильярность министра, в знак особенной милости распространённая и на него, и тем более эта нецеремонность, с какой была принята эта поблажка курить в присутствии его высокопревосходительства и сиятельства, которая даже как будто вызывала некую гордость, что вот, мол, каков, и тут не сплошал и выступил с самим министром чуть не на равной ноге.
Понимая всё это, смирнехонько приткнувшись в угол дивана, он не мог ещё раз не согласиться с собой, что Петру Александровичу, как он раздумал в Москве, не место и не к душе поручать издание своих сочинений. Он и молчал, однако поглядывал с сожалением, прикидывая в уме, что душа у Петра Александровича, точно, чиста и прекрасна и что Петр Александрович никогда не сделал никакого особенного дурного поступка, хотя бы несколько тяжелого и большого, и не был потрясен сколько-нибудь сокрушительной силы несчастьем, и потому слишком важен и горд своей чистотой, не примечая, что в этом и грех, что от этого понемногу и неприметно душа обрастала черствой коркой всякого рода светских привычек и сибаритства и уж мало слышит другого, временами далеко уходя даже от себя самое, и что вот по этой главнейшей причине ум Петра Александровича не глубок и не многосторонен, не может охватывать далее того горизонта, который охватывают собственные глаза, и отвергает естественно здравую мысль, что имеются в мире иные пространства вне этой близко зримой черты.
Петр Александрович был болезненно чуток. Он тотчас уловил этот сосредоточенный взгляд, по инстинкту принял его на свой счет, круто остановился возле него и, плавно взмахивая дымящей сигарой, поспешно заговорил с совершенно застывшим, чего-то выжидавшим лицом: