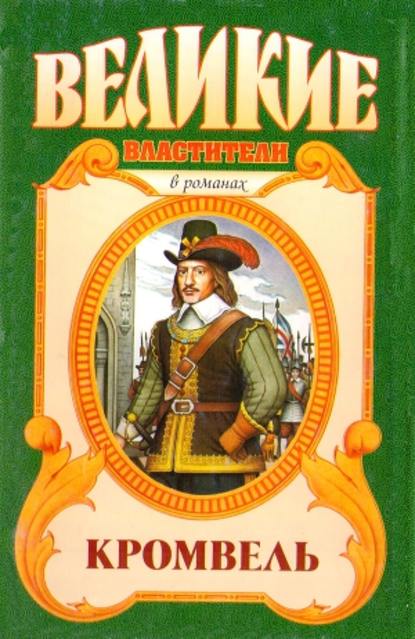По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Восхождение. Кромвель
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Возмущение, естественно, нарастало. Во главе возмущенных встал Оливер Кромвель, для которого общинные земли становились единственной возможностью прокормить большую семью, не растрачивая полученный капитал. На первом же общем собрании он обрушился на нового мэра, уже успевшего нехорошо поглядеть в сторону общинных земель. Страсти его закипели. Справиться с ними он не сумел. Он кричал, бранился и топал ногами, точно всё ещё сидел в зале заседаний, где обсуждалась петиция о правах.
Понятно, что крики, топот ногами и брань ничего не могли изменить. Хуже того, оскорбленные олдермены сочинили жалобу о позорных и непристойных речах и отправили её в Тайный совет. Второго ноября Оливер Кромвель был арестован. Его под конвоем отправили в Лондон. Граф Манчестер, лорд хранитель печати, разобрал дело и выразил арестованному свое порицание. Арест, позорное путешествие под конвоем и разбирательство дела остудили непокорные чувства. Оливер признал, что погорячился, причем погорячился необоснованно и беспричинно, и согласился принести оскорбленному мэру свои извинения. Граф Манчестер нашел это достаточным и дело закрыл. Вернувшись домой, Оливер сдержал данное в Лондоне слово и принес мэру свои извинения.
Он попал в невыносимое положение. Без сомнения, он поступил как порядочный человек, принеся извинения за крики и брань в общественном месте, ибо никакое доброе дело нельзя защитить оскорблением должностного лица. Тем не менее он защищал доброе, благородное дело. Признав себя виноватым, он вынужден был от него отступить. Он горел от стыда. Он не в силах был глядеть горожанам в глаза, и многие горожане, прежде относившиеся к нему с большим уважением, стали относиться к нему сдержанно, холодно, некоторые даже с презрением. Он решил, что должен бежать.
Он собрал свое большое семейство, состоявшее из матери, жены, незамужних сестер и шестерых детей, и перебрался в графство Кембридж, в небольшой городишко Сент-Айвс. Здесь он купил себе дом, поменьше и победнее, чем в Гентингтоне, и взял в аренду обширные луга миль на пять ниже по течению мутноводного Уза, который по зимам разливался, так что его луга становились непроходимыми, а от летней жары почти высыхал. Оливер, как и прежде, разводил в Сент-Айвсе коров и овец. Работы прибавилось. На зиму приходилось заготавливать больше кормов, приходилось больше хлопотать о продаже шерсти и мяса и вести себя так, чтобы ещё раз не попасть под арест.
Его душевное состояние снова ухудшилось. Он продолжал страдать от стыда за себя, ещё больше страдал от бессилия что-нибудь изменить.
2
Вдобавок наступало темное время. Энергия созидания всё истощалась, энергия разрушения всё нарастала. Самые благоприятные обстоятельства внезапно сводились на нет, вызывая горечь и озлобление. Казалось, мир пришел на английскую землю, а мир не может не вести к благоденствию, к процветанию. Вчерашние враги точно сговорились искупить вину за нанесенные поражения. Испания и Франция готовились вступить в Тридцатилетнюю войну и вскоре вступили в неё, война втягивала в свой кровавый водоворот одну страну за другой, пока не овладела Европой. Война требовала сукна для мундиров, прочных кож для колетов, портупей и сапог, она требовала хлеба и мяса для вечно голодных солдат. Всё это Англия могла дать в изобилии. Сельские хозяева оживились, ремесленники взялись за работу, торговые люди нанимали сотни кораблей, корабли вывозили товары из Англии, перебрасывали снаряжение и солдат из Испании в испанские Нидерланды и в германские княжества. Торговые дома процветали. Английские векселя во всей Европе превращались в главное, в самое надежное платежное средство. В обмен на них Из Испании в Лондон хлынули слитки золота и серебра, награбленные испанцами в американских колониях. Казалось, ещё несколько таких лет, и разбогатевшая Англия сможет прокормить самого прожорливого из королей и его ещё более прожорливый двор.
А король Карл валил напролом, бестолково, бездумно вытаптывая и самые первые ростки процветания. Лично он не был расточительным человеком, безнадежным прожигателем жизни. Его сбивала с толку идея абсолютизма, победившего во всех странах Европы, его соблазнял пример австрийского императора, испанского и французского королей, утопавших в неслыханной роскоши. Роскошь двора представлялась ему верным свидетельством непререкаемой власти неограниченного монарха. Он усердно возрождал блеск придворных, многодневные пышные празднества, охоты и развлечения, восстанавливал старинные обычаи придворной жизни, точно ничего не изменилось в Англии за последнюю сотню лет. Его расходы увеличивались с катастрофической быстротой. Он раздавал пожалования и пенсии, и в сравнении с правлением бережливой королевы Елизаветы они возросли в семь или в восемь раз, издержки его двора увеличились вдвое, вдвое возросли расходы на гардероб королевы, а ведь и Елизавета любила пышно и разнообразно одеться, его собственные расходы выросли втрое. Немудрено, что государственный дефицит помчался вперед на всех парусах, и если при Елизавете он достигал четырехсот тысяч фунтов стерлингов, то при короле Карле он вырос в три раза.
Громадные расходы были бы простительны, если правление короля Карла блистало победами, дипломатическими успехами, достижениями во всех областях, если бы за ними ощущалась государственная необходимость, а король Карл мог предъявить своим подданным одни прорехи и поражения. Ни пенса, ни шиллинга из этих громадных расходов не пошло на самые крайние нужды, на защиту торговли, на борьбу с конкуренцией со стороны европейских держав. С оживлением торговли оживились пираты. Они хозяйничали в Ла Манше, проникали в пролив Святого Георгия, терроризировали прибрежное население, грабили деревни и города, пленяли сотни англичан и обращали в рабов. Тем временем королевский флот бесславно гнил в гавани Портсмута. Одни фрегаты серьезно пострадали от метких выстрелов под Ларошелью, другие были потрепаны осенними бурями на возвратном, постыдном пути, третьи были источены временем, офицеры и матросы не получали законного жалования и предпочитали, благоразумно оставив бездоходную королевскую службу, переквалифицироваться в пираты, так что ни один фрегат после бегства от Ларошели не выходил в открытое море. Укроти король Карл свою гордыню хотя бы на градус, обрежь собственные расходы хотя бы на треть, разгони придворных паразитов на службу, передай в адмиралтейство сотню-две тысяч фунтов стерлингов, проведи адмиралтейство капитальный ремонт хотя бы полтора десятка фрегатов и выплати жалованье, очисти они от пиратов Ла Манш и пролив Святого Георгия, охраняй королевские конвои торговые суда от грабежа и захвата, вся трудовая, торговая Англия благословила бы своего короля.
Вместо этого трудовая, торговая Англия с каждым днем всё больше его ненавидела, вопреки даже тому, что король Карл вовсе не был жестоким тираном. Он был всего лишь глубоко, неискоренимо несправедлив, он не щадил древних нравов, он оскорблял уже вкоренившиеся права, которыми многие англичане дорожили много больше, чем дорожили имуществом, он не обращал внимания на действующие законы, он легкомысленно нарушал собственные обещания, скрепленные его честным словом, он бесчинствовал, попросту говоря. В желании поживиться и угодить своему королю его новые помощники наглостью всё новых и новых поборов возбуждали негодование. Вдруг обнаруживалось, что королевские леса во многих местах были сведены лет сто или двести назад, а земли розданы или проданы крупным землевладельцам, однако на старинных картах они всё ещё оставались лесами, принадлежащими королю, и по его повелению землевладельцев, во втором, в третьем, в четвертом поколении не видевших никакого леса, штрафовали на незаконное посягательство на леса короля. Также вдруг королевский лес разрастался в несколько раз, захватывая чужие леса, и в один ненастный день ни о чем не подозревавший владелец получал постановление королевского суда, которым на него налагался штраф в две, в три, в пять, в десять, даже в двадцать тысяч фунтов стерлингов за пользование собственным лесом, который ни с того ни с сего стал принадлежать королю, что не могло не выглядеть как откровенный грабеж. Также вдруг обнаруживалось, что в Англии уже второе столетие шли огораживания, что пахотные земли обращались в луга и в пастбища для овец, что арендаторов сгоняли с земли, что арендаторы превращались в бродяг и что население земледельческих графств стремительно сокращалось, и постановлениями тех же королевских судов на скотоводов, трудами которых обеспечивалось благосостояние Англии, накладывались непомерные штрафы. В общей сложности сумма столь удивительных штрафов достигала двух миллионов. Эта сумма и сама по себе была чрезвычайно значительной, однако оскорбительней всего было то, что штрафы ничего не меняли: пастбища и луга не обращались в пашню, леса не возобновлялись, объявленные королевскими леса так и оставались у прежних владельцев, и король оставлял за собой безобразное право, если вздумается, наложить новый штраф.
Англичанам начинало казаться, что король Карл просто-напросто превратился в разбойника. Они отказывались платить по грабительским до нелепости искам – их отдавали под суд. Не каждый судья соглашался признать законными претензии короля, не каждый судья был чист на руку и невинен душой как дитя, безвинные страдальцы королевского произвола сплошь и рядом предпочитали умаслить судью и тем отбиться от бесстыдного штрафа, это все-таки обходилось дешевле, а самолюбие меньше страдало от нанесенного оскорбления. Однако спасения не находилось и на этих исхоженных тропах взаимного беззакония. Отклоненные иски без промедления передавались чрезвычайным судам, вроде Высокой комиссии или Звездной палаты, учрежденной при короле Генрихе V11. Этим милым заведениям закон не был писан. Они арестовывали, пытали, штрафовали, подвергали зверским увечьям, следуя единственно пожеланию своего короля.
Негодование росло, а денег всё равно ни на что не хватало. Вновь на свет божий выплыли монополии, которые дважды осудили и отклонили представители нации. Торговля патентами возобновилась и пошла полным ходом. В монополии превращались все мыслимые, а потом и немыслимые промыслы, торговля и ремесло. Разорялось всё, что не купило проклятый патент, приходили в запустение мастерские свободных ремесленников, пропадали мясо и шерсть свободных сельских хозяев и арендаторов, закрывались конторы мелких торговцев, росла безработица, одни безработные грабили на дорогах или поступали в пираты, другие переполняли окраины Лондона, голодали и бедствовали, постепенно созревая для мятежа. Отставные ораторы распущенного парламента возмущались, проклиная монополистов:
– Эти люди точно египетские лягушки овладели нашими жилищами, и у нас не осталось ни одного места, свободного от них. Они пьют из наших чаш, едят из наших блюд, сидят у наших каминов, мы находим их в нашем красильном чане, в умывальнике, в кадке с солеными огурцами, они устраиваются в нашем погребе, они покрывают нас с головы до ног своими клеймами и печатями!
Своеобразную монополию на человеческое достоинство получили английские лорды. Нетитулованное дворянство под разными предлогами и по любым поводам ставилось в униженное положение в сравнении с ними. Под предлогом борьбы с расточительностью было запрещено покидать свои поместья сельским дворянам, и без того, по обычаю пуритан, бережливых до скупости. Зато с крайней суровостью наказывалось малейшее неуважение с их стороны, проявленное или будто бы проявленное в отношении знатного человека. Достаточно было сказать в тесном кругу, что такой-то из высших придворных несколько глуп, такой-то на руку нечист и хромает по части морали, порой было довольно посмеяться над длинным носом и некоторым сходством с ослом, чтобы в Звездной палате завелось уголовное дело, которое обыкновенно завершалось серьезным штрафом в несколько тысяч с присовокуплением плетей или выставления к позорному столбу на главной площади Лондона.
Король Карл едва ли подозревал, что его легковесный, легкомысленный деспотизм порождает тысячи мелких, но разнузданных деспотов. Если сам король под видом своих неотъемлемых привилегий творил безобразия, то лорд-наместник творил их вдвое, а его комиссары превращались в голодных волков, напавших на отару овец. Комиссары разъезжали по графствам и выискивали самые нелепые, самые фантастические предлоги для наложения штрафа, причем оставалось неясным, какая доля из этого штрафа добиралась до казны короля. Ложное обвинение становилось делом обычным. Брали с богатых, потому что богатые были богаты, обдирали бедных как липку на том основании, что бедные всегда беззащитны и безответны. Когда же недовольство становилось слишком опасным, в беспокойное графство направляли солдат, которых недовольные жители обязаны были разбирать по домам и содержать, даже одевать на свой счет, после чего предлагали недовольным жителям угомониться и кое-что подарить высшим властям и великодушно освобождали их от постоя. Когда все средства бывали исчерпаны, сажали в тюрьму за долги кого-нибудь побогаче, зная прекрасно, что никаких долгов за ним нет, и томили его до тех пор, пока не сообразит, кому и за что он должен платить. Когда же до канцелярии короля все-таки доходили кое-какие жалобы на безобразия и бесчинства лордов-наместников и их комиссаров, со своей стороны лорды-наместники и их комиссары тоже вынуждены были платить, чтобы в канцелярии короля замяли неприятное дело. Однажды лорд-наместник Ирландии, приговоривший к смерти ни в чем не повинного человека, поскольку в тот день просто-напросто находился в дурном настроении, умудрился всучить шесть тысяч фунтов стерлингов самому королю, и преступление сошло ему с рук.
Злоупотреблениям высших властей сопротивлялись упорней остальных англичан пуритане. Следовательно, пуритан было необходимо усмирить, обуздать, чтобы беззаконные налоги и штрафы поступали бесперебойно. Усмирение пуритан король Карл поручил Уильяму Лоду. В 1633 году Уильям Лод, шестидесяти лет, был возведен в сан архиепископа кентерберийского, что превращало его в главу англиканской, правительственной церкви. Король Карл был человек верующий, но над вопросами веры не ломал головы, его вера оставалась неясной, расплывчатой, он как будто исповедовал лютеранство и как будто склонялся к католицизму, пышность обрядов его развлекала и утешала, власть римского папы была бы для него нежелательна, согласно с законом он должен был управлять своей церковью сам, как должен был управлять сам всей внутренней и внешней политикой, раз уж он возомнил себя абсолютным монархом, однако не управлял своей церковью, как не управлял ни внутренней, ни внешней политикой.
Уильям Лод стал полновластным хозяином во всех церковных делах. С высоко поднятыми бровями над выпуклыми глазами, с круглым сытым лицом, с кокетливой седовласой бородкой и аккуратными усиками, он был образцовым, самым опасным, самым страшным тираном, потому что был глубоко честен, отличался чрезвычайной строгостью нравов, вел простой образ жизни и был бескорыстен, что превращало его в человека непримиримого. Он служил не столько Богу, сколько высшей, неограниченной власти как таковой, то есть не личной власти, не власти короля Карла или своей собственной власти примаса, но символу, философскому принципу власти. Его убеждения были простыми и прочными: высшая власть обеспечивает порядок и таким способом поддерживает справедливость и правосудие, тогда как малейшее отступление от предписанной нормы есть беспорядок и, стало быть, торжество несправедливости и неправосудия, обеспечить порядок высшая власть может единственно бестрепетной строгостью и неотвратимостью наказания за нарушение предписанных норм.
Его заветной мечтой было водворить в англиканской церкви строжайший порядок, и он его водворял. Он упрочил церковную иерархию, возвысил епископов, отдал приходы в их полную, безраздельную, неоспоримую власть, обязал их обеспечивать полнейшее единообразие культа и примерную нравственность прихожан. Епископы должны были преследовать и наказывать, наказывать и преследовать, а всё, что было связано со смыслом и формой вероучения, он брал на себя.
Его самоуверенность не знала границ. В ослеплении собственной непогрешимостью мнилось ему, будто власть в руках честного человека всегда справедлива, сам он был честен, действительно честен, из чего следовало, что каждая мысль, зародившаяся в его голове, каждое им изреченное слово были истинны, вели к справедливости и потому получали силу закона. На этом основании он не искал ничьей дружбы, не нуждался ни в чьем одобрении, бывал одинаково резок и строг с важным придворным и с простым горожанином и от всех равно требовал беспрекословного повиновения его предписаниям. Малейшее возражение, тем более сопротивление его высоким предначертаниям в его глазах было бунтом, который он обязан был жесточайшим образом пресекать.
Необыкновенно деятельный, неутомимый, он составлял циркуляры, расписывал церковные обряды до мельчайших подробностей и требовал неукоснительного их соблюдения. Ему было дорого всё, что служило усилению и возвышению власти, и он увеличивал пышность обрядов, возвратил в англиканскую церковь крестное знамение и преклонение колен, он сочинял проповеди, в которых прославлялось безусловное повиновение высшим властям, независимо оттого, что требовала от верующих эта высшая власть. Его усердием церковная организация должна была превратиться в полицейский участок.
По милости честного, бескорыстного Уильяма Лода пуритане изведали неумолимую жестокость террора. При малейшем подозрении в пуританстве проповедников изгоняли из англиканской церкви. Сердобольные прихожане назначали им пенсии – эти пенсии отбирали. Сельские хозяева, фермеры, богатые горожане брали изгнанных проповедников в дом капелланами или наставниками детей – ищейки местных епископов добирались до них и лишали их места, а вместе с местом лишали их насущного хлеба. Они становились бродячими проповедниками – их настигали в тавернах, на городских площадях или в тайных убежищах. Цензура запрещала новые книги, если в них обнаруживалась хотя бы тень отступления от официально утвержденного вероучения, отыскивала и истребляла изданные в прежние годы труды по подозрению в том же грехе. В церкви и дома запрещалось рассуждать о смысле вероучения или обрядов, а также о смысле и тайнах человеческого, тем более вселенского бытия. Все виновные в нарушении новых церковных порядков представали перед церковным судом, который превосходил светский суд своим изуверством. Обвиняемых унижали и оскорбляли прямо в зале суда, их именовали идиотами, дураками, наглецами, подонками, им приказывали молчать, как только они пытались себя защитить, их зверски пытали, в лучшем случае их присуждали к немыслимым штрафам, в худшем подвергали публичному бичеванию, ставили на лоб клеймо, вырывали ноздри, резали уши, точно они, проповедуя свою веру, совершали уголовное преступление. Десятки, сотни тысяч озлобленных, обессиленных, потерявших надежду пуритан бежали в Америку – неусыпные ищейки честного, бескорыстного Уильяма Лода и за океаном пытались преследовать их по пятам.
3
Оливера и на этот раз вернула к жизни судьба. Его до глубины души возмутило преследование проповедников истинной веры. Его долг перед Богом взять под свое покровительство хотя бы одного из этих мучеников, этих безвинных жертв произвола. В 1635 году он просил своего приятеля в Лондоне подыскать для церкви в Сент-Айвсе толкового проповедника, ибо, прибавлял он с убеждением:
«Постройка больниц снабжает удобствами тело, постройка храмов считается делом благотворительности, однако настоящим благотворителем, даже благодетелем является тот, кто заботится о снабжении пищей души – строит храмы духовные «.
Теперь о строении духовного храма он часто беседовал со своим приятелем Генрихом Даунхоллом, который появился в Сент-Айвсе и занял должность викария в местном приходе. О строении духовного храма он размышлял долгими зимними вечерами, творя беспощадный суд над собой, перебирая грехи своей молодости, перебирая в памяти те вольные или невольные отступления от истинной веры, которые он совершал. Он принялся серьезно и обстоятельно строить духовный храм внутри себя, без чего не может быть ни истинно верующего, ни истинной веры. И Бог не оставил его. Шаг за шагом, его душа возрождалась к новой, осмысленной жизни, выздоравливало тело вслед за душой, оставляли бессонницы, исчезали боли в желудке. Он ощущал, что Бог наконец снизошел в его сердце, будто в каменистой безводной пустыне дал испить каплю росы. Теперь он видел смысл своей жизни в том, чтобы прославить Бога, прославить словом и делом своим:
«Душа моя с первенцами Его, в надежде покоится тело моё, и, если мне выпадет честь прославить Бога моим делом или страданием, я буду счастлив».
И доброе дело нашлось, ибо тот, кто ищет, всегда находит его. Случилось так, что в 1636 году скончался его дядя Томас Стюард, родной брат старшей Элизабет. Он скончался бездетным и всё свое достояние оставил племяннику. Достояние оказалось немалым. В месте Или он владел довольно обширной усадьбой, и Оливер вдруг получил большой дом конюшней, амбарами и огородами, десятин сорок бывшей церковной земли, десятины четыре под пастбищами и лугами и право собирать церковную десятину. Бережливость и старательный труд могли принести с этих угодий от четырехсот до пятисот тысяч фунтов стерлингов в год. Для Оливера это было настоящим богатством. Он перебрался в Или вместе со старшей Элизабет, средней Элизабет и младшей Элизабет, незамужними сестрами и детьми.
Или располагался неподалеку от Сент-Айвса и Гентингтона. Имя Оливера Кромвеля уже было известно в округе, Не успел он обжиться на новом месте, как пришли к нему люди и попросили защиты от грабежа. Подобно многим горожанам и фермерам восточных и северо-восточных графств, жили они на болотах, которые принадлежали городским или сельским общинам и не подлежали отчуждению в частную собственность, подобно ближним и дальним соседям по сухим прогалинам между трясинами они пасли скот и запасались сеном на время холодов и дождей, когда болота становились опасны для жизни, ловили рыбу в протоках, стреляли болотную птицу. Алчные лорды нашли способ накладывать лапу на эти будто бы бесхозные, ничейные земли. В одиночку или составив компанию, вложив немалые земли, они прорывали каналы, очищали старые русла заболоченных речек и ручейков, сооружали дамбы и насыпи, прокладывали дороги, наводили мосты, то есть давали новую жизнь целому краю, однако давали они эту новую жизнь исключительно для себя, из собственной выгоды и без смущения, без капли стыда объявляли своей собственностью эти осушенные, чрезвычайно плодородные земли, лишая всю окрестную бедноту не только скромных доходов, но и самого пропитания, так что целые селения, прежде понемногу торговавшие зерном и скотом, опускались до нищеты, просили милостыню, покидали жилища, скитаясь в поисках работы, которую трудно было найти, оседали в трущобах Лондона, в портовых притонах, что представляло прямую угрозу общественному спокойствию и порядку.
Король Карл, почуяв добычу, нашелся и тут. Все пространства, отвоеванные у моря, он объявил своей собственностью и взял на себя осушение всех болот на равнине, ссылаясь на свои привилегии, давно устаревшие и позабытые. Он не обременял себя головоломными трудами правления, ни тем более хлопотной осушкой топких болот, Он наслаждался единственно сознанием, что он полновластный монарх, обладающий правом первых английских монархов делать решительно всё, что заблагорассудится, главным образом то, что дает ему деньги. Правда, столь сильное наслаждение обходилось в копеечку, он широко и прибыльно торговал патентами на осушку болот, а чтобы подданные его не артачились, назначал своих комиссаров, которые помогали покупателям укрощать недовольных этой чрезвычайно выгодной для одних и чрезвычайно разорительной для других операцией. Патенты охотно раскупали крупные землевладельцы, причем как преданные сторонники короля, так и вожди парламентской оппозиции. Комиссары принимали посильные даяния как от покупателей, так и от подданных и процветали. Кое-что доставалось и королю. Одни подданные неизменно теряли привычные, веками освященные средства к существованию.
На окрестности Или патент приобрел граф Френсис Рассел Бедфорд, сорока лет, в палате лордов один из самых говорливых противников короля. Нанятые рабочие прокладывали дренажные канавы по наиновейшей голландской системе, ставили изгороди и сгоняли с пастбищ пастухов с их отарами овец и стадами коров, утверждая, что отныне это уже не общинные земли, а земли графа Френсиса Рассела Бедфорда. Горожане и окрестные фермеры возмутились, вооружились косами и двинулись толпой на захватчиков с вполне очевидными и обоснованными намерениями. К Оливеру бросились за советом и помощью, поскольку он стал самым крупным землевладельцев в округе и тоже терял права на общинные выгоны. Он вовремя прискакал на поле возможного кровопролития и неожиданным красноречием, которого не обнаружил в парламенте, сумел успокоить толпу. Он взял на себя беспокойный труд судиться с бессовестным графом, а через него, стало быть, с королем. На нужды процесса он собрал по одному пенсу с каждой коровы и подал иск в местный суд. Местный суд предоставил городской общине Или отсрочку по передаче земли графу Бедфорду на пять лет, в течение которых могли явиться новые обстоятельства или отыскаться иные зацепки в законах. Граф Френсис Рассел Бедфорд подал жалобу королю. Король рассердился и намылил голову своему комиссару. Комиссар бросился к Оливеру, требуя, чтобы он забрал свой иск из суда. Оливер твердо доказывал свою правоту и обличал бессовестность графа. Комиссар вынужден был донести королю:
«Его нарочно избрали те, кто всегда стремится подорвать королевскую власть, в качестве своего заступника в Гентингтоне перед королевскими уполномоченными по делу осушения в противовес достославным намерениям его величества».
Король оказывался бессилен. Округа торжествовала. Оливер Кромвель в её глазах был герой, Хозяин болот. Он мог гордиться собой, но недолго пребывал в этом противном и тяжком грехе. Бог вовремя послал ему испытание, жестокое испытание, по правде сказать, видимо, соразмерив его с прегрешением. В 1639 году его поразила смерть Роберта, семнадцати лет, любимейшего старшего сына, юноши честного, чистого, любящего и умного, главное, верного Богу, преданного истинной вере. Он был надеждой отца, и Оливер ощутил, точно в его отцовское сердце вонзился кинжал. Вновь потерял он себя, вновь был растерян и не находил себе места. В смятении, едва ли помня себя, он отправился в Лондон. Он встречался с родными, переходил из одного дома в другой. Он не искал утешения. Казалось, он ничего не искал. Он действовал как во сне. Его двоюродные братья входили в компанию, которая приобретала земли в американской колонии Провиденс. Он в нее тоже вошел. Он внес в нее какие-то деньги. Мысль бежать, переселиться в Америку вновь тревожила его отуманенный мозг. Однако храм его души уже строился. В конце концов, он бросился за помощью к Богу, как и должно было быть. Он обратился к единственной книге. Он перечитывал целые главы. Он открывал её наугад. Однажды он прочитал:
«Я не говорю о нужде и лишениях, ибо выучился быть довольным тем, что имею. Я знаю, что значит быть превознесенным; всегда и везде я сумею и насытиться и быть голодным, терпеть нужду и быть вполне удовлетворенным, Я на всё готов и всё могу, с помощью Иисуса Христа, который укрепляет меня».
Он воскрес, Он был убежден, что эти строки спасли ему жизнь. Было самое время воскреснуть и возвратиться. Наступала пора новых, неведомых и чудовищных испытаний.
Глава шестая
1
Король наступал, а его казна оставалась пустой. Конечно, королевская казна всегда была ненасытной, удивляться тут нечего, никто и не удивлялся. Короля и его приближенных тревожило только то, что все наскоки на достояние подданных, не поддержанные парламентом, были одноразовыми, ограниченными во времени поборами или патентами на монополию и осушку болот, ведь одно болото можно осушить только раз и нельзя заставить приобрести патент на монополию дважды. Для спокойного, безбедного существования короля и двора необходимо было изобрести солидный и постоянный побор, который не нуждался бы в том, чтобы его утвердили представители нации. Лет через семь или восемь после разгона парламента такой побор удалось отыскать. В древлехранилище был найден акт, учреждавший корабельные деньги, которые тратились на борьбу с опустошительными набегами пиратов на английские берега. Правда, корабельные деньги собирались всего лишь с прибрежных городов и поселков, да и акт учрежден был слишком давно, еще до Вильгельма Завоевателя и вскоре после него был отменен. Так и что из того? Разве такой вздор может остановить неограниченного монарха? Неограниченного монарха не могут остановить и более серьезные вздоры. В этом король Карл был более чем убежден: идея неограниченной монархии была его сущностью. А потому, не задумываясь о последствиях этого шага, подсчитывая только ближайшие поступления в пустую казну, он ввел корабельные деньги, сперва с некоторой осторожностью только в прибрежных городах и поселках, может быть, из желания поглядеть, что из этого выйдет. Оказалось, ничего зловредного из этого не стряслось. Разумеется, возбудилось общее недовольство, пассивное сопротивление охватило графства Оксфорд, Эссекс и Девоншир да какой-то лондонский купец отказался платить. С этими пустяками быстро справились лорды-наместники. Самых злостных смутьянов посадили в тюрьму. В лондонской тюрьме оказался и недовольный купец. У купца достало наглости обжаловать свое заточение в Суде королевской скамьи. Королевские судьи не могли не понять, что заточение купца и в самом деле противоречит законам. Но они были королевскими судьями. Когда им приходилось выбирать между королем и законом, они принимали сторону короля. По этой причине они разъяснили незадачливому купцу, что, закон, разумеется, есть, но рядом с законом имеется также король и что король имеет привилегию делать многое из того, чего не допускает закон. Из столь странного разъяснения следовал вывод, будто король стоит выше закона.
Короля не обеспокоило, что таким разъяснением посеялась ужасная мысль: ведь если король стоит вне закона, то его можно судить, тоже не прибегая к законам. Короля устраивало, что принятые меры несколько успокоили налогоплательщиков и из прибрежных городов и поселков стали поступать корабельные деньги. Тотчас корабельная подать была введена во всей Англии. Отныне корабельные деньги должны были вносить даже те далекие от моря местечки, которые испокон веку не видели ни пиратов, ни моря. Особенно же приятно было то обстоятельство, что корабельную подать можно было ввести на все времена. Таким образом, в Англии вводился один общий и постоянный налог, не спрашивая разрешения у представителей нации, ведь необходимость борьбы с пиратами была очевидна для всех.
Нашелся всего один человек, который попытался доказать, что закон существует и что закон существует для всех. Это был Джон Гемпден, приходившийся Оливеру Кромвелю двоюродным братом. В парламенте, как и Оливер, он сидел на скамьях оппозиции, выступал, правда, чаще, чем он, однако его речи были умеренны и не представлялись опасными ни королю, ни правительству короля. Как и Оливер, после разгона парламента он удалился в провинцию. В графстве Бекингемшир он владел богатым поместьем, жил в нем скромно, избегая пышности и расточительства, не позволительных пуританину. Он был ровен и весел, любезен со своими соседями и никому не навязывал своих убеждений. За это соседи уважали его. Они считали его человеком достойным и умным, который, как всякий порядочный человек, не может одобрять дурацкой политики короля, но относится к ней философски, не подрывает устоев и не зовет к мятежу. Такое поведение не было хитростью со стороны Джона Гемпдена. Он в самом деле смотрел философски и не призывал к мятежу, поскольку по натуре не был мятежником. Человек мирный, умный и образованный, он много путешествовал по Англии и Шотландии, изучал нравы, заводил многочисленные знакомства и находил повсеместно миролюбивые настроения и недовольство налогами, которые вводились королем с вызывающей бесцеремонностью и с попранием английских обычаев и законов, но не самим королем.
Корабельные деньги вывели из себя даже этого философски настроенного, мирного человека. Лично он не пострадал и не мог при его большом состоянии пострадать. Кроме того, все в Бекингемшире так хорошо к нему относились, что лорд-наместник, исключительно из уважения к человеку скромному и достойному, определил для него корабельную подать всего в двадцать шиллингов. Джон Гемпден не поднял шума, не призвал к мятежу. Он посчитал, что подать введена незаконно, и отказался платить. Также без шума его препроводили в тюрьму. И в тюрьме Джон Гемпден вел себя доброжелательно и спокойно. Он всего лишь требовал суда над собой, особенно налегая на то, что в этом суде заинтересован также король, ведь приговор суда узаконит корабельную подать.
Неожиданный довод убедил короля. Король разрешил судить Джона Гемпдена на основании английских законов. Суд начался. Джону Гемпдену было разрешено иметь адвокатов. Адвокаты держались благоразумно. Они не задирали ни судей, ни тем более самого короля пустозвонными обличениями. Напротив, они уважительно отзывались о короле, о судьях, о самом институте суда. Они опирались только на законодательство и историю Англии и готовы были признать те привилегии короля, которые предусматривались законом. В своем смирении и покорности они заходили так далеко, что несколько раз, прервав речь, просили суд извинить, если некоторые выражения покажутся ему слишком резкими, и вовремя останавливать их, если им случится перейти определенные законом границы. В общем, суд над Джоном Гемпденом походил на идиллию. Судьям не в чем было упрекнуть ни его, ни его адвокатов, а между тем в течение тринадцати дней в зале суда обеими сторонами обстоятельно и серьезно обсуждались основные законы страны и самый принцип законности.
Наконец присяжные удалились на совещание, и так странен, так необычен был этот суд, так скромен и благороден был обвиняемый, что присяжные колебались, и только семеро из них отдали свои голоса обвинению, тогда как пятеро признали его невиновным. Джон Гемпден должен был уплатить штраф, и было бы хорошо, если бы суд казначейства остановился на этом. Суд не остановился на этом, видимо, сознавая, что осужден невиновный. Суд счел необходимым обстоятельно обосновать свой приговор. В постановлении суда говорилось, что никакие законы не могут помешать королю пользоваться его привилегиями, что король может не считаться с теми законами, которые лишают его возможности заботиться о защите страны, что в случае необходимости он может отменять те законы, которые мешают ему, и что он сам может решать, какому закону следовать, а какой отменить. Другими словами, Суд казначейства во всеуслышание узаконил беззаконие английского короля. Суд казначейства явным образом подслужился угодить королю, и он ему угодил. Король Карл был чрезвычайно доволен. Решение Суда казначейства он с полным правом воспринял как утверждение и оправдание своей неограниченной власти.
Если бы Суд казначейства не вынес этого опрометчивого решения, дело Гемпдена закончилось бы так же без последствий и тихо, как закончилось подобное дело безвестного лондонского купца: ну, отсидел бы положенное, уплатил бы наложенный штраф, никто бы больше и не вспомнил о нем. Попытка узаконить беззаконие короля возмутила даже придворных. Нация теряла доверие и к личности короля Карла, и к самому принципу монархической власти, которая бесцеремонно топтала традиции и оскорбляла национальные чувства. Одни непреклонные приверженцы короля пытались неубедительно, робко защищать правомерность такого решения. Их не слушал никто. Имя Джона Гемпдена было у всех на устах. Оно произносилось с любовью и гордостью. Оно превращалось в символ национального бедствия. Многие, конечно, молчали. Немногие протестовали открыто. Обстановка до того накалилась, что сами судья что-то мямлили в свое оправдание, надеясь спасти свое имя. Самые умные, самые образованные из лордов покидали двор и затворялись в наследственных замках. Короля поддерживала только англиканская церковь и жалкая кучка его прихлебателей.
Правда, на кровопролитие, на мятеж по-прежнему не слышно было даже намека. Народ оставался спокоен. Волновались одни люди свободных профессий. Королева Елизавета, стремясь придать своему двору особенный блеск, привлекала к себе актеров, поэтов, писателей, философов и ученых. При её дворе умные разговоры сделались модными. Празднества и театральные представления следовали одно за другим. Придворные от души развлекались. Актеры блистали своими талантами, поэты представляли на суд высокой публики свои вирши, большей частью заказанные и оплаченные этой же публикой, с удовольствием излагали свои мысли ученые и философы, и все вместе с еще большим удовольствием принимали щедрые подачки двора.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: