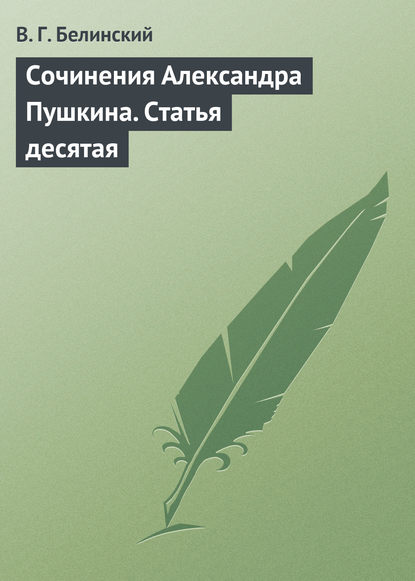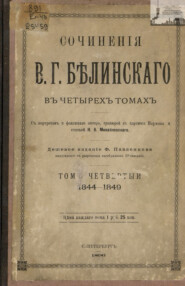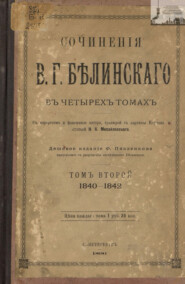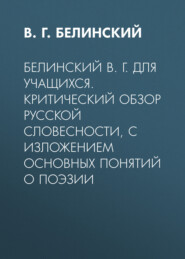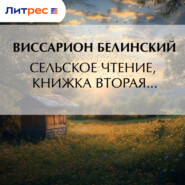По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Сочинения Александра Пушкина. Статья десятая
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Давно ль оно неслось, событий полно,
Волнуяся, как море-окиян?
Теперь оно безмолвно и спокойно,
Немного лиц мне память сохранила,
Немного слов доходит до меня,
А прочее погибло невозвратно.
Ничего подобного не мог сказать русский отшельник-летописец конца XVI и начала XVII века; следовательно, эти прекрасные слова – ложь… но ложь, которая стоит истины: так исполнена она поэзии, так обаятельно действует на ум и чувство! Сколько лжи в этом роде сказали Корнель и Расин, – и однакож просвещеннейшая и образованнейшая нация в Европе до сих пор рукоплещет этой поэтической лжи! И не диво: в ней, в этой лжи относительно времени, места и нравов, есть истина относительно человеческого сердца, человеческой натуры. Во лжи Пушкина тоже есть своя истина, хотя и условная, предположительная: отшельник Пимен не мог так высоко смотреть на свое призвание, как летописец; но если б в его время такой взгляд был возможен, Пимен выразился бы не иначе, а именно так, как заставил его высказаться Пушкин. Сверх того, мы выписали из этой сцены решительно все, что можно осуждать как ложь в отношении к русской действительности того времени: все остальное так глубоко проникнуто русским духом, так глубоко верно исторической истине, как только мог это сделать лишь гений Пушкина – истинно национального русского поэта. Какая, например, глубоко верная черта русского духа заключается в этих словах Пимена;
Да ведают потомки православных
Земли родной минувшую судьбу,
Своих царей великих поминают
За их труды, за славу, за добро —
А за грехи, за темные деянья,
Спасителя смиренно умоляют.
Вообще в этой сцене удивительно хорошо обрисованы, в их противоположности, характеры Пимена и Григорья; – один – идеал безмятежного спокойствия в простоте ума и сердца, как тихий свет лампады, озаряющей в темном углу иконы византийской живописи; другой – весь беспокойство и тревога. Григорью трижды снится одна и та же греза. Проснувшись, он дивится величавому спокойствию, с которым старец пишет свою летопись, – и в это время рисует идеал историка, который в то время был невозможен, другими словами, выговаривает превосходнейшую поэтическую ложь:
Ни на челе высоком, ни во взорах
Нельзя прочесть его высоких дум:[8 - У Пушкина: «Нельзя прочесть его сокрытых дум» и затем: «Так точно дьяк в приказе поседелый» (т. I, стр. 274).]
Все тот же вид смиренный, величавый.
Так точно дьяк, в приказах поседелый,
Спокойно зрит на правых и виновных,
Добру и злу внимая равнодушно.
Не ведая ни жалости, ни гнева.
Затем, он рассказывает старцу о «бесовском мечтании», смущавшем сон его:
Мне снилося, что лестница крутая
Меня вела на башню; с высоты
Мне виделась Москва, что муравейник;
Внизу народ на площади кипел
И на меня указывал со смехом;
И стыдно мне, и страшно становилось
И, падая стремглав, я пробуждался…
В этом тревожном сне – весь будущий Самозванец… И как по-русски обрисован он, какая верность в каждом слове, в каждой черте! Вот еще два монолога – факты глубоко верного, глубоко русского изображения этих двух, чисто русских и так противоположных характеров:
Пимен.
Младая кровь играет;
Смиряй себя молитвой и постом,
И сны твои видений легких будут
Исполнены. Доныне – если я,
Невольною дремотой обессилен,
Не сотворю молитвы долгой к ночи —
Мой старый сон не тих и не безгрешен:
Мне чудятся то шумные пиры,
То ратный стан, то схватки боевые,
Безумные потехи юных лет!
Григорий.
Как весело провел свою ты младость!
Ты воевал под башнями Казани,
Ты рать Литвы при Шуйском отражал,
Ты видел двор и роскошь Иоанна!
Счастлив! а я от отроческих лет
По келиям скитаюсь, бедный инок!
Зачем и мне не тешиться в боях,
Не пировать за царскою трапезой?
Успел бы я, как ты, на старость лет,
От суеты, от мира отложиться,
Произнести монашества обет
И в тихую обитель затвориться.
Следующий затем длинный монолог Пимена о суете света и преимуществе затворнической жизни – верх совершенства! Тут русский дух, тут Русью пахнет! Ничья, никакая история России не даст такого ясного, живого созерцания духа русской жизни, как это простодушное, бесхитростное рассуждение отшельника. Картина Иоанна Грозного, искавшего успокоения «в подобии монашеских трудов»; характеристика Феодора и рассказ о его смерти, – все это чудо искусства, неподражаемые образы русской жизни допетровской эпохи! Вообще, вся эта превосходная сцена сама по себе есть великое художественное произведение, полное и оконченное. Она показала, как, каким» языком должны писаться драматические сцены из русской истории, если уж они должны писаться, – и если не навсегда, то надолго убила возможность таких сцен в русской литературе, потому что скоро ли можно дождаться такого таланта, который после Пушкина мог бы подвизаться на этом поприще?.. А при этом еще нельзя не подумать, не истощил ли Пушкин своею трагедиею всего содержания русской жизни до Петра Великого, так что касаться других эпох и других событий исторических значило бы только с другими именами и названиями повторять одну и ту же основную мысль и потому быть убийственно однообразным?..
Теперь о частностях. Вся трагедия как будто состоит из отдельных частей, или сцен, из которых каждая существует как будто независимо от целого. Это показывает, что трагедия Пушкина есть драматическая хроника, образец которой создан Шекспиром. Кроме превосходной сцены в Чудовом монастыре, между старцем Пименом и Отрепьевым, в трагедии Пушкина есть много прекрасных сцен. Таковы: первая – в кремлевских палатах, между Воротынским и Шуйским, в которой и исторически, и поэтически верно обрисован характер Шуйского; вторая – сцена народа и дьяка Щелкалова на площади; третья – в кремлевских палатах, между Борисом, согласившимся царствовать, патриархом и боярами. В этой сцене превосходно обрисовано добросовестное лицемерство Годунова, – в том смысле добросовестное, что, обманывая других, он прежде всех обманывал самого себя, как всякий талант, обольщаемый ролью гения. Прекрасно также окончание этой сцены, происходящее между Воротынским и Шуйским, где характер последнего все более и более развивается; его слова —
Теперь не время помнить.
Советую порой и забывать, —
так оригинальны, что должны со временем обратиться в любимую пословицу для благоразумных и осторожных людей вроде Шуйского. Превосходна маленькая сцена между патриархом и игуменом, написанная прозою: это один из драгоценнейших перлов трагедии.
Мы уже говорили, по поводу шестой сцены, о целой трагедии: в ней Борис является злодеем, сперва сваливающим вину своих неудач и оскорблений на неблагодарность народа и после рассуждающим о том, как жалок тот, в ком нечиста совесть. Нам кажется, что это не драма, а мелодрама: истинно драматические злодеи никогда не рассуждают сами с собою о невыгодах нечистой совести и о приятности добродетели. Вместо этого они действуют, чтоб дойти до цели или удержаться у ней, если уж дошли до нее.
Седьмая сцена в корчме на литовской границе – превосходна. Жаль только, что желание высказать резче дерзость Отрепьева увлекло поэта в мелодраматизм, заставив его спровадить Самозванца в окно корчмы, в которое и курица проскочила бы с трудом. К лучшим сценам трагедии принадлежит восьмая – в доме Шуйского. Превосходно, выше всякой похвалы, передал в ней поэт устами Шуйского ропот и жалобы на Годунова его современников. Выше мы уже выписали этот монолог.
Следующая затем большая сцена представляет собою две части. В первой Борис превосходно очерчен, как примерный семьянин, нежный отец: он утешает дочь, овдовевшую невесту, говорит с сыном о сладком плоде учения, о том, как помогает наука державному труду. Все это так просто, так естественно, и Борис является в этой сцене во всем свете своих лучших качеств. Во второй части сцены Борис узнаёт от Шуйского о появлении Самозванца. Странное волнение, обнаруженное Борисом при этом известии, основано поэтом на виновной совести Годунова, и его поспешность к решительным мерам противоречит исторической истине: известно, что Годунов вначале принял слишком слабые меры против Отрепьева, вероятно, не считая его за опасного врага. Но если смотреть на эту сцену с точки зрения Пушкина, в ней много драматического движения, много страсти. Борис в страшном волнении, а Шуйский, не теряя присутствия духа от мысли, что это волнение может ему стоить головы, ни на минуту не перестает быть придворною лисою. Годунов спрашивает его, как человека, производившего следствие о смерти царевича, точно ли он видел его труп, и не было ли подмены. «Отвечай», – говорит он ему.
Шуйский.
Клянусь тебе…
Царь.
Нет, Шуйский, не клянись,
Но отвечай: то был царевич?
Шуйский.
Он.
Царь.
Подумай, князь. Я милость обещаю.
Прошедшей лжи опалою напрасной
Не накажу. Но если ты теперь
Со мной хитришь, то головою сына
Клянусь – тебя постигнет злая казнь.
Такая казнь, что царь Иван Васильич
От ужаса во гробе содрогнется.
Шуйский.
Не казнь страшна; страшна твоя немилость!
Волнуяся, как море-окиян?
Теперь оно безмолвно и спокойно,
Немного лиц мне память сохранила,
Немного слов доходит до меня,
А прочее погибло невозвратно.
Ничего подобного не мог сказать русский отшельник-летописец конца XVI и начала XVII века; следовательно, эти прекрасные слова – ложь… но ложь, которая стоит истины: так исполнена она поэзии, так обаятельно действует на ум и чувство! Сколько лжи в этом роде сказали Корнель и Расин, – и однакож просвещеннейшая и образованнейшая нация в Европе до сих пор рукоплещет этой поэтической лжи! И не диво: в ней, в этой лжи относительно времени, места и нравов, есть истина относительно человеческого сердца, человеческой натуры. Во лжи Пушкина тоже есть своя истина, хотя и условная, предположительная: отшельник Пимен не мог так высоко смотреть на свое призвание, как летописец; но если б в его время такой взгляд был возможен, Пимен выразился бы не иначе, а именно так, как заставил его высказаться Пушкин. Сверх того, мы выписали из этой сцены решительно все, что можно осуждать как ложь в отношении к русской действительности того времени: все остальное так глубоко проникнуто русским духом, так глубоко верно исторической истине, как только мог это сделать лишь гений Пушкина – истинно национального русского поэта. Какая, например, глубоко верная черта русского духа заключается в этих словах Пимена;
Да ведают потомки православных
Земли родной минувшую судьбу,
Своих царей великих поминают
За их труды, за славу, за добро —
А за грехи, за темные деянья,
Спасителя смиренно умоляют.
Вообще в этой сцене удивительно хорошо обрисованы, в их противоположности, характеры Пимена и Григорья; – один – идеал безмятежного спокойствия в простоте ума и сердца, как тихий свет лампады, озаряющей в темном углу иконы византийской живописи; другой – весь беспокойство и тревога. Григорью трижды снится одна и та же греза. Проснувшись, он дивится величавому спокойствию, с которым старец пишет свою летопись, – и в это время рисует идеал историка, который в то время был невозможен, другими словами, выговаривает превосходнейшую поэтическую ложь:
Ни на челе высоком, ни во взорах
Нельзя прочесть его высоких дум:[8 - У Пушкина: «Нельзя прочесть его сокрытых дум» и затем: «Так точно дьяк в приказе поседелый» (т. I, стр. 274).]
Все тот же вид смиренный, величавый.
Так точно дьяк, в приказах поседелый,
Спокойно зрит на правых и виновных,
Добру и злу внимая равнодушно.
Не ведая ни жалости, ни гнева.
Затем, он рассказывает старцу о «бесовском мечтании», смущавшем сон его:
Мне снилося, что лестница крутая
Меня вела на башню; с высоты
Мне виделась Москва, что муравейник;
Внизу народ на площади кипел
И на меня указывал со смехом;
И стыдно мне, и страшно становилось
И, падая стремглав, я пробуждался…
В этом тревожном сне – весь будущий Самозванец… И как по-русски обрисован он, какая верность в каждом слове, в каждой черте! Вот еще два монолога – факты глубоко верного, глубоко русского изображения этих двух, чисто русских и так противоположных характеров:
Пимен.
Младая кровь играет;
Смиряй себя молитвой и постом,
И сны твои видений легких будут
Исполнены. Доныне – если я,
Невольною дремотой обессилен,
Не сотворю молитвы долгой к ночи —
Мой старый сон не тих и не безгрешен:
Мне чудятся то шумные пиры,
То ратный стан, то схватки боевые,
Безумные потехи юных лет!
Григорий.
Как весело провел свою ты младость!
Ты воевал под башнями Казани,
Ты рать Литвы при Шуйском отражал,
Ты видел двор и роскошь Иоанна!
Счастлив! а я от отроческих лет
По келиям скитаюсь, бедный инок!
Зачем и мне не тешиться в боях,
Не пировать за царскою трапезой?
Успел бы я, как ты, на старость лет,
От суеты, от мира отложиться,
Произнести монашества обет
И в тихую обитель затвориться.
Следующий затем длинный монолог Пимена о суете света и преимуществе затворнической жизни – верх совершенства! Тут русский дух, тут Русью пахнет! Ничья, никакая история России не даст такого ясного, живого созерцания духа русской жизни, как это простодушное, бесхитростное рассуждение отшельника. Картина Иоанна Грозного, искавшего успокоения «в подобии монашеских трудов»; характеристика Феодора и рассказ о его смерти, – все это чудо искусства, неподражаемые образы русской жизни допетровской эпохи! Вообще, вся эта превосходная сцена сама по себе есть великое художественное произведение, полное и оконченное. Она показала, как, каким» языком должны писаться драматические сцены из русской истории, если уж они должны писаться, – и если не навсегда, то надолго убила возможность таких сцен в русской литературе, потому что скоро ли можно дождаться такого таланта, который после Пушкина мог бы подвизаться на этом поприще?.. А при этом еще нельзя не подумать, не истощил ли Пушкин своею трагедиею всего содержания русской жизни до Петра Великого, так что касаться других эпох и других событий исторических значило бы только с другими именами и названиями повторять одну и ту же основную мысль и потому быть убийственно однообразным?..
Теперь о частностях. Вся трагедия как будто состоит из отдельных частей, или сцен, из которых каждая существует как будто независимо от целого. Это показывает, что трагедия Пушкина есть драматическая хроника, образец которой создан Шекспиром. Кроме превосходной сцены в Чудовом монастыре, между старцем Пименом и Отрепьевым, в трагедии Пушкина есть много прекрасных сцен. Таковы: первая – в кремлевских палатах, между Воротынским и Шуйским, в которой и исторически, и поэтически верно обрисован характер Шуйского; вторая – сцена народа и дьяка Щелкалова на площади; третья – в кремлевских палатах, между Борисом, согласившимся царствовать, патриархом и боярами. В этой сцене превосходно обрисовано добросовестное лицемерство Годунова, – в том смысле добросовестное, что, обманывая других, он прежде всех обманывал самого себя, как всякий талант, обольщаемый ролью гения. Прекрасно также окончание этой сцены, происходящее между Воротынским и Шуйским, где характер последнего все более и более развивается; его слова —
Теперь не время помнить.
Советую порой и забывать, —
так оригинальны, что должны со временем обратиться в любимую пословицу для благоразумных и осторожных людей вроде Шуйского. Превосходна маленькая сцена между патриархом и игуменом, написанная прозою: это один из драгоценнейших перлов трагедии.
Мы уже говорили, по поводу шестой сцены, о целой трагедии: в ней Борис является злодеем, сперва сваливающим вину своих неудач и оскорблений на неблагодарность народа и после рассуждающим о том, как жалок тот, в ком нечиста совесть. Нам кажется, что это не драма, а мелодрама: истинно драматические злодеи никогда не рассуждают сами с собою о невыгодах нечистой совести и о приятности добродетели. Вместо этого они действуют, чтоб дойти до цели или удержаться у ней, если уж дошли до нее.
Седьмая сцена в корчме на литовской границе – превосходна. Жаль только, что желание высказать резче дерзость Отрепьева увлекло поэта в мелодраматизм, заставив его спровадить Самозванца в окно корчмы, в которое и курица проскочила бы с трудом. К лучшим сценам трагедии принадлежит восьмая – в доме Шуйского. Превосходно, выше всякой похвалы, передал в ней поэт устами Шуйского ропот и жалобы на Годунова его современников. Выше мы уже выписали этот монолог.
Следующая затем большая сцена представляет собою две части. В первой Борис превосходно очерчен, как примерный семьянин, нежный отец: он утешает дочь, овдовевшую невесту, говорит с сыном о сладком плоде учения, о том, как помогает наука державному труду. Все это так просто, так естественно, и Борис является в этой сцене во всем свете своих лучших качеств. Во второй части сцены Борис узнаёт от Шуйского о появлении Самозванца. Странное волнение, обнаруженное Борисом при этом известии, основано поэтом на виновной совести Годунова, и его поспешность к решительным мерам противоречит исторической истине: известно, что Годунов вначале принял слишком слабые меры против Отрепьева, вероятно, не считая его за опасного врага. Но если смотреть на эту сцену с точки зрения Пушкина, в ней много драматического движения, много страсти. Борис в страшном волнении, а Шуйский, не теряя присутствия духа от мысли, что это волнение может ему стоить головы, ни на минуту не перестает быть придворною лисою. Годунов спрашивает его, как человека, производившего следствие о смерти царевича, точно ли он видел его труп, и не было ли подмены. «Отвечай», – говорит он ему.
Шуйский.
Клянусь тебе…
Царь.
Нет, Шуйский, не клянись,
Но отвечай: то был царевич?
Шуйский.
Он.
Царь.
Подумай, князь. Я милость обещаю.
Прошедшей лжи опалою напрасной
Не накажу. Но если ты теперь
Со мной хитришь, то головою сына
Клянусь – тебя постигнет злая казнь.
Такая казнь, что царь Иван Васильич
От ужаса во гробе содрогнется.
Шуйский.
Не казнь страшна; страшна твоя немилость!