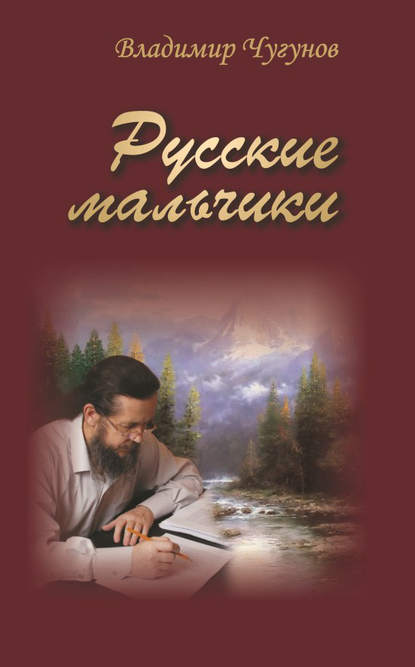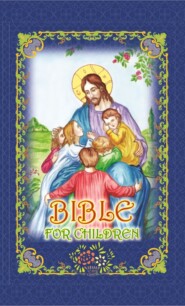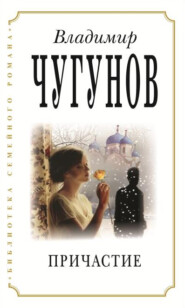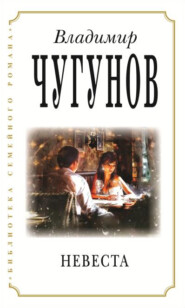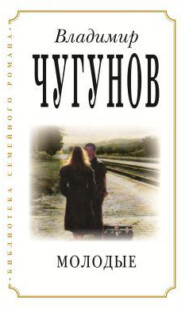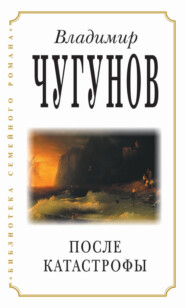По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Русские мальчики (сборник)
Год написания книги
2012
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ладно, – говорю, – завтра крещенской воды привезу.
Успокоился.
Вот что я нашёл о нём в своём дневнике:
02.05.88 г.
Сегодня гоняли к Юрьевцу. До пятнадцати минут второго держали на берегу торфяной речушки, в которую прежде спускали отходы с химкомбината. До сих пор от воды идёт страшная вонь. Коровы подойдут, понюхают и отходят. Берёзки окидало нежной зеленью. Денёк то разгуливался, то накрапывало. По верху дамбы, идущей от конца села, вернее, от кладбища, до самого берега Оки, километров семь, тянул сильный холодный ветер. Видели зелёную ящерицу. Сидела, не пугаясь, и смотрела на меня одним глазом. Коровы всё же убежали из-за Лысёнки…
В обед Борис Павлович, сидя на бетонной плите дамбы, сказал: «Пожевать бы чего». Открыл сумку, достал батон, оставшийся от завтрака, который нам давали поутру хозяйки, покачал головой и стал сетовать на себя: «И говорю, есть нечего! A ведь когда-то, что мне этот батон? Чуть-чуть! А теперь не хочется. Вот ведь до чего дожил!»
Понемногу разоткровенничался, стал рассказывать, как жил в плену. Служил срочную в Литве. «Когда война началась, командование нас бросило. Плутал по Польше. Встретил в лесу поляка. Сенокосничал. Постояли, поглядели друг на дружку. Гляжу, рукой машет: жди, мол. Куда ушёл, не знаю, да мне всё одно уж стало – хоть какой конец. Присел и заснул. Будит. Гляжу, одёжку принёс, еду. Переоделся. Форму закопал. С неделю прятал он меня в сене, кормил. А тут как-то приехал сам не свой, оглядывается, говорит: «Пане идут, ходить надо». Ушёл, шатался, пока в плен не взяли. Порассказать, так… Потом, правда, в работники попал, за скотиной ходил. Отошёл маленько, поправился. А то ведь с меня текло. Всякие люди и среди немцев были. И у нас гадов хватает. Было: свои своих… Почище немца…»
09.05.88 г.
Пасём всё до двух… Уже распускаются листья на дубах. На берёзах листва такая яркая, что больно смотреть. Травы ещё мало. Сегодня День Победы. Борис Павлович приложился слегка, и в обед опять стал рассказывать про плен, о том, как жил у немки в работниках и как ему на ужин не давали обедешный суп, чтобы не испортил желудок.
– Сыр, масло с хлебом, чай – пожалуйста. А мяса нет. «Плёхо, – передразнил он хозяйку, – ты спайт, желюдка не работать». И всё свиньям выливали. А, помню, была у нас в колхозе татарка Сафара, трактористкой работала – уж после войны дело было, – дали ей на трудодни ведро баранины, она притащила хозяйке: «Манья, на баранин. Нас Бог не велит такой мяса есть: када убивал, нага ни вязал. Нельзя». И не ела. Хозяйка даст ей ведро мочёных яблок, та и рада».
«Удивительное дело, – подумал я. – Трактористкой сделали, колхозницей тоже, поди, и комсомолкой была, а баранину не ест».
И тут мне припоминается Пасха, как мы ходили собирать яйца, Христа славили это в безбожном селении. И не было ни одного дома, где бы нам чего-нибудь в тот день не дали. Не исключая и парторга, и комсорга, и профорга…
– Вот ведь что жизнь-то была, – прерывает мои мысли Борис Павлович. – Не-эт, Володенька, Бог меня обидел, и я Ему не верю.
– Заладил своё, Фома! Знаешь пословицу: не ищи в селе, а ищи в себе?
– Нет, ты погоди, ты послушай сперва, что я тебе скажу. Как же меня Бог не обидел, когда я всю жизнь, сызмальства хужее последнего нищего, концы с концами свести не мог. С плена на стройку угнали вину перед Родиной искупать. Домой воротился, считай, круглый сирота: тятя до войны в лагерях сгинул, мать в войну тифом скосило. Хозяйку-покойницу взял, считай что в одних трусах. Порассказать, так… Помню, сенокосничали раз, так умотались, ни я, ни она косы нести не смогли, так в кустах и бросили. Домой притащились, есть нечего. Сама морковки надергала, ополоснула в кадке – вся еда! Я в плену лучше жил! – возмущённо тряхнул он головой. – А тут ещё налогами обложили. Сорок килограмм мяса, шерсти, яиц, масла, картошки да семьсот десять рублей – всё им дай! Зажили мы тут, было, при Булганине, да нанесло Хруща. И мясо пропало. Или двух овец, или одну свинью держи. Это что, справедливо? А того не понимают, будь у меня лишняя овца, куда я её понесу? На рынок. Эх, что измывались над людьми-то! Свои! Вот и суди, как же меня Бог не обидел? Нет, ты погоди, – остановливал опять меня. – Ты послушай сперва. Лошадей я в колхозе пас, так раз татары жеребёнка-трёхлетка украли. На собрании свои: тыщу рублей пусть платит! Хорошо, счетовод выручил. Во мужик был! Пока матом не выругается, не может начать говорить… «И-и… И-и… Так вашу перетак…» И пошёл: «Мы, – говорит, – с его тыщу возьмём, а завтра татарину за три сотни отдадим? Моё предложение – взять инвентарную стоимость». Тоже, значит, триста. Проголосовали. А то бы… Вот ведь что жизнь-то, Володенька, была. Как послабили малость, так я дом поскорее продал и сюда, к городу поближе. Пусть они там экспериментируют. Теперь, сказывали, ни колхоза, ни села. Всё развалили.
И подобные истории почти каждый день весь месяц нашей совместной работы. И сколько не возражал я ему, при чём тут Бог, он удивлённо восклицал: «Как?!» – и начинал другую историю. Ни Богу он не молился, ни в церковь не ходил, и хотя, как уверял, был Им разобижен, весь годовой круг жизни, тем не менее, определял церковными праздниками. Картошку сажал после Троицы, чтоб зря в земле не зябла. После Петрова дня сенокосничал. В Духов день не работал, на Страстной в рот вина не брал, на Пасху христосовался с каждым встречным, а по воскресеньям запрещал хозяйке стирать и вывешивать бельё. «Что ты! – отвечал на мой удивлённый вопрос. – Острамят на всё село!» Никакие мои доводы не побудили его уступить ни пяди. «Вы, – говорю, – такие упрямые, потому и Сталина пересидели». Улыбается, хотя к Сталину у него отношение особое – горбовое молчание.
3
В то лето произошло ещё одно памятное событие.
Среди сезона, совершенно неожиданно, жену на «скорой» отправил ночью в больницу с сильным токсикозом. Родителей моих не было рядом, и дети целую неделю жили одни в двухкомнатной квартире под присмотром старшенькой, восьмилетней Саши.
Не без волнения каждое утро проносил я через тихую комнату велосипед с балкона. Будил Сашу, чтоб закрылась. И всю дорогу, и всё время пастьбы мысли мои были дома: «Как там они?»
Домой возвращался с тою же тревогой в сердце. В пятый день решил проведать детей в обед: скотина обычно лежала на стане часа по четыре. Бывало, снималась и раньше, но я надеялся на русский авось, и после дойки поспешил к дому.
Однако на подъезде словно что стукнуло в сердце – все окна квартиры были настежь!
Влетаю на второй этаж пятиэтажки, дверь нараспашку. Вхожу – и Боже ж ты мой! – кого тут только нет! И откуда только понабежали эти подружки! Шум, гам, заедающая пластинка, шесть ручонок азартно ботают по клавишам фортепьяно. Младшенькая Даша, в одной распашонке, в собственной лужице спит на полу. Тюль парусит и взвивается к потолку от сквозняка, вызывая общий восторг.
Все замерли сразу – так, видимо, грозен был мой вид. Подружки быстренько потекли в дверь, а я не знал, за что в первую очередь взяться – за ремень или затворить окна.
Подойдя к Даше, услышал хрип. Ребёнок задыхался и весь горел. Поднял её, отнёс в кроватку, поставил градусник. Затем закрыл окна, попутно выговаривая старшей. Но от страха она лишилась способности соображать и, вытаращив глаза и поджав губы, смотрела исподлобья неподвижным взглядом. Маленькое существо беспомощно хрипело в кроватке. Градусник показал тридцать девять и две. Я был в отчаянии.
– Как тебе не стыдно, Саша! Как тебе не совестно! Я так на тебя надеялся, а ты! Ведь Даша может умереть!
Варя, Никита, Маша сгрудились у кроватки, ткнув головки меж палочек. При моих словах они все разом посмотрели на меня и трёхлетний Никита, безмятежно глянув, спросил:
– Папенька, а она в рай попадет?
Меня взорвало.
– Что?! Я вам сейчас покажу рай! – и я заходил по комнате в поисках ремня. – В рай! Она-то попадёт! А вы куда попадёте? Вы, убийцы! Что вы ответите Богу, когда спросит?
– А мы… мы её не били… мы не убивали, папенька… она сама… – залепетали испуганные голоса.
– Как же не убивали, когда почти что убили таким отношением! Открыли все окна, а ребёнка, чтобы не возиться с ползунками, бросили на пол, почти на бетон, на этот линолеум, это же всё равно, что убили!
Ремень не находился, я начал остывать. К тому же тревога за судьбу дочери, не на шутку испуганные лица детей – всё как-то разом придавило беспомощностью.
– Эх, Саша, я так на тебя надеялся, а ты!.. – выговорил я с горечью, едва сдерживая слёзы. Глянул на часы, пора было ехать: не дай Бог ещё забредут на совхозный клевер. – Я думал, ты большая, понимаешь… А вы! Вы же в Бога верите, в церковь ходите! Как же вы так?.. А что с маменькой будет, когда узнает? Не жаль вам её? А мне каково? С чем я уеду? Что у вас тут опять будет?
Слезы выступили на моих глазах. Саша заметила.
– Папенька, мы больше не будем окна открывать…
Я задумался.
– Вот что, – наконец, решил, – идите сюда.
Отпер ключом кабинет, маленькую клетушку, в которой помещался слева от окна во всю стену диван, напротив, через метр, письменный стол, рядом стеклянный, но уже без стёкол шкаф с книгами. Такой же шкаф, только другого цвета, стоял слева от двери на тумбочке, дверцы которой, когда открывались, почти касались спинки дивана. На шкафу – иконы, лампадка. Самая большая и древняя икона – Рождество Пресвятой Богородицы, в медном, позеленевшем окладе (память от Новской идиллии, о чём речь впереди), ещё несколько обычных бумажных иконок, и главная святыня, хранительница семьи и в родах помощница – Фёдоровская.
– Становитесь рядом со мной на колени. Матушка, Царица Небесная, ты видишь, какое у нас горе, а у меня вдвойне – от непослушных детей. Кого нам просить, как ни Тебя? Ты наша Помощница, наша Заступница. Помоги. И детки обещают вести себя хорошо. Обещаете?
– Да-а… Мы больше не будем, папенька…
– Смотрите. Божией Матери обещание дали. Кланяемся.
И мы поклонились до земли. Затем я достал икону, и все по очереди приложились. Присмирели, притихли, даже лица переменились.
И всё же я уехал с тяжестью на сердце. Беспокоила больная дочь. Хотя и протёр тельце разбавленным спиртом и попытался влить «летической смеси», ребёнка только вырвало. А вместо плача – хрип.
На стане же всё было благополучно. Коровы спокойно лежали меж высоких сосен, жуя серпу, обмахивая ушами от глаз мух. Пронзительно стрекотали кузнечики, купались в дорожной пыли воробьи. Всё было так да не так. Ни сидеть, ни стоять, ни тем более читать я не мог, а всё ходил и ходил, подавленный своими переживаниями. Больной ребёнок, непослушные дети, жена в больнице. Надо быть дома и не могу. До вечера ещё ой сколько! И всё это время жить с этакой мукою на сердце? А эти лежат и жуют. И никому нет до меня дела. Меня разбирала досада.
Наконец, не выдержал, стал подымать стадо прежде времени. Кныжась и удручённо вздыхая, послушно-лениво, безропотно стали подыматься, потягиваться, иные пускать светлые струи, «минировать» лежанку. Ничто, казалось, не могло выбить их из привычного ритма жизни. Послушание их немного усовестило, подавив досаду. «Они тут при чем?»
В лесу, через который лениво брело стадо к месту выгона, взмолился. Но что это была за молитва! Никогда прежде да и потом я так не молился! Так бестолково-неистово! Всё моё тягостное чувство безысходности вылилось в этих бессвязных словах. Я не просил, я требовал чуда. И даже грозил тем, что непременно возропщу, если не получу просимого. Не знаю, сколько времени молился таким образом, заливаясь слезами, ничего не видя и не слыша, только в какой-то миг глубокая тишина и отрада вдруг сошли в моё сердце. Ад души, подавленной горем и страданием, бесследно исчез. А мир вокруг преобразился, как бывало на Новских выселках, на закате, когда под вечер, выйдя из баньки, на мгновение застывал в чуткой предсумеречной тишине вишнёвого сада, охваченного пожаром заходящего за далёкий горизонт неправдоподобно огромного солнца.
Так хорошо мне стало, так благостно! И главное – какая-то внутренняя убежденность, что услышан. Молитва как началась, так и закончилась сама, и никакие потуги возобновить её не имели успеха. Не о чём было больше просить? Господь дал всё сразу. Лишь чувство благодарности переполняло душу. И мир этот, казалось, изливался на всё: на молоденькую дубовую рощу, на просеку ЛЭП, с вечно потрескивающими проводами, на небо, зелень и стадо, улегшееся под насыпью высохшего отстойника.
Чувство это сохранялось до вечера, и ещё долго потом я жил воспоминанием о нём. Правда, на подъезде к дому заскочило как бы со стороны: «Приедешь, а там…»
Но что же ожидало – там?
Успокоился.
Вот что я нашёл о нём в своём дневнике:
02.05.88 г.
Сегодня гоняли к Юрьевцу. До пятнадцати минут второго держали на берегу торфяной речушки, в которую прежде спускали отходы с химкомбината. До сих пор от воды идёт страшная вонь. Коровы подойдут, понюхают и отходят. Берёзки окидало нежной зеленью. Денёк то разгуливался, то накрапывало. По верху дамбы, идущей от конца села, вернее, от кладбища, до самого берега Оки, километров семь, тянул сильный холодный ветер. Видели зелёную ящерицу. Сидела, не пугаясь, и смотрела на меня одним глазом. Коровы всё же убежали из-за Лысёнки…
В обед Борис Павлович, сидя на бетонной плите дамбы, сказал: «Пожевать бы чего». Открыл сумку, достал батон, оставшийся от завтрака, который нам давали поутру хозяйки, покачал головой и стал сетовать на себя: «И говорю, есть нечего! A ведь когда-то, что мне этот батон? Чуть-чуть! А теперь не хочется. Вот ведь до чего дожил!»
Понемногу разоткровенничался, стал рассказывать, как жил в плену. Служил срочную в Литве. «Когда война началась, командование нас бросило. Плутал по Польше. Встретил в лесу поляка. Сенокосничал. Постояли, поглядели друг на дружку. Гляжу, рукой машет: жди, мол. Куда ушёл, не знаю, да мне всё одно уж стало – хоть какой конец. Присел и заснул. Будит. Гляжу, одёжку принёс, еду. Переоделся. Форму закопал. С неделю прятал он меня в сене, кормил. А тут как-то приехал сам не свой, оглядывается, говорит: «Пане идут, ходить надо». Ушёл, шатался, пока в плен не взяли. Порассказать, так… Потом, правда, в работники попал, за скотиной ходил. Отошёл маленько, поправился. А то ведь с меня текло. Всякие люди и среди немцев были. И у нас гадов хватает. Было: свои своих… Почище немца…»
09.05.88 г.
Пасём всё до двух… Уже распускаются листья на дубах. На берёзах листва такая яркая, что больно смотреть. Травы ещё мало. Сегодня День Победы. Борис Павлович приложился слегка, и в обед опять стал рассказывать про плен, о том, как жил у немки в работниках и как ему на ужин не давали обедешный суп, чтобы не испортил желудок.
– Сыр, масло с хлебом, чай – пожалуйста. А мяса нет. «Плёхо, – передразнил он хозяйку, – ты спайт, желюдка не работать». И всё свиньям выливали. А, помню, была у нас в колхозе татарка Сафара, трактористкой работала – уж после войны дело было, – дали ей на трудодни ведро баранины, она притащила хозяйке: «Манья, на баранин. Нас Бог не велит такой мяса есть: када убивал, нага ни вязал. Нельзя». И не ела. Хозяйка даст ей ведро мочёных яблок, та и рада».
«Удивительное дело, – подумал я. – Трактористкой сделали, колхозницей тоже, поди, и комсомолкой была, а баранину не ест».
И тут мне припоминается Пасха, как мы ходили собирать яйца, Христа славили это в безбожном селении. И не было ни одного дома, где бы нам чего-нибудь в тот день не дали. Не исключая и парторга, и комсорга, и профорга…
– Вот ведь что жизнь-то была, – прерывает мои мысли Борис Павлович. – Не-эт, Володенька, Бог меня обидел, и я Ему не верю.
– Заладил своё, Фома! Знаешь пословицу: не ищи в селе, а ищи в себе?
– Нет, ты погоди, ты послушай сперва, что я тебе скажу. Как же меня Бог не обидел, когда я всю жизнь, сызмальства хужее последнего нищего, концы с концами свести не мог. С плена на стройку угнали вину перед Родиной искупать. Домой воротился, считай, круглый сирота: тятя до войны в лагерях сгинул, мать в войну тифом скосило. Хозяйку-покойницу взял, считай что в одних трусах. Порассказать, так… Помню, сенокосничали раз, так умотались, ни я, ни она косы нести не смогли, так в кустах и бросили. Домой притащились, есть нечего. Сама морковки надергала, ополоснула в кадке – вся еда! Я в плену лучше жил! – возмущённо тряхнул он головой. – А тут ещё налогами обложили. Сорок килограмм мяса, шерсти, яиц, масла, картошки да семьсот десять рублей – всё им дай! Зажили мы тут, было, при Булганине, да нанесло Хруща. И мясо пропало. Или двух овец, или одну свинью держи. Это что, справедливо? А того не понимают, будь у меня лишняя овца, куда я её понесу? На рынок. Эх, что измывались над людьми-то! Свои! Вот и суди, как же меня Бог не обидел? Нет, ты погоди, – остановливал опять меня. – Ты послушай сперва. Лошадей я в колхозе пас, так раз татары жеребёнка-трёхлетка украли. На собрании свои: тыщу рублей пусть платит! Хорошо, счетовод выручил. Во мужик был! Пока матом не выругается, не может начать говорить… «И-и… И-и… Так вашу перетак…» И пошёл: «Мы, – говорит, – с его тыщу возьмём, а завтра татарину за три сотни отдадим? Моё предложение – взять инвентарную стоимость». Тоже, значит, триста. Проголосовали. А то бы… Вот ведь что жизнь-то, Володенька, была. Как послабили малость, так я дом поскорее продал и сюда, к городу поближе. Пусть они там экспериментируют. Теперь, сказывали, ни колхоза, ни села. Всё развалили.
И подобные истории почти каждый день весь месяц нашей совместной работы. И сколько не возражал я ему, при чём тут Бог, он удивлённо восклицал: «Как?!» – и начинал другую историю. Ни Богу он не молился, ни в церковь не ходил, и хотя, как уверял, был Им разобижен, весь годовой круг жизни, тем не менее, определял церковными праздниками. Картошку сажал после Троицы, чтоб зря в земле не зябла. После Петрова дня сенокосничал. В Духов день не работал, на Страстной в рот вина не брал, на Пасху христосовался с каждым встречным, а по воскресеньям запрещал хозяйке стирать и вывешивать бельё. «Что ты! – отвечал на мой удивлённый вопрос. – Острамят на всё село!» Никакие мои доводы не побудили его уступить ни пяди. «Вы, – говорю, – такие упрямые, потому и Сталина пересидели». Улыбается, хотя к Сталину у него отношение особое – горбовое молчание.
3
В то лето произошло ещё одно памятное событие.
Среди сезона, совершенно неожиданно, жену на «скорой» отправил ночью в больницу с сильным токсикозом. Родителей моих не было рядом, и дети целую неделю жили одни в двухкомнатной квартире под присмотром старшенькой, восьмилетней Саши.
Не без волнения каждое утро проносил я через тихую комнату велосипед с балкона. Будил Сашу, чтоб закрылась. И всю дорогу, и всё время пастьбы мысли мои были дома: «Как там они?»
Домой возвращался с тою же тревогой в сердце. В пятый день решил проведать детей в обед: скотина обычно лежала на стане часа по четыре. Бывало, снималась и раньше, но я надеялся на русский авось, и после дойки поспешил к дому.
Однако на подъезде словно что стукнуло в сердце – все окна квартиры были настежь!
Влетаю на второй этаж пятиэтажки, дверь нараспашку. Вхожу – и Боже ж ты мой! – кого тут только нет! И откуда только понабежали эти подружки! Шум, гам, заедающая пластинка, шесть ручонок азартно ботают по клавишам фортепьяно. Младшенькая Даша, в одной распашонке, в собственной лужице спит на полу. Тюль парусит и взвивается к потолку от сквозняка, вызывая общий восторг.
Все замерли сразу – так, видимо, грозен был мой вид. Подружки быстренько потекли в дверь, а я не знал, за что в первую очередь взяться – за ремень или затворить окна.
Подойдя к Даше, услышал хрип. Ребёнок задыхался и весь горел. Поднял её, отнёс в кроватку, поставил градусник. Затем закрыл окна, попутно выговаривая старшей. Но от страха она лишилась способности соображать и, вытаращив глаза и поджав губы, смотрела исподлобья неподвижным взглядом. Маленькое существо беспомощно хрипело в кроватке. Градусник показал тридцать девять и две. Я был в отчаянии.
– Как тебе не стыдно, Саша! Как тебе не совестно! Я так на тебя надеялся, а ты! Ведь Даша может умереть!
Варя, Никита, Маша сгрудились у кроватки, ткнув головки меж палочек. При моих словах они все разом посмотрели на меня и трёхлетний Никита, безмятежно глянув, спросил:
– Папенька, а она в рай попадет?
Меня взорвало.
– Что?! Я вам сейчас покажу рай! – и я заходил по комнате в поисках ремня. – В рай! Она-то попадёт! А вы куда попадёте? Вы, убийцы! Что вы ответите Богу, когда спросит?
– А мы… мы её не били… мы не убивали, папенька… она сама… – залепетали испуганные голоса.
– Как же не убивали, когда почти что убили таким отношением! Открыли все окна, а ребёнка, чтобы не возиться с ползунками, бросили на пол, почти на бетон, на этот линолеум, это же всё равно, что убили!
Ремень не находился, я начал остывать. К тому же тревога за судьбу дочери, не на шутку испуганные лица детей – всё как-то разом придавило беспомощностью.
– Эх, Саша, я так на тебя надеялся, а ты!.. – выговорил я с горечью, едва сдерживая слёзы. Глянул на часы, пора было ехать: не дай Бог ещё забредут на совхозный клевер. – Я думал, ты большая, понимаешь… А вы! Вы же в Бога верите, в церковь ходите! Как же вы так?.. А что с маменькой будет, когда узнает? Не жаль вам её? А мне каково? С чем я уеду? Что у вас тут опять будет?
Слезы выступили на моих глазах. Саша заметила.
– Папенька, мы больше не будем окна открывать…
Я задумался.
– Вот что, – наконец, решил, – идите сюда.
Отпер ключом кабинет, маленькую клетушку, в которой помещался слева от окна во всю стену диван, напротив, через метр, письменный стол, рядом стеклянный, но уже без стёкол шкаф с книгами. Такой же шкаф, только другого цвета, стоял слева от двери на тумбочке, дверцы которой, когда открывались, почти касались спинки дивана. На шкафу – иконы, лампадка. Самая большая и древняя икона – Рождество Пресвятой Богородицы, в медном, позеленевшем окладе (память от Новской идиллии, о чём речь впереди), ещё несколько обычных бумажных иконок, и главная святыня, хранительница семьи и в родах помощница – Фёдоровская.
– Становитесь рядом со мной на колени. Матушка, Царица Небесная, ты видишь, какое у нас горе, а у меня вдвойне – от непослушных детей. Кого нам просить, как ни Тебя? Ты наша Помощница, наша Заступница. Помоги. И детки обещают вести себя хорошо. Обещаете?
– Да-а… Мы больше не будем, папенька…
– Смотрите. Божией Матери обещание дали. Кланяемся.
И мы поклонились до земли. Затем я достал икону, и все по очереди приложились. Присмирели, притихли, даже лица переменились.
И всё же я уехал с тяжестью на сердце. Беспокоила больная дочь. Хотя и протёр тельце разбавленным спиртом и попытался влить «летической смеси», ребёнка только вырвало. А вместо плача – хрип.
На стане же всё было благополучно. Коровы спокойно лежали меж высоких сосен, жуя серпу, обмахивая ушами от глаз мух. Пронзительно стрекотали кузнечики, купались в дорожной пыли воробьи. Всё было так да не так. Ни сидеть, ни стоять, ни тем более читать я не мог, а всё ходил и ходил, подавленный своими переживаниями. Больной ребёнок, непослушные дети, жена в больнице. Надо быть дома и не могу. До вечера ещё ой сколько! И всё это время жить с этакой мукою на сердце? А эти лежат и жуют. И никому нет до меня дела. Меня разбирала досада.
Наконец, не выдержал, стал подымать стадо прежде времени. Кныжась и удручённо вздыхая, послушно-лениво, безропотно стали подыматься, потягиваться, иные пускать светлые струи, «минировать» лежанку. Ничто, казалось, не могло выбить их из привычного ритма жизни. Послушание их немного усовестило, подавив досаду. «Они тут при чем?»
В лесу, через который лениво брело стадо к месту выгона, взмолился. Но что это была за молитва! Никогда прежде да и потом я так не молился! Так бестолково-неистово! Всё моё тягостное чувство безысходности вылилось в этих бессвязных словах. Я не просил, я требовал чуда. И даже грозил тем, что непременно возропщу, если не получу просимого. Не знаю, сколько времени молился таким образом, заливаясь слезами, ничего не видя и не слыша, только в какой-то миг глубокая тишина и отрада вдруг сошли в моё сердце. Ад души, подавленной горем и страданием, бесследно исчез. А мир вокруг преобразился, как бывало на Новских выселках, на закате, когда под вечер, выйдя из баньки, на мгновение застывал в чуткой предсумеречной тишине вишнёвого сада, охваченного пожаром заходящего за далёкий горизонт неправдоподобно огромного солнца.
Так хорошо мне стало, так благостно! И главное – какая-то внутренняя убежденность, что услышан. Молитва как началась, так и закончилась сама, и никакие потуги возобновить её не имели успеха. Не о чём было больше просить? Господь дал всё сразу. Лишь чувство благодарности переполняло душу. И мир этот, казалось, изливался на всё: на молоденькую дубовую рощу, на просеку ЛЭП, с вечно потрескивающими проводами, на небо, зелень и стадо, улегшееся под насыпью высохшего отстойника.
Чувство это сохранялось до вечера, и ещё долго потом я жил воспоминанием о нём. Правда, на подъезде к дому заскочило как бы со стороны: «Приедешь, а там…»
Но что же ожидало – там?