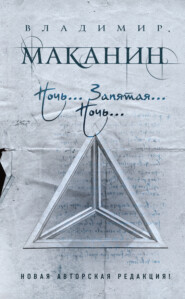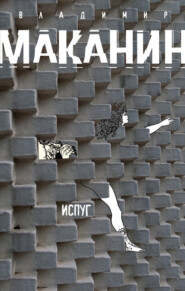По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Антиутопия (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Они следуют чуть впереди намеченных людей и только на самом выходе – правило вестибюльной засады, технология – один из нешумных берет под локоть мужчину, а другой женщину. Их руки так просто делают свое, так неотвратимо спокойно и твердо, что те даже не вздрагивают, – женщина, с ее повышенной чуткостью, отпущенной ей природой, не вскрикнула, не ойкнула, не повернула головы: так сразу поняла. Мужчина было напрягся, мышцы стали твердеть, но рука, его державшая, тут же и отпустила. На мгновение раньше, чем мужчина мог бы инстинктивно дернуться и, возможно, рвануться, рука отпустила, похлопала его легонько по рукаву на уровне локтя и взбугрившейся мышцы – мол, что ты? зачем?.. – и, похлопав, вновь его взяла. Так они прошли до закрытой серой машины, до коробки микроавтобуса, сели.
Ничего не было сказано, и шофер ничего не спросил. Машина тронулась. Значительность предстоящего ведет к известной немоте. Взятый мужчина все же заговорил (присутствие здесь женщины сделало его сколько-то ответственным), нарочито громко и с вызовом он поинтересовался, что это, мол, мы вместе едем и куда? – на что последовал вздох того, кто в кепке, усталая улыбка и негромкие слова: да ладно тебе, мужик, не дергайся, веди себя достойно… и ровный, ровный шум мотора.
Оба сидят, каждый напротив своей жертвы. У первого совсем заспанные глаза, вчера ночью едва не померла его соседка, сердечница, приступ за приступом, а ее муж, старый пенек, весь в радикулите, а телефон, конечно, не работал (наш сервис!), так что пришлось побегать. Вызывал лихую неотложку в два ночи, потом в четыре, потом еще в половине шестого. Так и не поспал. Он и всегда-то молчалив, а сегодня совсем бессловесен, так устал. Он было свешивает голову, но второй начеку, касается рукой его колена: нельзя. Сейчас и пяти минут нет, чтобы смежить глаза, вот что значит предупредительное касание. (И минуты не улучить, потерпи.)
В лесу, едва свернув с шоссе под кроны деревьев, они высаживают мужчину и женщину возле ям и приканчивают их двумя короткими ударами своих тяжелых ножей.
Ножи они обычно носят под легоньким пальто, в чехлах. Чехлы нельзя назвать ножнами, они из кожзаменителя, простой формы и вместительные, так что нож и вся рукоять, по сути, болтаются в глубине мешка, и при необходимости нож надо рукой там нащупывать. Но опыт упрощает дело.
Убитые лежат в нескольких шагах друг от друга, мужчина головой к лесу, она – к дороге. Один из нешумных напоминает своему товарищу, что, мол, убитых не разъяли, а ведь таково правило (а правила не отменишь). Чтобы кому-то было спокойнее. И чтобы, скажем, медики не пытались искать почку или селезенку для своих тайных пересадок. Тот кивает – да. Не перекуривая и продолжая работу, они раздевают обоих догола, иначе не разъять. Те лежат голые. Женщине лет тридцать пять, в самом соку, тело крепкое и в бархатном загаре, груди торчком. Один из них подходит к женщине ближе, спускает брюки и приникает к ней. Ведь ее почки и печень и все прочее еще живое, настолько живое, что медики и через пять с лишним часов готовы это забрать и заставить жить в другом организме (жаль же, вот так сразу и в землю, в сырую-то землю), – поимев ее, минут через четыре-пять он подымается. Его дыхание сбито, тяжело.
– Сладкая. Не хочешь? – говорит он второму.
– Не.
Они берутся за ножи и быстро, уверенно рубят на куски обоих лежащих. Какие-то куски крупны, но нож достаточно тяжел, остер, и, еще раз оглядев, они расчленяют крупное на более мелкое. Они сбрасывают все в яму, дело заканчивается, а шофер стоит к ним спиной шагах в двадцати, курит и смотрит через деревья на все тот же заметный отсюда отрезок шоссе.
ТАМ БЫЛА ПАРА…
Там была пара, его имени не помню, а ее звали Маша, оба лет двадцати. «Мы уж год трахаемся! ну что ты!.. Мы взрослые люди!» – говорила Маша кому-то по телефону в долгом разговоре. Оба были заметны, выделяясь прежде всего влюбленностью друг в друга. А потом он покончил с собой. (Зачем же еще подчеркнутое ощущение лет, если не для того, чтобы, означив возраст – возраст забыть. Освобожденность таким путем. Но он умер, такой молодой…) Помню, мы с Машей закурили, а он, отложив сигарету в сторону, вертел в руках только что приобретенную им у кого-то (вот цену помню!) за сорок рублей «По ту сторону добра и зла» – ксерокопию очень старого издания на русском. Он все вертел ее в руках: мол, так много слышал о книге, а вот и купил. А я попросил книгу на день-два, и он тут же мне ее дал. Он так и не прочитал, ибо как раз в последующие два или три дня покончил с собой, наглотавшись каких-то таблеток и оставив вполне ясную записку. Еще два дня он пролежал где-то у себя дома, только потом позвонили сюда. Молодых людей его смерть, по моим понятиям, не потрясла – они согласно и несуеверно сказали друг другу:
– Он же был сдвинутый! Ну, ясно!.. а что? Не замечали?
И сразу, точь-в-точь как это делается и в нашем поколении, они припомнили немало случаев, в которых погибший был странен и в которых уже загодя чувствовалось некое его отклонение. Тем самым успокаивали самих себя, нормальных, как это делают и среди нас, – только у нас нет таких емких выражений, как «был сдвинутый» или «поехала крыша», у нас погрустнеют и говорят так: «Он же был шизик!.. Ты что, не знал?» – после чего с некоторой степенью достоверности назовут, пожалуй, больницу, где погибший раз в год подлечивался.
Сказать честно, я тоже не был потрясен его гибелью; возможно, потому, что знал его совсем мало, но возможно, по причине того же вдруг возникшего холодка в самозащищающейся душе, что и у них. Меня царапнуло прежде всего то, что распалась такая красивая пара. Они очень подходили друг другу, особенно когда гремела их музыка и танцевали.
Девочка Маша – так я про себя ее звал – тоже не была потрясена. В тот вечер, когда стало известно о его гибели, она, конечно, плакала, даже выпила залпом что-то крепкое, но чуть позже слушала модную музыкальную группу и спорила, выкрикивая яростные слова в защиту этого ансамбля; спорила она страстно, забыв все на свете и размахивая маленькой авторучкой, зажатой в кулачок, как увлеченная учительница младших классов.
Его жизнь кончилась, тем самым вполне совпав с его юностью, и в этом смысле он ушел из юности, а я, куда более старший, пришел и теперь сидел в их юности, откинувшись на стуле и слушая громкозвучную музыку. Его уже здесь не было. Девочка Маша, и я, и все другие вокруг нас пили из чашек или из стаканов, из которых пил прежде и он. Обычно он пил (немного водки или красное вино) из прозрачного тонкого стакана, из тех дешевых, покупаемых какой-нибудь столовой сотнями в расчете на бой, и каждый раз, когда мне в общей путанице посуды попадалась не чашка, а такой стакан, я его тискал и все крутил в руках, словно проверял чей.
Под окнами, а дело зимой, один из наших молодых людей, надев восточный халат прямо на голое тело, ездил на велосипеде кругами неподалеку от дома под падающим мягким снегом. Прохожие оглядывались на него, подчас свирепели, что нашей молодежи, скучившейся и наблюдавшей из окна, доставляло особую радость возрастного (и отчасти группового) вызова всем и вся. «Колька-аа! Никола-аа-ай! Хва-аа-тит!.. » – кричали они ему. Собирали с подоконника снег и, целя в велосипедиста в ярко-красном алма-атинском халате, попадали снежками в прохожих. И кто-то говорил самому себе и другим тоже, – а из окна валил морозный воздух: «Хватит. Врубай музычку! Да закройте окно. Мужика простудите». И, конечно, «мужик» – это был я, сидевший несколько заторможенно в разбитом их кресле, уставший к вечеру и сидевший тихо, однако незаметно для себя сломавший стакан, еще и порезавший руку. Не знаю, как это вышло. Кажется, испугался, что утрачу этот возврат в их юность, вглядывался в лица (молодые лица всегда красивы), в их тонкие руки, в девичьи брови или молодые усы парней, и от ощущения, что это надо видеть, слышать, вбирать, иначе пропадешь, от такой вот, самому мне несколько неожиданной, жажды биологического продления жизни возникло что-то вроде отмежевания от своей судьбы, цеплянье за их зеленость, оклик или зов оттуда, и… хр-руп, сжал стакан, обычный и тонкостенный стакан, быть может, его стакан. Сломав, поранил ладонь и пальцы тоже, притом сильнее, чем показалось в первый миг. Капало и капало, текло, платка не хватило, и теперь капало на пол меж спешно расставленных моих коленей, – и кто-то из них сказал: «Смотри-ка на мужика. Ого?!»
Быть с ними не полезно, если думать о собственном теле, о здоровье. Весь следующий день в голове тяжесть и тупость; и поясницу ломит. Но кислицу дня вновь сменяют надвигающиеся вечерние часы. И вновь начинает манить, звать, и каждый раз это кажется боольшим, чем обычная притягательность молодых разговоров и выпивки на ночь глядя. Квартира (от какого-то родственника), оказавшаяся в полном их распоряжении, все три комнаты и кухонька, прокурена донельзя, до прогорклости, до невозможности, так что сидеть тут долгий вечер и мало-помалу за полночь – это надо быть сильно пьяным или… молодым. Но душа там мягчеет, они добры, эти мальчики и девочки, как я их про себя называю, их мысли свежи, их слова неожиданны.
«Мужик» – так они звали меня, что перешло ко мне от одного старика, который ходил к ним прежде меня и который когда-то (во время войны) был, как говорили, профессиональным разведчиком. Старый шпион все еще трусил. Крепко выпив (а портвейн у них в квартире был всегда), он забывал, кто есть кто. Это доставляло старику большое мучение. Ему мерещилась опасность. Его лицо от натуги (от усилий понять) бороздили морщины. Наполовину глухой, выставляя вперед правое ухо и внимательно прислушиваясь к щебету молодых, он пытался сообразить – среди кого он и с кем.
Он жил неподалеку; без родных; томился в четырех стенах – и приходил сюда. Наконец его взяла к себе некая богомольная старушка, и он перебрался в дальнее Подмосковье. Кто-то из молодых ездил туда и даже старушку навестил (и будто бы выпросил у нее небольшую, совсем не дешевую икону). Но кажется, они все это присочинили: они попросту проморгали, как и каким образом старик исчез. Было лето, а они все разъехались.
– А видно, матерый был! А как он портвейн пил в свои восемьдесят! – первое время они нет-нет и затевали вспоминать старика; набор выдумок, переживших человека.
Так что, если о месте, то, пожалуй, я зря мучился – мол, живу юность погибшего (от таблеток) молодого человека, дышу его воздухом. На деле же я занимал возрастную нишу ослабевшего старика с огромной головой и аккуратной седой бородой (как они всем, и мне в том числе, этого старого шпиона описывали); возрастную нишу человека, греющегося возле молодости.
Слушая шумный ансамбль, они могут заниматься чем угодно, некоторые готовятся к семинару по физике или просто играют в карты (в дурака или в иные простенько блатные игры, преферанс у них не в чести) – играют себе и играют часами. И говорят. А музыка ревет:
Ты спала с мерзким Курочкиным,
ты-ыыыы спала с боксером-пьянчугой,
ты-ыыы спала со старикашкой-вахтером,
но,
но-оооо,
но-ооо я хочу быть с тобой, быть с тобой,
быть с тобой…
(то есть все равно хочу быть с тобой, и ничего тут мне не поделать и не придумать; уже и не сама замечательная песня – пародийное ее исполнение).
Они уже были – без. И как легко стали они внеобщественны (в старом смысле слова), с неожиданным удовольствием ощутив готовность своего «я» к отношению с небом. Добро и зло – это ведь как лабиринт, но скорее всего в лабиринте ты (человек) не запутаешься, а попросту устанешь идти и махнешь рукой: хватит!.. махнешь обеими руками (тут Сашук, один из самых умных, улыбнулся, подверстывая вдруг подвернувшийся образ), взмахнешь и… как птица взлетишь и сделаешь круг и еще круг, видя уже сверху все многообразие комнат и переходов. Ощущение полета столь ново и содержательно само по себе, что ты (и тут тоже как птица) уже не хочешь косвенной последовательности запутанных комнат. Устал? Стоп, стоп! Дело не в усталости. Высокий звук (отзвук) христианского отчаяния и требы, но не тупик. Но и когда улетаешь, все же не унесешь (и не удержишь в памяти) этот великий план человеческого многовекового опыта…
Слава богу, что у нас есть крылья и мы можем взлететь, мы как птицы, говорил Саша, Сашук, один из них.
Как бы меняя и во внешнем тупик на взлет, они вскочили с мест (разговор побоку), тут же врубив музыку, как всегда громкую. Отплясывали, курили, то делали полумрак, то включали свет, отыскивая нужную магнитофонную кассету, я же продолжал сидеть в кресле, прикрыв глаза. Музыка не гремела, стала вкрадчива, нежна. Танцующие раз-другой задели мои ноги. В старом их кресле торчали две пружины, так что приходилось к ним приспосабливаться, и я это уже умел, имел опыт. Но, когда задевали по ногам и я сдвигался, пружины, перемещаясь, тотчас выстреливали и жестко о себе напоминали, после чего вновь приходилось елозить задом и смещаться (и пока я приспосабливался к пружинам, пружины приспосабливались ко мне).
Мы можем взлететь над лабиринтом добра и зла, мы как птицы, но мы не можем его осмыслить и за краткое наше время постичь, говорил умный Сашук. И потому – надо верить. Сейчас он танцевал, весь изгибаясь, а молодая женщина, повторяя своим телом его изгибы, льнула к нему и гнулась еще сильнее, самозабвеннее, чем он. Чувствовался поздний час; клонило в сон. Я перебирал в памяти их слова, их мысли и тихо завидовал.
Завидовал; из себя же ничего, кроме осторожной иронии, извлечь не мог.
Добро и зло – как две выскочившие и мешающие пружины старого кресла. Я повторял столь кружным путем пришедшие слова. Благоденствие нечестивцев и испытание праведных – но почему? почему?.. То есть испытывают именно праведных, не доверяя им, и есть ли в этом лишь известная формула очищения человека страданием?..
Определений добра и зла, как и способов размежевания, нащупываний границы меж ними, было, надо думать, бесчисленное множество: как, скажем, лабиринт у этого умного юноши. Или хотя бы как пружины в старом кресле, которые мешают сидеть. Но что, если в ту же сонливую и упрощенную минуту в нас и впрямь происходит некое вечное, но нам неслышное и недвижное сражение? (Как не слышно и не видно нам, к примеру, движение лейкоцитов нашей крови.)
Борьба идет, а мы не ощущаем ее и не чувствуем, какое великолепие! – подумал я в ночном восторге.
Шахматная доска с фигурами давно расставлена, партия идет который век, а мы ее не видим. И что, если предводителя добрых сил во мне (и во всяком другом человеке тоже), играющем белыми, назвать… но ведь и неназванный, он воюет, ходит своими белыми пешками и белыми фигурами, разрушает хитроумные комбинации хвостатого противника, завершая свои фланговые атаки и контратаки, пока я тут сплю. Да, я сплю. А он не спит. Он за меня, и ничего нет лучше этой мысли.
А я сплю. Что, если я хочу спать, но не свалившись в кровать спать и чтоб до самого утра и до галочьего за окном крика, а так, как сейчас, – сидя и вытянув ноги, и чтобы в старом кресле в углу и другим не в тягость, призакрыв глаза, когда рядом гудит тяжелый металл вокально-инструментального ансамбля и под этот металл (плюс пронзительный и щемящий женский голос – Маша?) танцует, гнется, льнет, прыгает, извивается, скачет и никак не может насытиться жизнью чья-то молодость?
Случалось, разумеется, видеть по телевидению, как поутру бежит здоровья ради по специальному тренажеру человек в своей красиво обставленной квартире. Бежит он быстро. Делает бег, избавляясь от гиподинамии. Какой-нибудь финн или норвег. Бежит и бежит на одном месте, а тренажер, легко движущееся полотно тренажера так и проскальзывает под его крепкими ногами, – представим себе, что бежит он вечно, бежит всегда, бежит каждый час и каждую минуту этот хорошо видный на экране круглолицый финн или узколицый норвег, и полотно тренажера скользит, летит под ним тысячелетие за тысячелетием. Это и есть трудолюбивый ангел или даже Бог, сражающийся с миром зла и в нас и за нас, – в то время как мы можем этого и не знать. Частицами тренажерского полотна мы знай мелькаем и мелькаем под его ногами, поколение за поколением, как шаг за шагом.
Я сидел в старом их кресле и, видно, уже сильно дремал, клевал носом, – время шло к ночи. Они поставили мне на колени пустую консервную банку под пепел, так что в двух-трех шагах от дремлющего танцевали молодые женщины, хорошенькие, милые, лет двадцати, стряхивали столбики пепла своих сигарет в пустую банку, улыбаясь и получая удовольствие от этой и впрямь комической сцены. Я себе дремал, банка себе стояла на моих коленях. Им было проще и удобнее не бежать с сигаретой к пепельнице на столе или подоконнике. Можно было продолжать танцевать и курить, положив руки на плечи парней в полумраке, и нет-нет принагнуться и стряхнуть пепел в банку; никакой злой шутки, просто молодость и милое дурачество.
Лабиринт, через путаницу комнат и переходов которого все равно никому из них не выбраться (но успеть все же почувствовать, что есть еще пространство третьего измерения, есть объем и воздух, и есть птица, которая взлетела над – и которой далось-таки если не запомнить, то все же глянуть на всю эту путаницу на миг сверху). А тот их мальчик, молодой человек, наглотавшийся таблеток и оставивший ясную записку на столе возле кровати, был уже далеко. Его сожгли. Они пошли к нему в колумбарий, в тот нескончаемый лабиринт человеческого пепла, который в свой черед запутан (обогащен) дополнительным лабиринтом небольших плит на стенах, с ладонь величиной, на которых так мелки фотографии с датами рождения и смерти; лабиринт лиц, которых уже с нами нет и из которых тоже уже не выбраться, не осилить и не упомнить, а только взлететь над.
Олежка, единственный из них экстремист, молчаливый и полный ярости, которую он хорошо умел держать под спудом. Но которая вдруг прорывалась, и тогда он хотел напустить, науськать на умничающих интеллигентов изнуренную толпу. Он весь темнел и шел пятнами, когда касались темы. Он говорил: «Эти высоколобые…» – или: «Эти, дурачащие народ…» – и хотел, разумеется, чтобы умников прибрали к рукам и чтобы тем самым люди, человечество было выровнено. И чтобы никакого дальнейшего расслоения. Все мы должны быть более или менее одинаковы. И быть счастливы или несчастливы – но быть одинаковы и вместе.
Он был некрасив, в оспинках, припухшие щеки, но молодые женщины его любили. Вот что у Олежки было красиво – глаза. И я думал – ну зачем с такими мыслями и с такой притаенной готовностью к укусу такие глаза?.. Или так думал: озленный мальчик, но зато глаза у него. Хотя бы глаза.
На манер ли нашей Гражданской войны, или как в тридцать седьмом, или хотя бы путем эмиграции интеллигенция должна подравниваться под народ, да, да, надо ее подравнивать, периодически тем самым от нее избавляться, – он любил сдержанно-энергичное слово. Хотя бы путем эмиграции.
– Но, Олежка. Все это уже сто раз было, – сказал я ему. И так получилось в ту минуту, что магнитофон попал на свою паузу или на перемотку, так что сказались мои слова в полной тишине и весомо. Все это уже было.
– Было, – кивнул он. И с этой минуты, кажется, меня ненавидел. Посмеивался, когда я приходил. И все иронизировал. Говорил, что меня надо непременно и принудительно заставить копать длинную канаву в восточном направлении, пока я не докопаю до китайской стены. А когда я докопаю, китайцы научат (это уже, конечно, их проблема, он не смеет им подсказывать) – научат копать канаву дальше. Так что с копанием у меня даже на день не получится перерыва. Он язвил. Он покусывал. Он меня поддевал. Он был мальчик. Обыкновенный мальчик. Я грустнел, застигнутый повторением. Я ведь мог предвидеть этого мальчика. Я, кажется, думал, что мыслей выровнять человечество (мыслей хотя бы и в чистом виде) уже нет. Я думал, были. Всадники гражданской войны ускакали в далекую белую пыль, передвигаясь все дальше и дальше. Скрылись – думалось, их уже нет, а они, хотя бы и за линией горизонта, ни на минуту не прекратили своей скачки и, двигаясь на рысях, торопясь, обогнули, как Магеллан, землю и теперь появились с другой стороны, со стороны юных, появились в пыльных шлемах и, не слезая с коней, сказали:
– Вот и мы.
Вспомнил в юности теплый, немного душный вечер. Лето. Костер у реки. И… вдруг утопленник. Бородатый старик лежит в подштанниках на берегу реки, на груди крестик. Люди стоят. Люди толпятся, разглядывают, и мы вдвоем – она и я – тоже хотим протиснуться, и я не выпускаю ее руку, тяну за собой, лезу сквозь людей. И тут кто-то дает мне по башке. Толкает меня. И других тоже толкает, отпихивает: «Ну-ка убирайтесь! ну-ка!.. нечч-чего тут смотреть!» – он толкает, гонит нас, как милиционер. Не знаю, кем он был. Во многих мужчинах просыпается милиционер в минуты возбуждения малой толпы (большая толпа – совсем другая тайна) – просыпается властность, тем более если возбуждение толпы так или иначе связано с человеческой гибелью. И мы ушли в сторону. И я и она. Все отошли. Мы так сразу и легко подчинились.
Соседствующий кусок юности – я, студент университета, приехал в поселок, а там умерла моя двоюродная или даже троюродная тетка, а я пришел (кто-то сказал: пойди! пойди!..) в ее дом и по молодости слонялся там, не знал, что делать. В избе было темно и прохладно. Двое мужиков сбивали большой стол. Вокруг хлопотали, варили мясо, заботились о поминках.
Слоняясь, я видел тихие поборы. Суть их проста: когда человек умер, в его дом или в избу набивается разного народу, и непременно найдутся люди, старые бабки, почти ритуальные воровки, которые обязательно прихватят в общей суматохе вещь, чаще всего из одежды покойника или покойницы. Дом стоит в эти горестные часы незащищенный, родные, конечно, не помнят или не уследят. (А покойница тоже обойдется на том свете ангельскими заботами. И уж, конечно, одежонки своей теплой, с узорами, не хватится и нам ее не сочтет.)