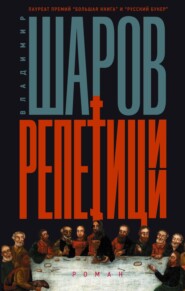По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Царство Агамемнона
Серия
Год написания книги
2018
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
“Я уже тебе говорил, – рассказывал он Гале в Ухте, – что у Лидии был туберкулез; что она может забеременеть, мне и в голову не приходило, потому мы думали, что если кому и надо предохраняться, то мне от ее болезни”. И тут же снова стал вспоминать, что, скитаясь, они встречали разных Романовых, иногда собирались чуть ли не всей семьей: и император Николай, и царевич Алексей, и его сёстры-княжны. Потом снова расходились, но кочевали по одним и тем же адресам, и скоро с кем-то из них судьба опять сводила.
“Лидию те, кто нас принимал, держали за великую княжну Лидию Владимировну. И хотя они смотрели на нашу связь без одобрения, но мешать не мешали, что нас вполне устраивало. Лидия, – рассказывал отец Электре, – была человеком ярким, взбалмошным и, может, из-за туберкулеза всегда немного на взводе, всегда возбуждена. Она знала, что жить ей осталось недолго, оттого и чувство жизни такое острое, какого я больше ни в ком не встречал. Возможно, в ней было что-то похожее на маму, только у мамы острота шла от здоровья и избытка сил, а в Лидии всё было непрочно, и от слабости ежесекундно менялось. Когда она забеременела, ни она сама, ни я не могли в это поверить, у нее и месячных настоящих не было, так – от случая к случаю день-два помажется. Но она вы?носила и, уже арестованная, в тюрьме родила. Потом ничего не писала, я даже письма? не мог отправить, не зная, где ее лагерь.
Да и чем я мог ей помочь? Сам тогда сидел в тюрьме. А дальше, когда мы с ней друг друга нашли, она написала, что, хоть и молилась, наш ребенок родился немного убогий ножкой, а еще через восемь месяцев, что он умер в «маменькином бараке». Написала, как он умирал, как отвернулся от нее, больше не хотел брать грудь, – это письмо было страшно, и я уже тогда понимал, что больше Лидии не увижу.
Не зная, что делать, послал письмо Телегину, умолял о помощи, но оно попало к якутке, и она мне ответила, что никто моей Лидии помогать не станет и чтобы я их по таким вопросам не беспокоил. Я ее не виню, – говорил отец, – объясняю себе, что она меня ревновала, со мной ли, без меня – считала, что я навечно как бы ее собственность. И что неважно, есть ребенок или нет, эту мою связь на стороне она расценила как измену. В общем, до Телегина мое письмо не дошло. Но и дойди, не убежден, что он стал бы ввязываться. Якутка права: подставлять себя на ровном месте мало кто захочет.
Между тем, когда стало ясно, что Лидия беременна, все без обиняков стали нам объяснять, что мы живем в блуде, в грехе и только позорим свое царское происхождение. Я однажды сдуру брякнул, что рад бы жениться, да по церковным законам нельзя – ведь мы родня, но хозяева тут же раскопали, что раз она от ветви князя Владимира, то приходится мне троюродной племянницей, и тут никаких запретов нет.
В общем, в тридцать четвертом году нас очень торжественно обвенчали, было это в Топилино, собрались все Романовы, кто тогда был в живых, и император, и наследники, и великие княжны – в общем, чуть ли не три дюжины душ. Нам подарили роскошные подарки, даже был перстень с царской монограммой, а так и шубу, и деньги, и чайный сервиз, правда неполный, Императорского фарфорового завода.
А вообще-то, – говорил отец Электре, – я еще до ареста Лидии хотел выйти из игры, но медлил, было трудно, вокруг меня были только люди, которые знали меня как князя, как князя кормили, поили и деньги давали – по-другому я жить уже отвык.
Но вот, – продолжал отец в следующее воскресенье, – Лидии не стало, и настроение мое начало меняться. На зоне я то и дело вспоминал, как часто люди, которые нас окружали, проклинали товарища Сталина, мечтали, что скоро Америка с Англией нападут на СССР и уничтожат его. Мне такие разговоры никогда не нравились, а тут вдруг я, думая об этом, снова вернулся к своей давней работе о литургике. Стал понимать, что товарищ Сталин – деятель чисто религиозный, чего мы не хотим видеть.
Я не винил власть ни в смерти Лидии, ни в смерти девочки, понимал, что они жертва. Необходимая искупительная жертва, чтобы земля, которая сделалась царством антихриста, очистилась и снова обратилась к Богу. Думал, что вот он, Сталин, соорудил огромный алтарь и, очищая нас, приносит жертву за жертвой, что необходимы гекатомбы очистительных жертв, чтобы искупить наши грехи. И я не знаю, получится у Сталина или не получится, в любом случае, он делает всё, чтобы нас спасти. Невинные, которые гибнут, станут нашими заступниками и молитвенниками перед Господом, оттого и нам необходимо, пока мир не отстал от антихриста, помочь им спастись от греха, то есть ме?ста на земле им так и так нет. Главное же – они, приняв страдания здесь, будут избавлены от мук Страшного суда. С этими мыслями, – закончил отец, – я и отсидел почти весь срок”.
Электра и дальше, во время наших ночных чаепитий, много вспоминала об Ухте. Я что-то спрошу, она станет отвечать и шаг за шагом снова вырулит на трехлетнюю гастроль Жестовского – великого князя Михаила Романова – по городам и весям. Скажет, что и так понятно, что они не одевались, как великие князья. И снова: люди были убеждены, что они должны жить тайно, под чужими именами и, конечно, ни под каким предлогом не признаваться в своем происхождении – последнее чересчур опасно. Должны разыскивать друг друга, при необходимости скрываясь в пещерах или под монашеским одеянием.
Было ясно: то, что они до сих пор живы, само по себе чудо. И что надо продолжать таиться, тоже разумелось. Они и таились: обычно носили какие-то бесформенные рубахи из грубого, серого сукна, напоминающие монашеские рясы. “Немалое число из знавших нас, – говорил Жестовский, – считало, что мы и вправду приняли постриг: им казалось, что, пережив то, что мы пережили, это во всех смыслах естественно”.
Больше того, поскольку монах-мужчина вызывал много подозрений, отец не раз слышал, что великие князья чаще и чаще выдают себя за монашек, соответствующим образом и одеваются. Монашки, во всяком случае до середины тридцатых годов, никакого интереса у властей не возбуждали.
В другой раз Электра скажет, что слышала от отца, что многие из встреченных им Романовых были настоящими юродивыми и это тоже не вызывало удивления. Похоже, люди были убеждены, что когда раньше ты жил на такой недоступной для простого смертного высоте, как царский дворец, а потом в одночасье сверзился на дно, сделался нищим, гонимым беглецом, которого в любую минуту могут арестовать и тогда наверняка расстреляют, – подобный перепад ничто, кроме юродства, вместить не может. Рассказывал про бузулукского Николая II, которого он хорошо знал. Как царь бегает по базару, сам весь оборванный, а за спиной худой мешок, из которого валится на землю какая-то ерунда: скомканные бумажки, катушки для ниток, обрезки кожи, гвозди и аптекарские гирьки. И вот отец останавливает его и спрашивает, зачем он на себя напялил этот мешок, а Николай II отвечает, что мешок у него такой же рваный, как советская власть, и тут ничего не поделаешь.
“Отец, – говорила Электра, – любил детали: тут же добавил, что у всего был точный адрес. Рынок назывался базаром Советской стороны, напротив находилась лавка Центроспирта и место, где они разговаривали, почти что официально было закреплено за кликушей Чихачевой.
Отец тогда наслушался много разного о том, как спаслось их семейство. Чаще другого Романовы объясняли, что расстрельщики побоялись поднять руку на помазанников Божьих, сделали из соломы и старых платьев кукол, разрядили в них по обойме, потом развели во дворе большой костер, чучела сожгли, а пепел развеяли по ветру. Их же отпустили скитаться. Говорил, что, например, царевич Алексей время от времени скрывался под именем Настасьи Филипповны. Смеялся, что Настасья Филипповна была женщиной очень дородной и на лицо весьма приятной, правда, для этого Алексею приходилось бриться чуть не два раза в день.
Впрочем, беда тут была небольшой; наоборот, стоило ему представиться натуральным наследником престола, соответствующим образом одеться и себя вести, – доверия он не вызывал. Отец слышал, как за его спиной тут же начинали перешептываться, говорить, что из маленького, слабого Алеши не мог вырасти такой огромный лоб.
Но чаще других Романовых отец, – говорила Электра, – вспоминал того, первого, Михаила, о котором я вам, Глебушка, уже не единожды рассказывала. Несомненно, он произвел на отца сильное впечатление. Познакомились они еще в тридцатом году, когда отец был простым монахом и ходил по стране, собирая деньги и вещи для беловодских старцев. Дело было в Калязине. Как я говорила, Глеб, – продолжала Электра, – тот Михаил был человеком довольно полным, да и вообще балагур и весельчак. Душа всяческих застолий, пирушек. И что если была возможность, он возил за собой настоящий гарем из трех послушников. Все трое, рассказывал отец, – ты это сразу видел – были к нему очень привязаны, а хозяева домов, в которых останавливался будущий помазанник, потом, когда он уезжал, разговаривая между собой, с восхищением повторяли, что вот после долгой пьянки, когда уже никто и на ногах не стоит, Михаил всё как огурчик и пользует свою ребятню чуть не до рассвета. Но если денег содержать такую армию у князя не было, он за плату договаривался с деревенскими мальчишками. И дважды, когда не смог с ними вовремя расплатиться (оба раза дело было в одной и той же деревне), его по причине этих долгов крепко били.
Но в общем относились к нему хорошо, можно даже сказать, очень хорошо. Человек он был не злой, во всех смыслах в доску свой парень. Вдобавок щедрый. Михаил дружил со служками, у которых были ключи от запертых храмов. По знакомству или за водку его пускали в эти дома Божии, и он целыми мешками таскал оттуда всякое добро, однако предпочитал мануфактуру. Дальше за бесценок сбывал, чаще же просто раздаривал ее деревенским. Бывало, что Михаила след простыл, а в деревню кому-то и бог знает откуда приходит посылка. В ней хорошая, почти что и не ношенная ряса, воздуха?.
Рассказывал дальше, что в честь этого Михаила однажды был устроен, как он сам его назвал, «царский пир». Было много народу, много водки и хорошей еды, и почти всё время пили за него как за наследника престола и просто хорошего человека. Гости разошлись заполночь, хозяева тоже пошли спать. Остались отец и Михаил. И вот великий князь стал хвастаться, что он уже не один год пирует как общепризнанный у монашек князь Михаил, потом принялся рассказывать, что три года назад его арестовали и обвинили в том, что он «притуплял» массы к строительству новой деревни.
Но он и тут вывернулся, объяснил следователю, что еще ребенком его стоптали лошади, вдобавок ударило оглоблей в спину, после чего, как начнет меняться погода, голова у него прямо раскалывается, и на всякий случай добавил, что он тогда теряет память и может сказать что угодно, даже назвать себя великим князем Михаилом.
«Следователь мне: “А врачи что говорят?”
Я: “Врачи сказали, что помочь ничем не могут, все дело в том, что у меня сохнут мозги после той оглобли.
В итоге и отделался всего полутора годами”».
На том же пиру Михаил, что называется, при всем народе, сидел в белой рубашке очень модного в те годы фасона, который назывался «ленинка». «Я ему, – говорит отец, – тихо сказал: “Какая хорошая у вас, великий князь, рубашка”. Он опрокинул еще одну рюмку и так же на ухо отвечает: “Если есть деньги, я каждый год хотя бы один раз еду в Москву поклониться Ленину”. Потом мы уже остались за столом вдвоем, он снова налил себе, и объясняет: “Раньше странники тоже собирали милостыню, чтобы съездить на поклонение в Иерусалим, и даже самый бедный человек давал им ради спасения своей души хотя бы копеечку, а я еду к вождю мирового пролетариата, мощи которого не то что у Христа – все в целости”. Опять же в монастырях то, что осталось, лежит под замком, а тут открыто и сам Ленин – восково-белый и как живой, словно только что уснул. Добавил, что ездил уже четыре раза и его еще влечет, так что при первой возможности снова поедет и опять начал хвастаться, что “обделать” монашек и буржуев ему что два пальца обоссать».
Рассказывая, как сам странствовал великим князем Михаилом, отец с большой обидой вспоминал слободу Стешнево возле города Уфалея, где-то на границе Урала и Башкирии. В тридцать третьем году в этом самом Стешнево снова собрался чуть не весь царский синклит: и Николай II, и царевич Алексей, и он, великий князь Михаил, со своей будущей женой великой княжной Лидией. Похоже, именно из-за того, что рядом была Лидия, отец тогда так остро принял, куда острее, чем раньше, говорил он, что и бывшего царя Николая II, и царевича Алексея те, кто давал им кров, ставили выше него, великого князя Михаила, куда выше. Хотя по закону должно было быть иначе.
«Ведь Николай II, – повторял отец, – сам и добровольно – я его к этому не принуждал – отрекся от престола в мою пользу. Причем и за себя, и за сына. Но очень чтимая в Уфалее игуменья Матрена – остальные шли у нее на поводу – за нашей спиной объясняла, что я, Михаил, хоть и царского корня – с этим никто не спорит, – но мои права на престол плоть от плоти революции, то есть в них нет ничего священного, они чистой воды бесовщина, соответственно надежды стать однажды богоугодным монархом у меня нет и никогда не будет.
Конечно, – рассказывал отец, – ни мне, ни Лидии в лицо это не говорили, но показывать показывали при любой возможности. Например, пируем, – снова стал объяснять он, – но на самых почетных местах нас и не ищи. Во главе стола всегда Николай II, по правую руку от него царевич Алексей, им же и лучшие куски, а мы с Лидией или по левую руку, или еще дальше. Лидия, – говорил отец, – подобную несправедливость переживала очень тяжело, особенно когда стало ясно, что она вынашивает моего ребенка. Потому что было понятно, что и тот, кого она родит, останется на вторых ролях»”.
Электра: “Я отцу в тот раз: «А может, всё дело в том, что и царь и царевич были очень достойными людьми, потому их и привечали?»”
“Да ты что, – отмахивается он, – сам про себя царевич рассказывал, что прежде занимался свободной профессией – спекулировал маслом, поросятами, а однажды купил на фабрике двадцать пар сапог и торговал уже ими по людям. Но, – продолжал отец, – никому это было не важно, а важно то, что все знали, что он спасся из-под расстрела по Божьему произволению, как невинное дитя. А так он, конечно, был полный дурень, – продолжал отец. – Взрослый балбес, уже и женат, а играется, будто малый ребятенок. Как останется один, балуется с дверной накладкой, она у нашей игуменьи была из железа, часами тренькает-тренькает, и улыбка во весь рот. Видно, что ему только это и надо, а царство – кому от него прок?”
Часто отец и по мелочам рассказывал, как они жили с Лидией. Начнет, например, что у них за спиной много судачили, говорили разное – хорошее и плохое.
Электра: “Хорошее ладно, ты мне скажи, что плохое?”
Отец: “Из плохого среди прочего говорили, что нынешние Романовы – кочующая цы?гань. Другой раз идешь и слышишь, что вот мы не умели править, а теперь жалуемся, что нам тяжело живется. Редко кто не осуждал Александру Федоровну, в ней вообще видели корень всех бедствий, говорили, что для нашей семьи она стала проклятьем. Это даже не за спиной – говорили прямо за столом”.
Я: “Ну и что, Николай II не возражал?”
Отец: “Нет, во всяком случае, при мне не возражал, к тому времени с ним давно уже жила другая женщина. Она эту Александру Федоровну могла так отчехвостить! При ней об Александре Федоровне говорить не стоило”.
Я: “Ну, а в чем конкретно ее обвиняли?”
Отец: “Ну, например, в том, что она оставила детей на произвол судьбы и революции. Согласись: что тут скажешь? Ведь так и было. От этого не уйдешь. А вообще-то, – говорил отец, – нас не обижали. Лидия, – рассказывал он дальше, – когда наставляла, как держаться, когда во мне опознают великого князя, что и на какие вопросы отвечать, чтобы без сучка без задоринки, говорила, что сама в массах дочерью царя она никогда себя не объявляет, считает, что опасно, да и вообще не нужно. Говорила: «Меня и так знают как великую княжну, лишний раз светиться нет необходимости. Конечно, и меня обсуждают, но, как правило, с сочувствием, много жалеют и из-за туберкулеза, и вообще. Я им кажусь слабенькой, неухоженной, уцепилась коготками за жизнь, но прочности во мне никакой.
В тех обстоятельствах, – говорила она отцу, – в какие мы с тобой попали, женщине ведь тяжелее. Но помогают мне, – продолжала Лидия, – не потому, что хворая: слышала и не раз, как обсуждали, сколько мне дать: столько, сколько прошу, или половину, а может, вообще отказать, и сходились на том, что вот сейчас мне дают деньги, белье, другие вещи, а когда мы, Романовы, вернемся на трон, их за добро, которое они мне сделали, бесплатно свозят в теплые края, в Крым, где много фруктов и море». Она советовала и мне вести себя так же”.
“В следующую субботу, – продолжала Электра, – я опять завела разговор на ту же тему. Говорю отцу: «Ну и что, следовал образцу?»”
Отец: “Да, в общем, да, Лидия меня плохому не учила; что мы как Романовы сумели прокочевать почти три года, всё это только благодаря ей. Ходили по лезвию; что рано или поздно сорвемся, оба хорошо понимали. Иногда, – продолжал отец, – мы себе, конечно, позволяли больше, чем следовало. Особенно поначалу, когда я был разут и раздет. Так, в одном доме, уже прощаясь, Лидия пожаловалась, что мы с ней едем в Москву, а бельишко у меня совсем худое; хозяин смерил меня глазом, что-то прикинул и говорит жене: «Дай ему пару моего белья да на дорогу положи хлеба, банку варенья и колоду карт, а то и вправду едут черт знает куда».
А больше, чтобы что-то выпрашивать – и не припомню. Николай II, тот был проще; бывало, чуть что не по нему, начинает укорять хозяев, говорит: «Я ведь один у вас, не забывайте», – но и это мягко, с печалью. Другое дело – жена царевича Алексея, та была просто оторва – нагла, нахраписта. Если недовольна дарами, принимается грозить, что вот-вот муж займет престол и тогда она это недоброхотство нашим хозяевам еще припомнит. В общем, – подвел он тогда итог, – мы были разные”.
“Помню, – продолжала Электра, – в другой раз, когда речь зашла о том же, я говорю отцу: «Ты всё ссылаешься на Лидию: “она научила”, “по ее наущению”, а сам ты что – не понимал, как вы рискуете? Стоит кому-то стукнуть – и погорите как миленькие»”.
Отец: “Конечно, понимал. Тут всё на поверхности, любой бы понял, но я как раз и объясняю, что мы не зарывались, вели себя осторожно. Если я или Лидия почуем опасность, тут же в кусты, открещиваемся от Романовых будто от нечистой силы. Да и так, если меня кто в лоб спрашивал: «А ведь мы вас узнали, вы великий князь Михаил», от ответа уйду, скажу: «Да, ваша правда, происхождение мое очень высокое, оттого и жительствую я между небом и землей»”.
“Лидию те, кто нас принимал, держали за великую княжну Лидию Владимировну. И хотя они смотрели на нашу связь без одобрения, но мешать не мешали, что нас вполне устраивало. Лидия, – рассказывал отец Электре, – была человеком ярким, взбалмошным и, может, из-за туберкулеза всегда немного на взводе, всегда возбуждена. Она знала, что жить ей осталось недолго, оттого и чувство жизни такое острое, какого я больше ни в ком не встречал. Возможно, в ней было что-то похожее на маму, только у мамы острота шла от здоровья и избытка сил, а в Лидии всё было непрочно, и от слабости ежесекундно менялось. Когда она забеременела, ни она сама, ни я не могли в это поверить, у нее и месячных настоящих не было, так – от случая к случаю день-два помажется. Но она вы?носила и, уже арестованная, в тюрьме родила. Потом ничего не писала, я даже письма? не мог отправить, не зная, где ее лагерь.
Да и чем я мог ей помочь? Сам тогда сидел в тюрьме. А дальше, когда мы с ней друг друга нашли, она написала, что, хоть и молилась, наш ребенок родился немного убогий ножкой, а еще через восемь месяцев, что он умер в «маменькином бараке». Написала, как он умирал, как отвернулся от нее, больше не хотел брать грудь, – это письмо было страшно, и я уже тогда понимал, что больше Лидии не увижу.
Не зная, что делать, послал письмо Телегину, умолял о помощи, но оно попало к якутке, и она мне ответила, что никто моей Лидии помогать не станет и чтобы я их по таким вопросам не беспокоил. Я ее не виню, – говорил отец, – объясняю себе, что она меня ревновала, со мной ли, без меня – считала, что я навечно как бы ее собственность. И что неважно, есть ребенок или нет, эту мою связь на стороне она расценила как измену. В общем, до Телегина мое письмо не дошло. Но и дойди, не убежден, что он стал бы ввязываться. Якутка права: подставлять себя на ровном месте мало кто захочет.
Между тем, когда стало ясно, что Лидия беременна, все без обиняков стали нам объяснять, что мы живем в блуде, в грехе и только позорим свое царское происхождение. Я однажды сдуру брякнул, что рад бы жениться, да по церковным законам нельзя – ведь мы родня, но хозяева тут же раскопали, что раз она от ветви князя Владимира, то приходится мне троюродной племянницей, и тут никаких запретов нет.
В общем, в тридцать четвертом году нас очень торжественно обвенчали, было это в Топилино, собрались все Романовы, кто тогда был в живых, и император, и наследники, и великие княжны – в общем, чуть ли не три дюжины душ. Нам подарили роскошные подарки, даже был перстень с царской монограммой, а так и шубу, и деньги, и чайный сервиз, правда неполный, Императорского фарфорового завода.
А вообще-то, – говорил отец Электре, – я еще до ареста Лидии хотел выйти из игры, но медлил, было трудно, вокруг меня были только люди, которые знали меня как князя, как князя кормили, поили и деньги давали – по-другому я жить уже отвык.
Но вот, – продолжал отец в следующее воскресенье, – Лидии не стало, и настроение мое начало меняться. На зоне я то и дело вспоминал, как часто люди, которые нас окружали, проклинали товарища Сталина, мечтали, что скоро Америка с Англией нападут на СССР и уничтожат его. Мне такие разговоры никогда не нравились, а тут вдруг я, думая об этом, снова вернулся к своей давней работе о литургике. Стал понимать, что товарищ Сталин – деятель чисто религиозный, чего мы не хотим видеть.
Я не винил власть ни в смерти Лидии, ни в смерти девочки, понимал, что они жертва. Необходимая искупительная жертва, чтобы земля, которая сделалась царством антихриста, очистилась и снова обратилась к Богу. Думал, что вот он, Сталин, соорудил огромный алтарь и, очищая нас, приносит жертву за жертвой, что необходимы гекатомбы очистительных жертв, чтобы искупить наши грехи. И я не знаю, получится у Сталина или не получится, в любом случае, он делает всё, чтобы нас спасти. Невинные, которые гибнут, станут нашими заступниками и молитвенниками перед Господом, оттого и нам необходимо, пока мир не отстал от антихриста, помочь им спастись от греха, то есть ме?ста на земле им так и так нет. Главное же – они, приняв страдания здесь, будут избавлены от мук Страшного суда. С этими мыслями, – закончил отец, – я и отсидел почти весь срок”.
Электра и дальше, во время наших ночных чаепитий, много вспоминала об Ухте. Я что-то спрошу, она станет отвечать и шаг за шагом снова вырулит на трехлетнюю гастроль Жестовского – великого князя Михаила Романова – по городам и весям. Скажет, что и так понятно, что они не одевались, как великие князья. И снова: люди были убеждены, что они должны жить тайно, под чужими именами и, конечно, ни под каким предлогом не признаваться в своем происхождении – последнее чересчур опасно. Должны разыскивать друг друга, при необходимости скрываясь в пещерах или под монашеским одеянием.
Было ясно: то, что они до сих пор живы, само по себе чудо. И что надо продолжать таиться, тоже разумелось. Они и таились: обычно носили какие-то бесформенные рубахи из грубого, серого сукна, напоминающие монашеские рясы. “Немалое число из знавших нас, – говорил Жестовский, – считало, что мы и вправду приняли постриг: им казалось, что, пережив то, что мы пережили, это во всех смыслах естественно”.
Больше того, поскольку монах-мужчина вызывал много подозрений, отец не раз слышал, что великие князья чаще и чаще выдают себя за монашек, соответствующим образом и одеваются. Монашки, во всяком случае до середины тридцатых годов, никакого интереса у властей не возбуждали.
В другой раз Электра скажет, что слышала от отца, что многие из встреченных им Романовых были настоящими юродивыми и это тоже не вызывало удивления. Похоже, люди были убеждены, что когда раньше ты жил на такой недоступной для простого смертного высоте, как царский дворец, а потом в одночасье сверзился на дно, сделался нищим, гонимым беглецом, которого в любую минуту могут арестовать и тогда наверняка расстреляют, – подобный перепад ничто, кроме юродства, вместить не может. Рассказывал про бузулукского Николая II, которого он хорошо знал. Как царь бегает по базару, сам весь оборванный, а за спиной худой мешок, из которого валится на землю какая-то ерунда: скомканные бумажки, катушки для ниток, обрезки кожи, гвозди и аптекарские гирьки. И вот отец останавливает его и спрашивает, зачем он на себя напялил этот мешок, а Николай II отвечает, что мешок у него такой же рваный, как советская власть, и тут ничего не поделаешь.
“Отец, – говорила Электра, – любил детали: тут же добавил, что у всего был точный адрес. Рынок назывался базаром Советской стороны, напротив находилась лавка Центроспирта и место, где они разговаривали, почти что официально было закреплено за кликушей Чихачевой.
Отец тогда наслушался много разного о том, как спаслось их семейство. Чаще другого Романовы объясняли, что расстрельщики побоялись поднять руку на помазанников Божьих, сделали из соломы и старых платьев кукол, разрядили в них по обойме, потом развели во дворе большой костер, чучела сожгли, а пепел развеяли по ветру. Их же отпустили скитаться. Говорил, что, например, царевич Алексей время от времени скрывался под именем Настасьи Филипповны. Смеялся, что Настасья Филипповна была женщиной очень дородной и на лицо весьма приятной, правда, для этого Алексею приходилось бриться чуть не два раза в день.
Впрочем, беда тут была небольшой; наоборот, стоило ему представиться натуральным наследником престола, соответствующим образом одеться и себя вести, – доверия он не вызывал. Отец слышал, как за его спиной тут же начинали перешептываться, говорить, что из маленького, слабого Алеши не мог вырасти такой огромный лоб.
Но чаще других Романовых отец, – говорила Электра, – вспоминал того, первого, Михаила, о котором я вам, Глебушка, уже не единожды рассказывала. Несомненно, он произвел на отца сильное впечатление. Познакомились они еще в тридцатом году, когда отец был простым монахом и ходил по стране, собирая деньги и вещи для беловодских старцев. Дело было в Калязине. Как я говорила, Глеб, – продолжала Электра, – тот Михаил был человеком довольно полным, да и вообще балагур и весельчак. Душа всяческих застолий, пирушек. И что если была возможность, он возил за собой настоящий гарем из трех послушников. Все трое, рассказывал отец, – ты это сразу видел – были к нему очень привязаны, а хозяева домов, в которых останавливался будущий помазанник, потом, когда он уезжал, разговаривая между собой, с восхищением повторяли, что вот после долгой пьянки, когда уже никто и на ногах не стоит, Михаил всё как огурчик и пользует свою ребятню чуть не до рассвета. Но если денег содержать такую армию у князя не было, он за плату договаривался с деревенскими мальчишками. И дважды, когда не смог с ними вовремя расплатиться (оба раза дело было в одной и той же деревне), его по причине этих долгов крепко били.
Но в общем относились к нему хорошо, можно даже сказать, очень хорошо. Человек он был не злой, во всех смыслах в доску свой парень. Вдобавок щедрый. Михаил дружил со служками, у которых были ключи от запертых храмов. По знакомству или за водку его пускали в эти дома Божии, и он целыми мешками таскал оттуда всякое добро, однако предпочитал мануфактуру. Дальше за бесценок сбывал, чаще же просто раздаривал ее деревенским. Бывало, что Михаила след простыл, а в деревню кому-то и бог знает откуда приходит посылка. В ней хорошая, почти что и не ношенная ряса, воздуха?.
Рассказывал дальше, что в честь этого Михаила однажды был устроен, как он сам его назвал, «царский пир». Было много народу, много водки и хорошей еды, и почти всё время пили за него как за наследника престола и просто хорошего человека. Гости разошлись заполночь, хозяева тоже пошли спать. Остались отец и Михаил. И вот великий князь стал хвастаться, что он уже не один год пирует как общепризнанный у монашек князь Михаил, потом принялся рассказывать, что три года назад его арестовали и обвинили в том, что он «притуплял» массы к строительству новой деревни.
Но он и тут вывернулся, объяснил следователю, что еще ребенком его стоптали лошади, вдобавок ударило оглоблей в спину, после чего, как начнет меняться погода, голова у него прямо раскалывается, и на всякий случай добавил, что он тогда теряет память и может сказать что угодно, даже назвать себя великим князем Михаилом.
«Следователь мне: “А врачи что говорят?”
Я: “Врачи сказали, что помочь ничем не могут, все дело в том, что у меня сохнут мозги после той оглобли.
В итоге и отделался всего полутора годами”».
На том же пиру Михаил, что называется, при всем народе, сидел в белой рубашке очень модного в те годы фасона, который назывался «ленинка». «Я ему, – говорит отец, – тихо сказал: “Какая хорошая у вас, великий князь, рубашка”. Он опрокинул еще одну рюмку и так же на ухо отвечает: “Если есть деньги, я каждый год хотя бы один раз еду в Москву поклониться Ленину”. Потом мы уже остались за столом вдвоем, он снова налил себе, и объясняет: “Раньше странники тоже собирали милостыню, чтобы съездить на поклонение в Иерусалим, и даже самый бедный человек давал им ради спасения своей души хотя бы копеечку, а я еду к вождю мирового пролетариата, мощи которого не то что у Христа – все в целости”. Опять же в монастырях то, что осталось, лежит под замком, а тут открыто и сам Ленин – восково-белый и как живой, словно только что уснул. Добавил, что ездил уже четыре раза и его еще влечет, так что при первой возможности снова поедет и опять начал хвастаться, что “обделать” монашек и буржуев ему что два пальца обоссать».
Рассказывая, как сам странствовал великим князем Михаилом, отец с большой обидой вспоминал слободу Стешнево возле города Уфалея, где-то на границе Урала и Башкирии. В тридцать третьем году в этом самом Стешнево снова собрался чуть не весь царский синклит: и Николай II, и царевич Алексей, и он, великий князь Михаил, со своей будущей женой великой княжной Лидией. Похоже, именно из-за того, что рядом была Лидия, отец тогда так остро принял, куда острее, чем раньше, говорил он, что и бывшего царя Николая II, и царевича Алексея те, кто давал им кров, ставили выше него, великого князя Михаила, куда выше. Хотя по закону должно было быть иначе.
«Ведь Николай II, – повторял отец, – сам и добровольно – я его к этому не принуждал – отрекся от престола в мою пользу. Причем и за себя, и за сына. Но очень чтимая в Уфалее игуменья Матрена – остальные шли у нее на поводу – за нашей спиной объясняла, что я, Михаил, хоть и царского корня – с этим никто не спорит, – но мои права на престол плоть от плоти революции, то есть в них нет ничего священного, они чистой воды бесовщина, соответственно надежды стать однажды богоугодным монархом у меня нет и никогда не будет.
Конечно, – рассказывал отец, – ни мне, ни Лидии в лицо это не говорили, но показывать показывали при любой возможности. Например, пируем, – снова стал объяснять он, – но на самых почетных местах нас и не ищи. Во главе стола всегда Николай II, по правую руку от него царевич Алексей, им же и лучшие куски, а мы с Лидией или по левую руку, или еще дальше. Лидия, – говорил отец, – подобную несправедливость переживала очень тяжело, особенно когда стало ясно, что она вынашивает моего ребенка. Потому что было понятно, что и тот, кого она родит, останется на вторых ролях»”.
Электра: “Я отцу в тот раз: «А может, всё дело в том, что и царь и царевич были очень достойными людьми, потому их и привечали?»”
“Да ты что, – отмахивается он, – сам про себя царевич рассказывал, что прежде занимался свободной профессией – спекулировал маслом, поросятами, а однажды купил на фабрике двадцать пар сапог и торговал уже ими по людям. Но, – продолжал отец, – никому это было не важно, а важно то, что все знали, что он спасся из-под расстрела по Божьему произволению, как невинное дитя. А так он, конечно, был полный дурень, – продолжал отец. – Взрослый балбес, уже и женат, а играется, будто малый ребятенок. Как останется один, балуется с дверной накладкой, она у нашей игуменьи была из железа, часами тренькает-тренькает, и улыбка во весь рот. Видно, что ему только это и надо, а царство – кому от него прок?”
Часто отец и по мелочам рассказывал, как они жили с Лидией. Начнет, например, что у них за спиной много судачили, говорили разное – хорошее и плохое.
Электра: “Хорошее ладно, ты мне скажи, что плохое?”
Отец: “Из плохого среди прочего говорили, что нынешние Романовы – кочующая цы?гань. Другой раз идешь и слышишь, что вот мы не умели править, а теперь жалуемся, что нам тяжело живется. Редко кто не осуждал Александру Федоровну, в ней вообще видели корень всех бедствий, говорили, что для нашей семьи она стала проклятьем. Это даже не за спиной – говорили прямо за столом”.
Я: “Ну и что, Николай II не возражал?”
Отец: “Нет, во всяком случае, при мне не возражал, к тому времени с ним давно уже жила другая женщина. Она эту Александру Федоровну могла так отчехвостить! При ней об Александре Федоровне говорить не стоило”.
Я: “Ну, а в чем конкретно ее обвиняли?”
Отец: “Ну, например, в том, что она оставила детей на произвол судьбы и революции. Согласись: что тут скажешь? Ведь так и было. От этого не уйдешь. А вообще-то, – говорил отец, – нас не обижали. Лидия, – рассказывал он дальше, – когда наставляла, как держаться, когда во мне опознают великого князя, что и на какие вопросы отвечать, чтобы без сучка без задоринки, говорила, что сама в массах дочерью царя она никогда себя не объявляет, считает, что опасно, да и вообще не нужно. Говорила: «Меня и так знают как великую княжну, лишний раз светиться нет необходимости. Конечно, и меня обсуждают, но, как правило, с сочувствием, много жалеют и из-за туберкулеза, и вообще. Я им кажусь слабенькой, неухоженной, уцепилась коготками за жизнь, но прочности во мне никакой.
В тех обстоятельствах, – говорила она отцу, – в какие мы с тобой попали, женщине ведь тяжелее. Но помогают мне, – продолжала Лидия, – не потому, что хворая: слышала и не раз, как обсуждали, сколько мне дать: столько, сколько прошу, или половину, а может, вообще отказать, и сходились на том, что вот сейчас мне дают деньги, белье, другие вещи, а когда мы, Романовы, вернемся на трон, их за добро, которое они мне сделали, бесплатно свозят в теплые края, в Крым, где много фруктов и море». Она советовала и мне вести себя так же”.
“В следующую субботу, – продолжала Электра, – я опять завела разговор на ту же тему. Говорю отцу: «Ну и что, следовал образцу?»”
Отец: “Да, в общем, да, Лидия меня плохому не учила; что мы как Романовы сумели прокочевать почти три года, всё это только благодаря ей. Ходили по лезвию; что рано или поздно сорвемся, оба хорошо понимали. Иногда, – продолжал отец, – мы себе, конечно, позволяли больше, чем следовало. Особенно поначалу, когда я был разут и раздет. Так, в одном доме, уже прощаясь, Лидия пожаловалась, что мы с ней едем в Москву, а бельишко у меня совсем худое; хозяин смерил меня глазом, что-то прикинул и говорит жене: «Дай ему пару моего белья да на дорогу положи хлеба, банку варенья и колоду карт, а то и вправду едут черт знает куда».
А больше, чтобы что-то выпрашивать – и не припомню. Николай II, тот был проще; бывало, чуть что не по нему, начинает укорять хозяев, говорит: «Я ведь один у вас, не забывайте», – но и это мягко, с печалью. Другое дело – жена царевича Алексея, та была просто оторва – нагла, нахраписта. Если недовольна дарами, принимается грозить, что вот-вот муж займет престол и тогда она это недоброхотство нашим хозяевам еще припомнит. В общем, – подвел он тогда итог, – мы были разные”.
“Помню, – продолжала Электра, – в другой раз, когда речь зашла о том же, я говорю отцу: «Ты всё ссылаешься на Лидию: “она научила”, “по ее наущению”, а сам ты что – не понимал, как вы рискуете? Стоит кому-то стукнуть – и погорите как миленькие»”.
Отец: “Конечно, понимал. Тут всё на поверхности, любой бы понял, но я как раз и объясняю, что мы не зарывались, вели себя осторожно. Если я или Лидия почуем опасность, тут же в кусты, открещиваемся от Романовых будто от нечистой силы. Да и так, если меня кто в лоб спрашивал: «А ведь мы вас узнали, вы великий князь Михаил», от ответа уйду, скажу: «Да, ваша правда, происхождение мое очень высокое, оттого и жительствую я между небом и землей»”.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: