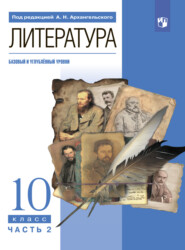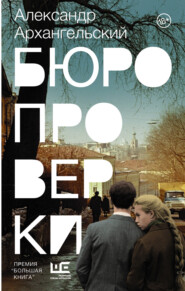По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Цена отсечения
Год написания книги
2008
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Цена отсечения
Александр Николаевич Архангельский
Роман «Цена отсечения» – остросюжетное повествование о любовной драме наших современников. Они умеют зарабатывать – но разучились выстраивать человеческие отношения. Они чувствуют себя гражданами мира – и рискуют потерять отечество. Начинается роман как семейная история, но неожиданно меняет направление. Любовная игра оборачивается игрой в детектив, а за всем этим скрывается настоящее преступление.
Александр Архангельский
Цена отсечения
Роман
Фауст
Что там белеет? говори.
Мефистофель
Корабль испанский, трехмачтовый,
Пристать в Голландию готовый:
На нем мерзавцев сотни три,
Две обезьяны, бочки злата,
Да груз богатый шоколата,
Да модная болезнь: она
Недавно к нам завезена.
Фауст
Все утопить.
Пушкин. Сцена из Фауста
"Мы предварительно оцениваем рыночную стоимость объекта и возможные риски, связанные с его приобретением. Еще до выхода на аукцион устанавливаем цену отсечения, больше которой дать не готовы", – рассказывает заместитель генерального директора ЗАО "Зест" Светлана Рясная.
Газета «Ведомости», № 233 (1760) от 11. 12. 06
Часть 1
Первая глава
События проистекали так. – Первого января начали действовать новые гаишные правила. Ранним утром второго Жанна Ивановна и Степан Абгарович проводили Тёмочку в аэропорт: будь неладен вевейский лицей. В субботу тринадцатого шумно отгуляли Степин юбилей, во вторник шестнадцатого тихо отметили очередную годовщину свадьбы – вечером выпили по рюмочке, поцеловались, и привычно, мирно, ласково разошлись по соседним квартирам. А тридцатого Жанна поднялась пораньше, восьми еще не было, выгребла из почтового ящика пачку газет, счетов и буклетов. Не дожидаясь прихода МарьДмитрьны, сама заварила чай, рассортировала почту, проглядела. И ясная, размеренная жизнь вдруг помутнела и запуталась.
Конверт был заклеен халтурно. Фотография выскользнула сама собой. Глянцевая, десять на пятнадцать. В нижнем левом углу помета. Золотистая, циферки ломаные. Дата. 16.01. Время. 10:37:24. Место. Дмитровское шоссе, 42 км. Скорость. 124, 5 км/ч. Превышение. 44, 5. В конверте застряла шероховатая квитанция: на основании… штраф… в двухнедельный срок… И синеватый штампик в правом верхнем: ГИБДД.
Направление пути понятно; несколько минут – и Сорочаны, горнолыжный спуск, они там всей семьей бывали. На фотографии – их черная восьмерка, «Ауди» шестого года выпуска. Легкая вмятина на левом переднем крыле: на даче Степа криво парканулся, и Жанна зацепила, въезжая в гараж. О своей покоцаной машинке, милой девочке, она позаботилась сразу; Степина авдюшка до сих пор со шрамом. Сколько раз просила Васю починить. Но личный водитель, как сопливый бульдог, признает хозяина – и только. А Степе на мелочи плевать. Все для него ерунда.
Но вот уже не ерунда. На фотографии – никакого Василия. Хотя с утра шестнадцатого он заходил: забрал баулы, в химчистку, пока Степан Абгарович вопросики порешает. Василия на фото нет, а Степочка есть, на правом сиденье, в тени. Затемненное стекло приспущено, как будто бы нарочно, чтобы не было сомнений: это он. Седая грива стянута резинкой, на плече жесткий, проволочный хвостик. А за рулем – профурсетка.
Лупы у Жанны не было. Зато было Степино зеркало для бритья, с увеличением. Она пошла в ванную, мельком взглянула на себя: и за что ей это? ведь она же хороша? ладненькая, черненькая, с синими глазами, почти совсем не старится и не седеет… Обычная? много таких? может, и много, да меньше, чем этих… Приставила фотографию, надела утренние очки, включила подсветку. Девка молодая и восточная, смоляные волосы до плеч, дымчатые стекла, красная оправа. По утрам беговая дорожка, два раза в неделю солярий, по воскресеньям спа и японская бочка с распаренными цветиками; до сорока – товарный вид, потом – зачистка кожи, подтяжки и откачка жира. Типичная охотница, своего не упустит. Явно знала, что шестнадцатое – их символ, семейный день. Потому и настояла на свидании, наметила трещину. Прикинулась дурочкой: ах, мой милый, конечно, как же я забыла, прости-прости-прости. Я ничего, я так, безо всякой задней мысли, просто захотелось покататься на лыжах! Вдвоем, только ты и я… Ничего, не судьба, не сейчас, так в другой раз… После нежных извинений отказывать неловко; невинное приключение, платоническое. Покатались, раскраснелись, потом слегка замерзли, выпили пахучего глинтвейну, поехали домой. Но глинтвейн согревает сердце; разогретое сердце уступчиво; девчонка это знает не хуже, чем Жанна. И после этого, пропитанный обманом, он посмел заявиться на кухню! сказал ненавязчивый тост, отметился: я тут, в семье, хороший, добрый, твой.
От обиды кровь загустела, стала двигаться толчками, рвать сосуды изнутри. Первое желание было: выскочить на лестничную площадку, вломиться в Степину квартиру, растолкать, поднять на ноги, ткнуть фотографией в харю, заверещать, а лучше взвыть. Она была бы маленькой и беззащитной, а он стоял бы перед ней большой, лохматый, с распущенными космами, в полосатых трусах, растерянно пахнущий утренним по?том. Что стряслось? который час? А она бы вдруг успокоилась и сказала бы. Не то беда, что в машине баба. Баба – что уж, баба дело наживное, пришла, ушла… И даже не то беда, что уговор нарушен. А то беда, что это наш день. И ты мелко соврал: срочные дела, облом, кредиты. Зачем? я же не спрашивала. Я никогда не спрашиваю, Степа…
Никуда она не пойдет, ломиться не станет. Столько прожито вместе, через такое прошли, что за полудетские порывы. Обиду можно пережить, ярость остынет. Большой любви у них давно уже не было, зато было нечто более дорогое и надежное: тихий мир, молчаливый уговор о доверии. И в отношении амуров, и в отношении расходов, и в любом другом отношении.
Взять квартиры. Дверь в дверь, у каждого ключи от обеих, тайн никаких, но все-таки на ночь – врозь. Кто не знает, может подумать, что это мягкая форма разъезда: ну не спят супруги вместе, делов-то, не они первые, не они последние, зато расстаться до конца не хотят, договорились о взаимной автономии; молодцы. Ничего подобного! В этом смысле они вполне себе спят. Не слишком часто, не очень бурно, но ей хватает. А досыпают – врозь. Степа физически не может пробуждаться в одной комнате с другим человеком. Даже если этот человек – жена. Он объявил об этом на излете первого свидания, в Томске; Жанна тогда замутила истерику; он молча собрался, тихо прикрыл за собой дверь, и равнодушно ушел в темноту. Она решила – навсегда, ревела. Но нет: вечером вернулся как ни в чем ни бывало, а поздней ночью опять исчез.
В Москве они снимали разные квартиры. Желательно в одном подъезде. Хозяйки, старые московские хрычовки с черными усиками над губой и дурным запахом изо рта, вертели паспорта, сличали штампы о браке и никак не брали в толк: если муж и жена, почему живут раздельно? Если живут раздельно, почему муж и жена? Не воровская ли шайка?.. Старухам было тревожно, но жадность брала свое; они накидывали десятку – за дополнительный риск, и ковыляли на кухню, чай пить с сушкими.
Потом купили па?рную берлогу на Покровке, две двушки на втором этаже. Район понравился обоим; теперь они селились только здесь, в пределах Чистопрудного бульвара. Чем богаче становились, тем просторней было сдвоенное жилье, выше этаж. Но правило не менялось: с утра до ночи любящие супруги, с ночи до утра мирные соседи. И ничего себе, жили. До тридцатого числа января месяца две тысячи такого-то года.
Не в девчонке было дело. Точнее, не только в ней. Любовницы, они зачем нужны? Для страсти, которая выветрилась из домашних отношений. А на этой фотографии, будь она неладна, расслабленные позы, никакого возбуждения, семейный покой. Девка сидит привычно, с удобством, почти лениво, как хозяйка; наверное, беззаботно лопочет. И Степан развалился уютно. Голубки. Это – страшно. Страсть полыхнет и погаснет. В ней каждый остается по себе, партнеры делят удовольствие, как доли в прибыли. А взаимный покой связывает любовников, сплетает, обволакивает. Им хорошо вместе, поодиночке – худо. Прорастут, не отдерешь. И что тогда?
Казалось: жизнь расчислена до самого итога, канва прочерчена, осталось вышить крестиком узоры. Через десять лет – первые внуки, через двадцать – свежая старость; через тридцать болезни, голубиный старческий клекот, а потом раздастся – пык, как газ на выключенной конфорке, и обступит вечный покой. Обступит и обступит. Тебе уже будет все равно, а дети-внуки как-нибудь переживут. И что теперь? Прости прощай, начинаем с нуля? Тёмочкину нет шестнадцати, он еще не встал на ноги. Жанне тридцать восемь, и она уже никем не будет. Всегда при муже. И при каком муже! Страшно умном, очень вредном, иногда щедром и полностью открытом, иногда вдруг обжигающе-холодном, жадном и чужом. Но – неформатном. С ним было не только надежно – мало ли надежных мужчин; с ним было интересно, он излучал энергию, мощную, грубую: не подзарядиться невозможно.
Было… почему было-то? что за прошедшее время?
Кровь отлила от лица, раздражение погасло, навалилась тупость. Жанна аккуратно (она все делала аккуратно) склеила конверт, придавила плотнее. Как в тумане, спустилась вниз, сунула проклятое письмо в почтовый ящик: не было ничего, не видела, не знаю, сам разбирайся. Вернулась на кухню, открыла холодильник – ну-ка, что тут у нас?
У нас тут была творожная масса, вареная колбаса – языко?вая, с тонкой окружностью жира в сердцевине, черные испанские помидоры с красновато-зелеными крапинками, мокрая моцарелла, горько пахнущий базилик, жирные греческие маслины; на нижней полке в колючей бумаге лежал тонко наструганный хамон, за ним стояла мисочка с вареной гречкой. Степа любит, чтоб холодильник был набит – комплексы голодного детства; у нее в семье с едой был военный порядок, ей все равно, но Степа хочет – и его желание закон.
В боковом шкафике были найдены мед и джем, у плиты бутылочка с драгоценным оливковым маслом, не то что первый холодный отжим, а какой-то почти нулевой, из Кордовы в сентябре привезли, до сих пор растягивали удовольствие; в хлебнице остался чесночный хлеб, разогреваешь – очень вкусно, а потом почистил зубы, и порядок.
Жанна стала есть. Не особо различая вкус. Колбасу заедала оливками, моцареллу хамоном, гречку сдабривала маслом и ковыряла ложкой творожок, поливала джемом чесночный хлеб.
Процесс жевания успокаивал, оттягивал тоску. Было в этом что-то животное, коровье: равнодушно жевать жвачку, прислушиваться к движению желудочного сока, ласково и бессмысленно смотреть на мир.
Постилась, худела, усердно потела в фитнесе, два раза в день вставала на весы; не уследишь, расползешься, обратно квашню не упихнешь. А теперь сидела на кухне и в полном одиночестве набирала вес.
Вторая глава
1
Дверь щелкнула затвором; автоматически открылась. Хозяин объявил по громкой связи: проходите, я через минуту. Сутулый молодой старлей и короткий майор с брылями потоптались в прихожей. Огляделись. Сделано все грамотно, интересно. Взять камеры слежения. Обычно болтаются в воздухе, как детские модели вертолетов; здесь – вмонтированы в стены, по всему периметру; только профессионал поймет, что за блескучие кружочки.
И планировка необычная. Коридор, можно сказать, отсутствует. Внутренние стены тоже. Метров шестьдесят, а то и семьдесят открытого пространства – нараспашку. Но с перепадами: «ехали-ехали в лес за орехами»: все помещения на разных уровнях. Прихожая, как подиум, приподнята сантиметров на двадцать; на первом спуске – полукруглый холл; возле камина полосатые кресла, желто-зеленого старинного оттенка, у окна – такая же оттоманка. Стеллаж с кассетами, виниловыми дисками, сидюками и толстыми талмудами по экономике. На одной стене домашний кинотеатр, не то чтобы очень уж новый. На другой, вразброс, географические карты. Одна огромная, с размахом, в полстены: «Генеральная карта Российской империи». Другие поменьше, победнее; в основном почему-то Сибирь.
Еще ступенька вниз, и ты – на кухне. Или в столовой, сразу не определишься. Плита и мойка отсечены от залы, расположены в углу и на приступочке. Перегородок нет. Одни повышения и понижения. Хмельным не очень-то походишь: спотыкач. Хорошо хоть света много.
На белых полках, утопленных в стену, стояли деревянные коробки, разного калибра. Потемневшие, карябанные, старые. С крохотными дырочками. Внутри – загадочные зеркала. Лейтенант поставил ящик на широкий подоконник, навел отверстие на заснеженный дуб посредине двора; на косой серебристой пластине проявилось слабое сияние, наметилась дрожащая картинка; дуб оплывал и змеился, как змеится раскаленный воздух над асфальтом.
Лейтенант подошел к камину. Оказалось, дымоход, похожий на опорную колонну, не примыкал к несущей стене; это был обман углового зрения. За колонной прятался коридор, уводящий вглубь квартиры: еще одна полуступенька вверх, пол приподнят, а потолок приспущен. В прихожей, холле и столовой все такое открытое, просторное, а в коридоре низкое и узкое. Как переход из отсека в отсек на подводной лодке, где лейтенант отслужил когда-то срочную. Но по обе стороны – сплошные окна. Надстройка на крыше!? Да нет же, фальшак! Искусственный свет под стеклом. Но выглядит красиво и солидно.
Майор тем временем изучал плитку. Сел на корточки, пощупал, постучал, мизинцем проверил корявые швы. Он и сам занимался ремонтом, дело как раз дошло до кафеля. Плитка выложена крупно, квадратно-гнездовым. Черный квадрат, белый. Черный, белый. Кафель шершавый, матовый. Стильно, современно. Хотя и рябит в глазах с непривычки.
У окошка стоит деревянный стол, массивный, грубо струганный, крашеный черной краской. На столе – серебряная сахарница, щипчики для кускового рафинада, стальная кофейная чашечка и тяжеловесный куркулятор. Слева от стола, чтобы свет поотчетливей падал, перекидной планшет. Почти в человеческий рост. Весь лист исчиркан кружочками, стрелочками, штрих-пунктирами.
Александр Николаевич Архангельский
Роман «Цена отсечения» – остросюжетное повествование о любовной драме наших современников. Они умеют зарабатывать – но разучились выстраивать человеческие отношения. Они чувствуют себя гражданами мира – и рискуют потерять отечество. Начинается роман как семейная история, но неожиданно меняет направление. Любовная игра оборачивается игрой в детектив, а за всем этим скрывается настоящее преступление.
Александр Архангельский
Цена отсечения
Роман
Фауст
Что там белеет? говори.
Мефистофель
Корабль испанский, трехмачтовый,
Пристать в Голландию готовый:
На нем мерзавцев сотни три,
Две обезьяны, бочки злата,
Да груз богатый шоколата,
Да модная болезнь: она
Недавно к нам завезена.
Фауст
Все утопить.
Пушкин. Сцена из Фауста
"Мы предварительно оцениваем рыночную стоимость объекта и возможные риски, связанные с его приобретением. Еще до выхода на аукцион устанавливаем цену отсечения, больше которой дать не готовы", – рассказывает заместитель генерального директора ЗАО "Зест" Светлана Рясная.
Газета «Ведомости», № 233 (1760) от 11. 12. 06
Часть 1
Первая глава
События проистекали так. – Первого января начали действовать новые гаишные правила. Ранним утром второго Жанна Ивановна и Степан Абгарович проводили Тёмочку в аэропорт: будь неладен вевейский лицей. В субботу тринадцатого шумно отгуляли Степин юбилей, во вторник шестнадцатого тихо отметили очередную годовщину свадьбы – вечером выпили по рюмочке, поцеловались, и привычно, мирно, ласково разошлись по соседним квартирам. А тридцатого Жанна поднялась пораньше, восьми еще не было, выгребла из почтового ящика пачку газет, счетов и буклетов. Не дожидаясь прихода МарьДмитрьны, сама заварила чай, рассортировала почту, проглядела. И ясная, размеренная жизнь вдруг помутнела и запуталась.
Конверт был заклеен халтурно. Фотография выскользнула сама собой. Глянцевая, десять на пятнадцать. В нижнем левом углу помета. Золотистая, циферки ломаные. Дата. 16.01. Время. 10:37:24. Место. Дмитровское шоссе, 42 км. Скорость. 124, 5 км/ч. Превышение. 44, 5. В конверте застряла шероховатая квитанция: на основании… штраф… в двухнедельный срок… И синеватый штампик в правом верхнем: ГИБДД.
Направление пути понятно; несколько минут – и Сорочаны, горнолыжный спуск, они там всей семьей бывали. На фотографии – их черная восьмерка, «Ауди» шестого года выпуска. Легкая вмятина на левом переднем крыле: на даче Степа криво парканулся, и Жанна зацепила, въезжая в гараж. О своей покоцаной машинке, милой девочке, она позаботилась сразу; Степина авдюшка до сих пор со шрамом. Сколько раз просила Васю починить. Но личный водитель, как сопливый бульдог, признает хозяина – и только. А Степе на мелочи плевать. Все для него ерунда.
Но вот уже не ерунда. На фотографии – никакого Василия. Хотя с утра шестнадцатого он заходил: забрал баулы, в химчистку, пока Степан Абгарович вопросики порешает. Василия на фото нет, а Степочка есть, на правом сиденье, в тени. Затемненное стекло приспущено, как будто бы нарочно, чтобы не было сомнений: это он. Седая грива стянута резинкой, на плече жесткий, проволочный хвостик. А за рулем – профурсетка.
Лупы у Жанны не было. Зато было Степино зеркало для бритья, с увеличением. Она пошла в ванную, мельком взглянула на себя: и за что ей это? ведь она же хороша? ладненькая, черненькая, с синими глазами, почти совсем не старится и не седеет… Обычная? много таких? может, и много, да меньше, чем этих… Приставила фотографию, надела утренние очки, включила подсветку. Девка молодая и восточная, смоляные волосы до плеч, дымчатые стекла, красная оправа. По утрам беговая дорожка, два раза в неделю солярий, по воскресеньям спа и японская бочка с распаренными цветиками; до сорока – товарный вид, потом – зачистка кожи, подтяжки и откачка жира. Типичная охотница, своего не упустит. Явно знала, что шестнадцатое – их символ, семейный день. Потому и настояла на свидании, наметила трещину. Прикинулась дурочкой: ах, мой милый, конечно, как же я забыла, прости-прости-прости. Я ничего, я так, безо всякой задней мысли, просто захотелось покататься на лыжах! Вдвоем, только ты и я… Ничего, не судьба, не сейчас, так в другой раз… После нежных извинений отказывать неловко; невинное приключение, платоническое. Покатались, раскраснелись, потом слегка замерзли, выпили пахучего глинтвейну, поехали домой. Но глинтвейн согревает сердце; разогретое сердце уступчиво; девчонка это знает не хуже, чем Жанна. И после этого, пропитанный обманом, он посмел заявиться на кухню! сказал ненавязчивый тост, отметился: я тут, в семье, хороший, добрый, твой.
От обиды кровь загустела, стала двигаться толчками, рвать сосуды изнутри. Первое желание было: выскочить на лестничную площадку, вломиться в Степину квартиру, растолкать, поднять на ноги, ткнуть фотографией в харю, заверещать, а лучше взвыть. Она была бы маленькой и беззащитной, а он стоял бы перед ней большой, лохматый, с распущенными космами, в полосатых трусах, растерянно пахнущий утренним по?том. Что стряслось? который час? А она бы вдруг успокоилась и сказала бы. Не то беда, что в машине баба. Баба – что уж, баба дело наживное, пришла, ушла… И даже не то беда, что уговор нарушен. А то беда, что это наш день. И ты мелко соврал: срочные дела, облом, кредиты. Зачем? я же не спрашивала. Я никогда не спрашиваю, Степа…
Никуда она не пойдет, ломиться не станет. Столько прожито вместе, через такое прошли, что за полудетские порывы. Обиду можно пережить, ярость остынет. Большой любви у них давно уже не было, зато было нечто более дорогое и надежное: тихий мир, молчаливый уговор о доверии. И в отношении амуров, и в отношении расходов, и в любом другом отношении.
Взять квартиры. Дверь в дверь, у каждого ключи от обеих, тайн никаких, но все-таки на ночь – врозь. Кто не знает, может подумать, что это мягкая форма разъезда: ну не спят супруги вместе, делов-то, не они первые, не они последние, зато расстаться до конца не хотят, договорились о взаимной автономии; молодцы. Ничего подобного! В этом смысле они вполне себе спят. Не слишком часто, не очень бурно, но ей хватает. А досыпают – врозь. Степа физически не может пробуждаться в одной комнате с другим человеком. Даже если этот человек – жена. Он объявил об этом на излете первого свидания, в Томске; Жанна тогда замутила истерику; он молча собрался, тихо прикрыл за собой дверь, и равнодушно ушел в темноту. Она решила – навсегда, ревела. Но нет: вечером вернулся как ни в чем ни бывало, а поздней ночью опять исчез.
В Москве они снимали разные квартиры. Желательно в одном подъезде. Хозяйки, старые московские хрычовки с черными усиками над губой и дурным запахом изо рта, вертели паспорта, сличали штампы о браке и никак не брали в толк: если муж и жена, почему живут раздельно? Если живут раздельно, почему муж и жена? Не воровская ли шайка?.. Старухам было тревожно, но жадность брала свое; они накидывали десятку – за дополнительный риск, и ковыляли на кухню, чай пить с сушкими.
Потом купили па?рную берлогу на Покровке, две двушки на втором этаже. Район понравился обоим; теперь они селились только здесь, в пределах Чистопрудного бульвара. Чем богаче становились, тем просторней было сдвоенное жилье, выше этаж. Но правило не менялось: с утра до ночи любящие супруги, с ночи до утра мирные соседи. И ничего себе, жили. До тридцатого числа января месяца две тысячи такого-то года.
Не в девчонке было дело. Точнее, не только в ней. Любовницы, они зачем нужны? Для страсти, которая выветрилась из домашних отношений. А на этой фотографии, будь она неладна, расслабленные позы, никакого возбуждения, семейный покой. Девка сидит привычно, с удобством, почти лениво, как хозяйка; наверное, беззаботно лопочет. И Степан развалился уютно. Голубки. Это – страшно. Страсть полыхнет и погаснет. В ней каждый остается по себе, партнеры делят удовольствие, как доли в прибыли. А взаимный покой связывает любовников, сплетает, обволакивает. Им хорошо вместе, поодиночке – худо. Прорастут, не отдерешь. И что тогда?
Казалось: жизнь расчислена до самого итога, канва прочерчена, осталось вышить крестиком узоры. Через десять лет – первые внуки, через двадцать – свежая старость; через тридцать болезни, голубиный старческий клекот, а потом раздастся – пык, как газ на выключенной конфорке, и обступит вечный покой. Обступит и обступит. Тебе уже будет все равно, а дети-внуки как-нибудь переживут. И что теперь? Прости прощай, начинаем с нуля? Тёмочкину нет шестнадцати, он еще не встал на ноги. Жанне тридцать восемь, и она уже никем не будет. Всегда при муже. И при каком муже! Страшно умном, очень вредном, иногда щедром и полностью открытом, иногда вдруг обжигающе-холодном, жадном и чужом. Но – неформатном. С ним было не только надежно – мало ли надежных мужчин; с ним было интересно, он излучал энергию, мощную, грубую: не подзарядиться невозможно.
Было… почему было-то? что за прошедшее время?
Кровь отлила от лица, раздражение погасло, навалилась тупость. Жанна аккуратно (она все делала аккуратно) склеила конверт, придавила плотнее. Как в тумане, спустилась вниз, сунула проклятое письмо в почтовый ящик: не было ничего, не видела, не знаю, сам разбирайся. Вернулась на кухню, открыла холодильник – ну-ка, что тут у нас?
У нас тут была творожная масса, вареная колбаса – языко?вая, с тонкой окружностью жира в сердцевине, черные испанские помидоры с красновато-зелеными крапинками, мокрая моцарелла, горько пахнущий базилик, жирные греческие маслины; на нижней полке в колючей бумаге лежал тонко наструганный хамон, за ним стояла мисочка с вареной гречкой. Степа любит, чтоб холодильник был набит – комплексы голодного детства; у нее в семье с едой был военный порядок, ей все равно, но Степа хочет – и его желание закон.
В боковом шкафике были найдены мед и джем, у плиты бутылочка с драгоценным оливковым маслом, не то что первый холодный отжим, а какой-то почти нулевой, из Кордовы в сентябре привезли, до сих пор растягивали удовольствие; в хлебнице остался чесночный хлеб, разогреваешь – очень вкусно, а потом почистил зубы, и порядок.
Жанна стала есть. Не особо различая вкус. Колбасу заедала оливками, моцареллу хамоном, гречку сдабривала маслом и ковыряла ложкой творожок, поливала джемом чесночный хлеб.
Процесс жевания успокаивал, оттягивал тоску. Было в этом что-то животное, коровье: равнодушно жевать жвачку, прислушиваться к движению желудочного сока, ласково и бессмысленно смотреть на мир.
Постилась, худела, усердно потела в фитнесе, два раза в день вставала на весы; не уследишь, расползешься, обратно квашню не упихнешь. А теперь сидела на кухне и в полном одиночестве набирала вес.
Вторая глава
1
Дверь щелкнула затвором; автоматически открылась. Хозяин объявил по громкой связи: проходите, я через минуту. Сутулый молодой старлей и короткий майор с брылями потоптались в прихожей. Огляделись. Сделано все грамотно, интересно. Взять камеры слежения. Обычно болтаются в воздухе, как детские модели вертолетов; здесь – вмонтированы в стены, по всему периметру; только профессионал поймет, что за блескучие кружочки.
И планировка необычная. Коридор, можно сказать, отсутствует. Внутренние стены тоже. Метров шестьдесят, а то и семьдесят открытого пространства – нараспашку. Но с перепадами: «ехали-ехали в лес за орехами»: все помещения на разных уровнях. Прихожая, как подиум, приподнята сантиметров на двадцать; на первом спуске – полукруглый холл; возле камина полосатые кресла, желто-зеленого старинного оттенка, у окна – такая же оттоманка. Стеллаж с кассетами, виниловыми дисками, сидюками и толстыми талмудами по экономике. На одной стене домашний кинотеатр, не то чтобы очень уж новый. На другой, вразброс, географические карты. Одна огромная, с размахом, в полстены: «Генеральная карта Российской империи». Другие поменьше, победнее; в основном почему-то Сибирь.
Еще ступенька вниз, и ты – на кухне. Или в столовой, сразу не определишься. Плита и мойка отсечены от залы, расположены в углу и на приступочке. Перегородок нет. Одни повышения и понижения. Хмельным не очень-то походишь: спотыкач. Хорошо хоть света много.
На белых полках, утопленных в стену, стояли деревянные коробки, разного калибра. Потемневшие, карябанные, старые. С крохотными дырочками. Внутри – загадочные зеркала. Лейтенант поставил ящик на широкий подоконник, навел отверстие на заснеженный дуб посредине двора; на косой серебристой пластине проявилось слабое сияние, наметилась дрожащая картинка; дуб оплывал и змеился, как змеится раскаленный воздух над асфальтом.
Лейтенант подошел к камину. Оказалось, дымоход, похожий на опорную колонну, не примыкал к несущей стене; это был обман углового зрения. За колонной прятался коридор, уводящий вглубь квартиры: еще одна полуступенька вверх, пол приподнят, а потолок приспущен. В прихожей, холле и столовой все такое открытое, просторное, а в коридоре низкое и узкое. Как переход из отсека в отсек на подводной лодке, где лейтенант отслужил когда-то срочную. Но по обе стороны – сплошные окна. Надстройка на крыше!? Да нет же, фальшак! Искусственный свет под стеклом. Но выглядит красиво и солидно.
Майор тем временем изучал плитку. Сел на корточки, пощупал, постучал, мизинцем проверил корявые швы. Он и сам занимался ремонтом, дело как раз дошло до кафеля. Плитка выложена крупно, квадратно-гнездовым. Черный квадрат, белый. Черный, белый. Кафель шершавый, матовый. Стильно, современно. Хотя и рябит в глазах с непривычки.
У окошка стоит деревянный стол, массивный, грубо струганный, крашеный черной краской. На столе – серебряная сахарница, щипчики для кускового рафинада, стальная кофейная чашечка и тяжеловесный куркулятор. Слева от стола, чтобы свет поотчетливей падал, перекидной планшет. Почти в человеческий рост. Весь лист исчиркан кружочками, стрелочками, штрих-пунктирами.