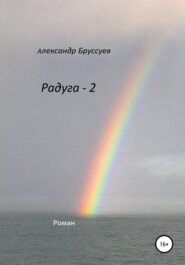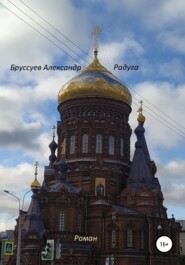По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Тойво – значит надежда. Красный шиш
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Красные шиши резко дернулись по сторонам, уходя с линии огня, и сами несколько раз нажали на курки. Смазали, конечно. Белофинны не дрогнули и не попадали.
Фельдфебель выставил руку с маузером вперед, сказал «ааа» и начал палить напропалую. Пули свистели возле красноармейцев, но как-то безобидно – не было ощущения, что какая-то из них угодила в цель. Лахти посмотрел на Ярвимяки, Ярвимяки посмотрел на Лахти – ничего! Они уставились на бородача, а тот, словно в смущении, покрутил у себя перед глазами пистолетом зачем-то посмотрел в дуло и нажал на спусковой крючок. Голова у него тотчас же раскололась, как арбуз.
– Он что – застрелился? – спросил всех присутствующих один из лахтарит.
– Решил раскинуть мозгами – ответил ему Ханнес.
– Сдавайтесь! – сказал Бруно. – Работают красные шиши. Деревня захвачена.
Стрельба кое-где еще продолжалась, но белофинны массово вставали на лыжи и уходили в сторону озера и на запад. Их никто не преследовал. У красноармейцев нашлось множество других дел. Последним выстрелом был снят с колокольни обезумевший в своем неистовстве звонарь. Договориться с ним не вышло: он оказался вооружен и стрелял по всему, что шевелилось.
Тойво собрал в былом штабе командующего Илмарийнена своих командиров и потребовал доклад. Но сваренный гороховый суп так призывно пах, что с докладом решили повременить. Точнее, было принято решение совместить обед с делом.
– Сорок шесть белофиннов пленены и сидят под замком в сарае, – прихлебывая наваристый суп, сказал Оскари. – Девять человек лахтарит погибли нахрен.
– Ууу! – то ли удивляясь боевым потерям врага, то ли приятно удивляясь похлебке, округляя глаза, ответил Тойво. – А наши потери?
– Два легко раненных товарища.
– Ууу! – в тон командиру заметил Каръялайнен, облизывая ложку. – А трофеи?
– Полмиллиона отличных финских боевых патронов патронной фабрики Рихимяки, тридцать винтовок в смазке, три тяжелых пулемета Максим, два автомата неизвестной конструкции, одиннадцать полевых аптечек с амбулаторными принадлежностями, триста снарядов пушки Маклена и четыре горные пушки, – сказал, сдержанно и сыто рыгнув, Суси. – Это касательно нового вооружения. Прочее еще подсчитывается.
– Ууу! – протянул Хейконен. – А еще четырнадцать подвод с лошадями.
– Погрузим все военное добро на подводы и вывезем в Красную Армию, – сказал Антикайнен. – Они это дело продадут по спекулятивной цене – вот наш рейд и окупится.
– Кому же они вооружение-то продадут? – удивился Кумпу.
– Да себе самим, – хмыкнул Каръялайнен. – Так делаются деньги, мой мальчик.
С гороховым супом покончили очень быстро, даже как-то чересчур быстро. Будто того и не было. Пора было заниматься вещами.
Антикайнен распорядился вызволить из заточения приговоренных к сегодняшней экзекуции людей и торжественно объявить им о восстановлении социалистической законности. Также он приказал накормить всех красных шишей, не считаясь с экономией, из продовольственных кладовых лахтарит и потом провести инвентаризацию чужих складов. Сам же он куда-то потерялся.
Из подвала вывели на свет преступников по белофинским меркам. Их было тринадцать человек, в том числе и тяжело дышащий, весь в жару пограничник. Суси распорядился всех накормить, но по домам не отпускать до проведения допроса. К красноармейцу же вызвал местного лекаря, Федора Муйсина.
– Не жилец, – сказал фельдшер и пожевал свою козлиную бороду. – Лихоманка сразила, так что мы теперь бессильны.
– Интересный ты человек, Федор, – как-то нехорошо осклабился Каръялайнен. – Путаешь понятия. Это ты не жилец, если этот герой-пограничник преставится. Уж такая тут диалектика.
Муйсин немедленно подернулся мелкой сыпью – это мурашки у него такие были, мелкие, противные, врачебные. Он потребовал себе полевую аптечку, долго смотрел в содержимое, потом принес толстую книгу-справочник фельдшерского дела и стал лихорадочно переворачивать одну за другой пожелтевшие от времени страницы. Под пытливым и недобрым взглядом Каръялайнена, он двумя пальцами выудил из аптечки пузырек, наполнил его содержимым шприц, и, перекрестившись на церковь, всадил дозу в синюю вену больного.
Черты лица пограничника, доселе искаженные мучением, разгладились, дрожь прекратилась, жар начал спадать.
– Помирает, что ли? – поинтересовался Каръялайнен и поправил ременную кобуру.
Фельдшер не стал отвечать, он взял руку своего невольного пациента в свою и прощупал пульс. Потом дрожащим голосом спросил:
– Милый, ты меня слышишь? Имя твое как?
По-русски спросил, так чтобы было понятней.
Раненный открыл глаза, посмотрел прямо перед собой и что-то неразборчиво произнес.
– Что он сказал? – кивнул головой командир второй роты.
– Что ты сказал? – Федор склонился своим волосатым ухом над губами несчастного больного.
– Пограничник Карацюпа! – вдруг очень громко и отчетливо, как в строю при поверке, гаркнул тот.
Фельдшер, немедленно оглохший на одно ухо, повернулся к Каръялайнену:
– Ну, вот, сознание вернулось. Жажда жизни тоже. Теперь его надо отвезти к бабкам.
Вероятно, он имел ввиду тех целительниц, что жили в Челки-озеро.
Под такое дело выделили целую подводу, обложили пограничника трофейными полушубками, присовокупили початую аптечку и целый мешок с разными финскими консервами. Отвезти бойца к Лоухи взялся одноногий деревенский мужичок, бывший среди приговоренных к казни. У него был деревянный протез, и он весьма охотно отзывался на имя «Пууялко»[93 - Деревянная нога, в переводе.].
– Куда потом этого Карапуза – обратно?
– Я Карацюпа, и сюда больше – ни ногой. Уж лучше в Среднюю Азию. Возьму собаку Джульбарса и буду басмачей изводить[94 - На самом деле легендарному пограничнику Герою Советского Союза Карацупе Никите Федоровичу в то время было 12 лет, а его пес именовался Индус.], – сказал пограничник, и они уехали.
Пууялко обещание свое сдержал, довез «Карапуза» к Лоухи, преследуя однако две цели: спасти человека и пообщаться с самым прекрасным полом, какой был поблизости.
Лечение Карацюпы было долгим и загадочным. Но, вновь встав на ноги, пограничник удивил сам себя новым приобретенным свойством своего организма: он начал понимать собачий язык. Девушки посоветовали ему об этом никому не рассказывать, потому что для человека, который, вдруг, начинает разговаривать с собакой, одна дорога – в сумасшедший дом. А туда, как известно, собак не допускают. Так что и поговорить будет не с кем.
Склады в Кимасозере были обильными, но отнюдь не изобильными. Белофинская пропаганда устами писателя Клайдо Ильинарка обещала семь миллионов пудов ананасов, бананов, осетрины, буженины, хамона, пиццы, акульих плавников, омаров и устриц. Но, как оказалось, «бананьев нема», растерялись где-то по дороге. Консервы были, в основном, с почти истекшими сроками реализации, крупа и солонина. Два ящика с коньяком, не с «Мартелем» и не с «Реми Мартен», а с шустовским, еще с царских времен. Бочонок с понтиккой. Ну, и на том спасибо.
После праздничного обеда, плавно перетекшего в ужин, запасов еды явно поубавилось. Стало ясно, что это не все продовольственные поставки в Карелию, а так – в личное распоряжение майора Илмарийнена, для поддержания, так сказать, боевого духа. Основная гуманитарная помощь пока пережидает морозы где-нибудь в Каяни.
Всех приговоренных к смертной казни допросили с должным вниманием, выяснив, кто в чем виноват. Родственников бегуна Пааво Нурми, геройски прятавших пограничника Карацюпу, с почетом отправили домой, выдав им в качестве поощрения все, что бы они ни пожелали из запасов рейха. То есть, не то, чтобы рейха, да и не все, потому что они сразу пожелали оба ящика коньяку, всю ветчину и еще с десяток обернутых в вощенную бумагу кусков кинки[95 - Запеченная свинья, или часть свиньи, весом в три-четыре-пять килограмм.]. А за полушубками, ватными штанами, унтами и зимними треухами, не говоря уже о летней одежде, потом сани снарядят.
Им всунули в руки ящик с тушеной говядиной, одели на шеи по кольцу с головками чеснока, за пазуху запихали набор из мужских семейных трусов синего цвета армейского образца а также мужские кальсоны в количестве две штуки и чуть не дали волшебного пендаля, но вовремя сдержались – все-таки герои!
– Как же так? – возмутилась родственница Нурми. – Деду исподнее дали, а мне – почему нет?
– Да ты что, бабка! – сделав страшные глаза, сказал Каръялайнен. – Эти трусы – самые, что ни на есть, женские! Теперь вся Европа в таких на пляжах гуляет, а особенно ее женская половина. Выйдешь летом в них огород поливать – все соседки от зависти полопаются!
– Только топлесс выходи, – посоветовал Хейконен, понизив голос. – Тогда еще все деревенские мужики разбегутся.
Однако он был услышан, что вызвало целую бурю негодования. Только Тойво Вяхя, ставший на время кладовщиком, от смеха в тюки с одеждой завалился.
Каждый незаконно осужденный тоже попросил себе компенсацию. Почему-то они, то ли по предварительному сговору, то ли без такового, все просили коньяк. Каръялайнен терпеливо объяснял каждому, что коньяк нужен для хозяйственно-бытовых целей: клопов в казармах травить. Типа, шустовский для этого лучший, днем с огнем его не сыскать. А пить – так «Мартель» и «Реми Мартен» можно. Но таковых в запасниках майора Илмарийнена не имелось, поэтому рекомендуем здоровый образ жизни.
Страдальцы немедленно покаялись, что и у них клопы – иные величиной с чайное блюдце, даже домашние коты их стесняются.
Но непреклонный кладовщик Вяхя раздавал всем синие армейские трусы а-ля «юнисекс» и приговаривал при этом:
Другие электронные книги автора Александр Михайлович Бруссуев
Другие аудиокниги автора Александр Михайлович Бруссуев
Полярник




 0
0