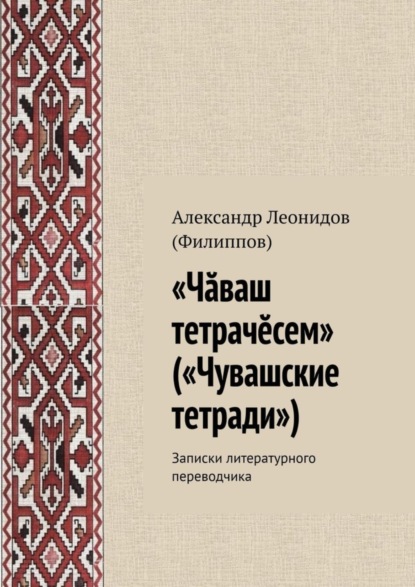По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
«Чӑваш тетрачӗсем» («Чувашские тетради»). Записки литературного переводчика
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
5
За свою короткую и яркую жизнь К. Иванов успел оказаться в числе революционных демократов. События революции 1905 года не оставили его равнодушным. Он пишет «Чувашскую марсельезу», которая начиналась словами «Вставайте, поднимайтесь, чуваши!». Но очень скоро вместе с другими учениками, участниками митингов против царизма, его исключают из школы.
Он уехал в Слакбаш. Вернул Иванова в Симбирск Иван Яковлев, он привлек его к работе в комиссии по переводу и изданию книг на чувашском языке. Молодой поэт блестяще перевел стихотворения Михаила Лермонтова «Узник», «Волны и люди», «Парус», «Горные вершины», «Утес», «Чаша жизни» и другие.
Хотя в 1907 году он и был изгнан из Симбирской учительской школы (т.е. из школы, где готовили учителей, по современному говоря – из Университета), отказать в праве продолжать образование ему не смогли. Он экстерном сдал все экзамены, и получил назначение в Симбирское женское училище. Позднее преподавал чистописание и рисование.
К 40-летию Симбирской чувашской учительской школы и 60-летию ее основателя И. Я. Яковлева он написал стихотворение «Наше время» (прочитал на торжественном вечере), подготовил фотоальбомы с видами наиболее значительных моментов из жизни школы.
Кроме того, им был издан сборник «Сказки и предания чуваш», в котором были напечатаны основные произведения К. В. Иванова «Две дочери», «Железная мялка», «Вдова», «Нарспи».
В Симбирске в 1909 году Иванов сдает экзамены на звание народного учителя и преподает чистописание и рисование в женском училище при Симбирской учительской школе. Он продолжает много работать – переводит на родной язык произведения классиков русской литературы: Некрасова, Кольцова, Огарева, Майкова.
В 1909 году Иванов перевел для послебукварной книги для чтения в чувашских школах рассказ Л. Н. Толстого «Море». Тогда же была издана «Первая книга для чтения после букваря», составленная И. Я. Яковлевым в соавторстве с К. В. Ивановым (на чувашском языке).
Зиму 1909 Иванов посвятил изучению и записи образцов народных устно-поэтических произведений в родном селе Слакбаш. Затем возвратился в Симбирскую чувашскую учительскую школу, начал работать в канцелярии, занимаясь переводом и изданием книг.
В 1911 году в сборнике П. В. Пазухина «Образцы мотивов чувашских народных песен и тексты к ним, II часть», увидели свет тексты песен, записанных К. В. Ивановым «Лист березовый», «Черная коровушка», «Чибис», «На горе крутой».
В 1912 году составленный И. Т. Трофимовым при участии К. В. Иванова новый «Букварь для чуваш с присоединением русской азбуки» поступил в школы. Прописи и иллюстрации к букварю были исполнены К. В. Ивановым. В букварь включены были песни «Телега» и «Дождь», переводы стихотворения в прозе «Ласточка», сказки «Репка» и стихотворной загадки «Времена года». Был издан перевод «Псалтыри» в литературной обработке К. В. Иванова.
Ещё при жизни, сто лет назад, в далёком 1910 году, вместе со своим другом Фёдором Павловым Константин Иванов мечтал поставить оперу на сюжет своей поэмы «Нарспи», но тогда этому помешали не только материальные трудности, но и бюрократические препоны. Мечта поэта осуществилась спустя десятилетия после смерти – в послевоенный 1946 год состоялась премьера спектакля «Нарспи» в Чувашском академическом драматическом театре.
6
В 1913 году Иванов нарисовал декорации к отдельным сценам из оперы «Иван Сусанин», исполненным учащимися Симбирской школы, и полотно, воспроизводящее один из эпизодов поэмы «Нарспи». В течение года готовится к созданию либретто для оперы «Нарспи», Иванов читает своим друзьям перевод «Песни песней».
Как и многие собратья по перу евразийского ренессанса, К. Иванов совмещал творческую деятельность с научным изучением фольклора и методической деятельностью. Он в числе немногих выступил составителем букварей и учебных пособий для чувашских школ.
Вот отрывок из воспоминания Н. Краева, который я сохранил среди старых газетных вырезок: «…Сочинение было задано на тему: «Зимняя ночь в деревне». Учитель, проверив тетради, поднял на уроке первую:
– Хорошо написал. Я тебе поставил самую лучшую отметку.
Маленький Костя смущённо привстал из-за последней парты. Тогда ещё ни он, ни его одноклассники по Симбирской чувашской школе не знали, что он позднее напишет поэму «Нарспи» и она станет эталоном чувашской поэзии, будет переведена на многие языки»[5 - Н. Краев. «Молодой коммунист», 30 сентября 1975г.].
Одноклассница поэта по Симбирской школе, впоследствии чувашская писательница Марфа Трубина в своих воспоминаниях о поэте писала: «В 1903 году я поступила в подготовительный класс чувашской школы в Симбирске (ныне Ульяновск). Среди одноклассников был один темноволосый мальчик с красивыми чертами лица. Был он очень спокойным и тихим. Скорее всего, поэтому в нашей среде его прозвали красной девицей. Когда он разговаривал, на его кругленьких щечках видны были ямочки, нос прямой, темно-карие большие глаза излучали свет».
Константин не был особо общительным, почти не участвовал в оживленных играх сверстников, постоянно читал книги. Кроме этого, много рисовал и профессионально интересовался биографией и драматическими коллизиями судеб великих художников, среди которых особо выделял и обожал Леонардо да Винчи.
Под крышкой парты он приклеил лист бумаги, на котором записывал названия прочитанных книг. В списке были Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Гете, Гейне, Жюль Верн, Майн Рид, Виктор Гюго, Достоевский, Данилевский, Салиас, Лесков, Гончаров и другие.
Иванову принадлежал альбом с рисунками, на первой странице которого было изображение портрета Пушкина мальчишеских лет, на последующих листах – Лермонтов, Гончаров, Кольцов, Некрасов, Гоголь, Тургенев, Коперник, Суворов[6 - Газета «Грани», 30.05.2020 / Ирина Павлова / Культура / «Неизвестные факты из жизни Константина Иванова».]…
Величайшее достижение чувашской изящной словесности – поэма Нарспи» – вышла в 1908 году не сама по себе, как это ни удивительно, а в сборнике «Сказки и предания чуваш».
К 1915 году художественные и эстетические достижения К. Иванова уже представляли из себя значительный свод для мирового поэтического наследия человечества. Естественно, они стали как бы визитной карточкой чувашского народа в общении с соседними и даже дальними народами на протяжении всего XX века.
7
«Нарспи», с её драматургическими. элементами поэма заложила основы и чувашской драматургии. Отметим высший накал драматизма в поэме, в духе Эсхила и Софокла. Автор, как и положено мифоэпическому герою, порой выходит как бы из-за кулис, разговаривая то с героями, то с самой природой, то с читателем.
Советская власть чтила Иванова, вроде бы классово близкого ей крестьянского сына, разночинного интеллигента, революционного демократа, протестовавшего против эксцессов царизма. Но одновременно, в своей ограниченности и схематизме подхода к поэтическому наследию, стала для Иванова и неким прокрустовым ложем, усекавшим ненужные, по мнению диктатуры пролетариата, смысловые и образные глубины.
Я – русский человек, и пишу, в первую очередь, для русских, поэтому для меня на первом плане стоит проблема перевода произведений К. Иванова. Только в русском переложении Иванов мог перешагнуть национально-этнические границы и занять подобающее его дару место в пантеоне всечеловеческой славы.
Однако что мы могли узнать о духовном мире и образах Иванова из произведений советских литературоведов? Увы, европоцентристская тенденция, пронизавшая русскую марксистскую эстетику, сильно навредила нам в познании солнечного духа чувашского поэтического слова.
Нам сообщали прежде всего, что К. Иванов «первым среди чуваш использовал силлабо-тонический стих» и то, что он «перевел на чувашский язык революционные песни, стихи Лермонтова, Огарева, Кольцова, Некрасова». При всем уважении к двум этим достойным поступкам – заимствованной архитектонике стиха и переводам – они как бы ненароком отодвигают своего носителя во второй ряд литературных имен, из титана и творца «евразийского ренессанса» обращают его в некое, чуть ли не местечковое явление. Получается, что К. Иванов актуален только для чувашей, а всем другим малоинтересен. Нам преподносили его в «адаптированном» виде, как «внедряющего» и «продвигающего» передовые достижения европейской мысли и эстетики в мир «темного» евразийского «спящего» народа.
В конце XX и тем более в XXI веке у ряда публицистов проскальзывало желание еще более принизить Иванова, на волне антикоммунистической идеи забросать грязью и его (совершенно иного порядка) революционный демократизм. При этом помощь советской власти (зачастую «медвежья») в распространении ивановского слова среди окрестных народов и республик представлялась как некое «идейное кумовство» – мол, «продвигали своего», классово близкого, не за литературные, а за политические заслуги…
Советская профанация переводного процесса и постсоветская дегероизация предстают, таким образом, как бы двумя сторонами одной болезни – «европейничания русской жизни», хотя и открещиваются всеми возможными способами друг от друга.
8
Попытки отменить, аннулировать пропуск Константину Иванову в мировую литературу делались малограмотными вассисуалиями лоханкиными по причине их собственной духовной и интеллектуальной слепоты. Однако осуждение таких нелепых попыток не снимает объективной проблемы качества переводов произведений К. Иванова. И вот тут-то как раз происходит аберрация смыслов – то есть то, что принято считать эталоном качества перевода, европейский стиль и образец русскоязычного текста – не может удовлетворить придирчивого эстета.
Казалось бы – чего проще? Бери подстрочник, подгоняй стихосложение ближе к оригиналу, не забывай при этом про рифму и размер – и дело в шляпе.
И никоим образом нельзя упрекнуть тех, кто великим трудом и переводческим самоотречением донес до нас, русских, смысл и красоту чувашской поэтической метафоры.
Однако, на мой взгляд, в некоторых имеющихся переводах есть две «ахилессовы пяты»: не учтена связь фонемы с семантикой языков и чересчур по-европейски «причесан» стиль (несомненно, из лучших побуждений), что устранило часть эстетического субстрата бесценных строк чувашского гения.
Что я имею в виду под связью фонемы и семантики? На первый взгляд, это совершенно разные вещи: фонема есть условный знак опознания образа, а смысловые проблемы имеют совершенно иную природу: аналога памяти.
Но, если дело касается поэзии, говорить о полной непересекаемости фонемы и семантики нельзя (хотя говорят, и много). И дело не только в непередаваемой игре слов-звуков (это лежит на поверхности, и оттого с этим часто успешно справляется переводчик), а в принципиальном отличии степени «твердости» или «мягкости» языка. Чтобы не ударяться в дебри звуковых тональностей и ударений, приведу простые примеры. Очевидно и далекому от филологии человеку, что французский язык значительно фонетически «мягче» немецкого. При переводе с немецкого на французский стихи будут эстетически «размякать», терять фонемную мелодию, что немедленно скажется и на семантике слов – ведь речь идет про образы! Из трех славянских братских языков украинский самый «мягкий», русский – значительно «тверже», а белорусский – наиболее жесткий, твердый язык.
Чувашский язык – весьма «мягкий», и при переводе на русский возникает проблема «черствеющего», как хлеб, образа, лирической ситуации. Для устранения такого неожиданного фонемного влияния на семантику необходимо искать особые формы выражения мысли, далекие от норм и правил технического перевода.
Еще более важно для правильного восприятия уникального дара К. Иванова учесть духовный мир, ментальность чувашского этноса, непереносимые напрямую в русский язык. В чем видится мне недостаток в целом очень точных и ярких переводов Хузангая? Глубокий символизм Иванова, его экологическая микориза, пронизавшая человеческую жизнь, при переводе блекнет до простой природоописательной картинки. Да, красиво, да метко, да, видишь словно бы глазами красоту Слакбашевских мест. Но не более. А ведь был уже Тютчев, Аксаков, Баратынский, Жуковский… И, может показаться, Иванов для русского читателя как бы дополняет уже достигнутые другими поэтами пейзажные образы.
Русскому это очевиднее, чем чувашу. Однако если сопоставить с готовыми переводами чистый, дословный подстрочник с пояснениями ментального характера (какой, на мое счастье, оказался в моем распоряжении), то начинаешь видеть упущенное, тот «тонкий эфир», который ускользнул при переложении.
На самом деле К. Иванов – не природоописатель (точнее сказать, не только природоописатель). Пейзажная лирика была бы в начале XX века уже подражанием имеющимся мировым аналогам, но у К. Иванова она вовсе не подражательна, потому что не пейзажна, а духовна. Иванов не просто видит – он пронизан природой, картины природы на самом деле есть зеркальное отражение событий мира в его душе. Это явление Шушарин (уже в конце XX века) назовет «полилогией» – методом, в котором «все связано со всем». Экологический универсализм К. Иванова (напомню: экология – не просто «охрана природы», а учение о неразрывной связи человека и природы) проистекал от недр родной земли, но стал поистине мировым прорывом эстетического мироощущения. Такого до Иванова никто из поэтов не создавал. В мире! Поэтому сказки о некоей «провинциальности» значения творчества К. Иванова пора закрывать в сундук заблуждений.
Переводы «погасили» второй, пунктирный контур Иванова – его солипсический элемент, тонко живущий в оригиналах. Дух поэта и его лирического героя иногда в переводах совсем потерян – именно потому, что в оригинале дух этот растворен в стихотворце: естественном сочетании человеческой духовности (внутри) и окружающей природы (снаружи). Так импрессионистская картина поэтической «живописи» Иванова стала при переводе простой фотографией красивой местности.
Иванов в оригинале и точном подстрочнике полон метафизики пантеизма. В его «Дожде» день сознательно угасает, как бы выключает себя; грозовые тучи собираются, словно бы по собственной воле, как селяне на сходку; дождик по-человечески, духовно, радуется крупным и ядреным каплям; травушка светлеет как бы от почти человеческого удовольствия; ветер, как мальчик, играет с рожью, клонит ее шаловливою рукой, а тучный колос кланяется ему почтительно, словно доброму знакомому. Удивительно ли, что радость в душах людей под занавес – лишь звено, рядовой элемент в великой цепи серчающих, улыбающихся, трудящихся и балующих духов крестьянского гармоничного, экологического мировосприятия?
9
Конечно – передать все это по-русски, так, чтобы русский прочувствовал это, как чувашский читатель, куда как нелегко. И вот получается бледнеющий образ вполне традиционного приуготовления природы к дождю.
Или вот еще одно стихотворение К. Иванова, в русском переводе ставшее совсем «пейзажным»: «Близ дубравы протекая…». В оригинале здесь заложена глубочайшая философская мысль, которую помогает расшифровать подстрочник: вселенная погружена в маленькую, нежно-голубую речку, то есть большее парадоксально размещается в меньшем, как небо может уместиться в капле воды. А вот и ускользающий, застрочный солипсический элемент: ведь это дух поэта вместил большее в меньшее, небо, вселенную – в речку, пронизанную солнцем и голубой прозрачностью чистых вод! Только в области духа возможны такие «помещения», немыслимые для материального мира.
Наконец – «Вселенная ликует, светлой радости полна». С чего бы это в пейзажном стихотворении ликовать Вселенной?! Другое дело, если принять душой метафизические образы К. Иванова: красота малого элемента, речки, вместила в себя всю красоту Вселенной, и сама уместилась в душе лирического героя стихотворения – а оттого ликует, ибо бесконечность (Вселенная), красота (в образе речки) и дух (в образе такой человеческой радости, ликования) сошлись в точку равноденствия у поэта.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: