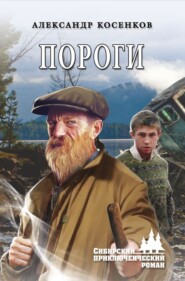По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Зона обетованная
Жанр
Год написания книги
2019
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Только этим и занимаюсь в последнее время.
– Ну и какой, по-твоему, можно сделать вывод из всех этих событий?
– Что не имею к ним никакого отношения, – раздраженно ответил я и добавил: – А они ко мне почему-то начинают иметь.
– Может быть, не почему-то? – По-птичьи наклонив голову и вскинув рыжеватые брови, Птицын заглянул мне в глаза.
– Рассуждай дальше, – без особого интереса разрешил я. Присутствие Птицына становилось утомительным. Он минуты не постоял и не посидел спокойно. То подходил к стене и начинал внимательно ее рассматривать, то для чего-то заглядывал под лавку, то приподнимал половик, то подходил к окну и, прищурив один глаз, начинал вертеть головой, склоняя ее то в одну, то в другую сторону. Вот и сейчас он вдруг опустился на четвереньки и полез под стол.
– Пулю ищешь? – догадался я.
– Ее, – выглянул он из-под стола.
– А что это тебе даст?
– Внесу в душу стрелявшего заразу беспокойства.
– Почему он должен беспокоиться по поводу кусочка сплющенного свинца?
– Можно пустить слух о чудесах современной техники. Мол, пуля будет передана на сверхнаучную экспертизу, после чего с точностью установят ружье, из которого стреляли.
– У вас что, много дураков?
– Хватает. И еще, поимей в виду – любой преступник в глубине души уверен, что он оставил след, и этот след его рано или поздно выдаст.
– Узнает, что пуля у тебя, еще раз выстрелит.
– Прежде чем выстрелить, попытается разузнать подробности.
– По-моему, здесь у вас стреляют без предварительного выяснения.
– Здесь у нас стреляют, как правило, без промаха.
Я стал загибать пальцы:
– Ночь, снег, ветер, двойное стекло, я ошивался поблизости…
– Ну что, по-твоему, он должен был сделать в этом случае?
– Зачем стрелять, если не уверен в результате?
– А какой должен быть результат?
– Стреляет, значит, хочет попасть.
– Не всегда. Иногда стреляют, чтобы испугать. Иногда, чтобы поднять, выманить, предупредить, навести на ложный след, дать знать об опасности. И так далее.
– Думал об этом, не вижу смысла.
– Смысл имеется.
– Какой?
– Несколько смыслов.
– Каких?
– А вот над этим надо еще серьезно поразмышлять. Ты в курсе, что у нас тут случилось?
– Два года назад?
– Точно.
– Очень поверхностно.
– Ты что, не читал, что тебе Арсений Павлович написал?
– Ничего он мне не написал.
– Как не написал? Он мне звонил. Сказал, чтобы ты, перед тем как принять окончательное решение, еще раз внимательно перечитал все, что он тебе написал.
Я, наконец, вспомнил про блокнот «Полевого дневника», который так настойчиво подсовывал мне Арсений и про который я, торопливо засунув его в кармашек рюкзака, сразу позабыл. Был уверен, что там записаны наставления и советы, которыми я и без того был сыт по горло. Пристально поглядев на меня и догадавшись, что я понял, о чем речь, Птицын вдруг снова опустился на четвереньки и пополз к входной двери, у самого порога которой наконец отыскал то, что, как ему казалось, даст возможность взять на испуг неизвестного, покушавшегося вчера не то на жизнь, не то на душевное спокойствие и без того далеко не спокойного Омельченко.
– Никогда не надо опускать руки, – поучительным тоном заявил он и, зачем-то потерев маленький кусочек металла о рукав, бережно опустил его в карман.
– Слушай, ты действительно пишешь стихи? – не выдержав, спросил я.
По-моему, он слегка смутился.
– Случается.
Я решил его все-таки достать и нагло спросил:
– Хорошие?
– Черт его знает! – ничуть не обидевшись, сказал он. – Какие получаются. Разные.
– Прочтешь когда-нибудь? – с уважением к его откровенности и нежеланию обижаться спросил я.
– Не знаю. Как получится. Ладно, пошел распространять слухи о найденной улике. Решится с отлетом – загляни ко мне. Поделюсь соображениями насчет тех мест. Места в смысле возможности проживания серьезные. Даже не проживания – выживания, – поправился он и вышел, сильно хлопнув дверью.
«Весело начинается мое долгожданное поле», – подумал я и, не зная чем заняться, решил до прихода Надежды Степановны изучить советы и пожелания Арсения Павловича, заботливо записанные им в старенький «Полевой дневник». Я нехотя поплелся к месту своего временного ночлега, вытащил из-под стола рюкзак и полез в кармашек, в который, как я хорошо помнил, засунул блокнот. Меня подстерегала еще одна неожиданность – блокнота в рюкзаке не было. На всякий случай я перешуровал все содержимое рюкзака, осмотрел даже карманы куртки. Всем этим я занимался, можно считать, машинально, на всякий случай, поскольку в результате был заранее уверен. Раньше у меня никогда ничего не пропадало из тщательно застегнутого и завязанного рюкзака, поэтому я не стал даже размышлять над тем, где и когда я мог выронить никому не нужный блокнот, а сразу сосредоточился на том, кто и с какой целью его временно или навсегда позаимствовал. Круг подозреваемых был настолько невелик, что проверку можно было начинать, как говорится, «не отходя от кассы». Я ногой задвинул рюкзак под стол, пригладил взъерошенные волосы и направился к оклеенным обоями задоскам, за которыми, рядом с огромным сундуком, запертым на амбарный замок, располагалась задернутая выцветшей ситцевой занавеской дверь в небольшие задние сени, которые надо было миновать, чтобы войти в летник. Двумя решительными шагами я пересек сени, едва освещенные маленьким запыленным окошком, и постучал в дверь, сколоченную из двух широких толстенных досок. Не дождавшись ни приглашения, ни отказа, я потянул ее на себя. Дверь бесшумно отворилась.
– Я знала, что вы придете, – сказала она, не повернув головы и не шевельнувшись.
Сложив руки на коленях, она сидела у окна на высоком, грубо сколоченном табурете. Тонкий силуэт ее профиля, мягко окантованный ореолом снежного света, был так нежен и беззащитен, что у меня сразу вылетели из головы все заготовленные фразы, и я столбом застыл на пороге, не решаясь ни пройти, ни уйти, ни выдавить что-либо в объяснение своего появления.
В летнике было не так холодно, как я ожидал, хотя и гораздо прохладнее, чем в жарко натопленных комнатах основного жилья хозяев. Пахло здесь, как и там, травами, но дышалось гораздо легче. На старую, тщательно застланную койку была небрежно брошена дубленка, а рядом, у подушки лежал раскрытый «Полевой дневник», навязанный мне перед отъездом Арсением Павловичем.
– Ну и какой, по-твоему, можно сделать вывод из всех этих событий?
– Что не имею к ним никакого отношения, – раздраженно ответил я и добавил: – А они ко мне почему-то начинают иметь.
– Может быть, не почему-то? – По-птичьи наклонив голову и вскинув рыжеватые брови, Птицын заглянул мне в глаза.
– Рассуждай дальше, – без особого интереса разрешил я. Присутствие Птицына становилось утомительным. Он минуты не постоял и не посидел спокойно. То подходил к стене и начинал внимательно ее рассматривать, то для чего-то заглядывал под лавку, то приподнимал половик, то подходил к окну и, прищурив один глаз, начинал вертеть головой, склоняя ее то в одну, то в другую сторону. Вот и сейчас он вдруг опустился на четвереньки и полез под стол.
– Пулю ищешь? – догадался я.
– Ее, – выглянул он из-под стола.
– А что это тебе даст?
– Внесу в душу стрелявшего заразу беспокойства.
– Почему он должен беспокоиться по поводу кусочка сплющенного свинца?
– Можно пустить слух о чудесах современной техники. Мол, пуля будет передана на сверхнаучную экспертизу, после чего с точностью установят ружье, из которого стреляли.
– У вас что, много дураков?
– Хватает. И еще, поимей в виду – любой преступник в глубине души уверен, что он оставил след, и этот след его рано или поздно выдаст.
– Узнает, что пуля у тебя, еще раз выстрелит.
– Прежде чем выстрелить, попытается разузнать подробности.
– По-моему, здесь у вас стреляют без предварительного выяснения.
– Здесь у нас стреляют, как правило, без промаха.
Я стал загибать пальцы:
– Ночь, снег, ветер, двойное стекло, я ошивался поблизости…
– Ну что, по-твоему, он должен был сделать в этом случае?
– Зачем стрелять, если не уверен в результате?
– А какой должен быть результат?
– Стреляет, значит, хочет попасть.
– Не всегда. Иногда стреляют, чтобы испугать. Иногда, чтобы поднять, выманить, предупредить, навести на ложный след, дать знать об опасности. И так далее.
– Думал об этом, не вижу смысла.
– Смысл имеется.
– Какой?
– Несколько смыслов.
– Каких?
– А вот над этим надо еще серьезно поразмышлять. Ты в курсе, что у нас тут случилось?
– Два года назад?
– Точно.
– Очень поверхностно.
– Ты что, не читал, что тебе Арсений Павлович написал?
– Ничего он мне не написал.
– Как не написал? Он мне звонил. Сказал, чтобы ты, перед тем как принять окончательное решение, еще раз внимательно перечитал все, что он тебе написал.
Я, наконец, вспомнил про блокнот «Полевого дневника», который так настойчиво подсовывал мне Арсений и про который я, торопливо засунув его в кармашек рюкзака, сразу позабыл. Был уверен, что там записаны наставления и советы, которыми я и без того был сыт по горло. Пристально поглядев на меня и догадавшись, что я понял, о чем речь, Птицын вдруг снова опустился на четвереньки и пополз к входной двери, у самого порога которой наконец отыскал то, что, как ему казалось, даст возможность взять на испуг неизвестного, покушавшегося вчера не то на жизнь, не то на душевное спокойствие и без того далеко не спокойного Омельченко.
– Никогда не надо опускать руки, – поучительным тоном заявил он и, зачем-то потерев маленький кусочек металла о рукав, бережно опустил его в карман.
– Слушай, ты действительно пишешь стихи? – не выдержав, спросил я.
По-моему, он слегка смутился.
– Случается.
Я решил его все-таки достать и нагло спросил:
– Хорошие?
– Черт его знает! – ничуть не обидевшись, сказал он. – Какие получаются. Разные.
– Прочтешь когда-нибудь? – с уважением к его откровенности и нежеланию обижаться спросил я.
– Не знаю. Как получится. Ладно, пошел распространять слухи о найденной улике. Решится с отлетом – загляни ко мне. Поделюсь соображениями насчет тех мест. Места в смысле возможности проживания серьезные. Даже не проживания – выживания, – поправился он и вышел, сильно хлопнув дверью.
«Весело начинается мое долгожданное поле», – подумал я и, не зная чем заняться, решил до прихода Надежды Степановны изучить советы и пожелания Арсения Павловича, заботливо записанные им в старенький «Полевой дневник». Я нехотя поплелся к месту своего временного ночлега, вытащил из-под стола рюкзак и полез в кармашек, в который, как я хорошо помнил, засунул блокнот. Меня подстерегала еще одна неожиданность – блокнота в рюкзаке не было. На всякий случай я перешуровал все содержимое рюкзака, осмотрел даже карманы куртки. Всем этим я занимался, можно считать, машинально, на всякий случай, поскольку в результате был заранее уверен. Раньше у меня никогда ничего не пропадало из тщательно застегнутого и завязанного рюкзака, поэтому я не стал даже размышлять над тем, где и когда я мог выронить никому не нужный блокнот, а сразу сосредоточился на том, кто и с какой целью его временно или навсегда позаимствовал. Круг подозреваемых был настолько невелик, что проверку можно было начинать, как говорится, «не отходя от кассы». Я ногой задвинул рюкзак под стол, пригладил взъерошенные волосы и направился к оклеенным обоями задоскам, за которыми, рядом с огромным сундуком, запертым на амбарный замок, располагалась задернутая выцветшей ситцевой занавеской дверь в небольшие задние сени, которые надо было миновать, чтобы войти в летник. Двумя решительными шагами я пересек сени, едва освещенные маленьким запыленным окошком, и постучал в дверь, сколоченную из двух широких толстенных досок. Не дождавшись ни приглашения, ни отказа, я потянул ее на себя. Дверь бесшумно отворилась.
– Я знала, что вы придете, – сказала она, не повернув головы и не шевельнувшись.
Сложив руки на коленях, она сидела у окна на высоком, грубо сколоченном табурете. Тонкий силуэт ее профиля, мягко окантованный ореолом снежного света, был так нежен и беззащитен, что у меня сразу вылетели из головы все заготовленные фразы, и я столбом застыл на пороге, не решаясь ни пройти, ни уйти, ни выдавить что-либо в объяснение своего появления.
В летнике было не так холодно, как я ожидал, хотя и гораздо прохладнее, чем в жарко натопленных комнатах основного жилья хозяев. Пахло здесь, как и там, травами, но дышалось гораздо легче. На старую, тщательно застланную койку была небрежно брошена дубленка, а рядом, у подушки лежал раскрытый «Полевой дневник», навязанный мне перед отъездом Арсением Павловичем.