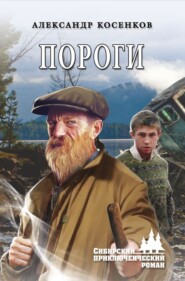По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Зона обетованная
Жанр
Год написания книги
2019
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Да? – оживился Омельченко и даже сделал попытку заглянуть мне в лицо. – Это как, если по-простому, а не по-научному?
– Давно уже разговорчики проскальзывали на эту тему, а я их мимо ушей. Даже в голову не приходило, что Арсений Павлович может заболеть. Теперь сам убедился.
– Как, если не секрет?
– Еду вот с вами… Рабочего ищу. А мог бы уже с ним, в тайге…
– На Глухую, значит?
– На Глухую.
– Далеко.
– А ближе нам смысла нет.
* * *
Машина остановилась у большого дома, окруженного солидными деревянными пристройками. Жилье было сработано несколько тяжеловесно, но зато добротно.
– Приехали? – поинтересовался я, покосившись на Омельченко.
А тот словно позабыл и о моем существовании, и о том, что машина уткнулась в громадные ворота. Шофер, видимо привыкший к перепадам в настроении Омельченко, сидел с безразличным видом. Неподвижный Омельченко с какой-то тупой задумчивой покорностью смотрел перед собой. Но вдруг передернулся весь, разом сбросил свое немощное оцепенение и громко спросил:
– Как насчет баньки? Уважаешь?
– С дороги разве… – заколебался я. Но, подумав, что бог еще знает, когда придется мне побывать в баньке, решил не стесняться и добавил: – Уважаю. Очень даже.
– Такой бани, как у меня, Алексей, больше ни у кого, – серьезно сообщил Омельченко. – Мать! – весело закричал он на всю улицу.
Из дома, приоткрыв дверь, выглянула красивая женщина.
– Чего орешь? До дома дойти некогда? Чего тебе?
Она улыбалась, придерживая на груди полы накинутого на плечи тулупчика.
– Топи баню! – по-прежнему на всю улицу приказал Омельченко. – Гость у нас баню уважает.
– Чего это посеред недели? – удивилась женщина.
Я попытался вмешаться:
– Вы не беспокойтесь, пожалуйста. Какая сейчас баня?
– Разговорчики! – прикрикнул на меня и на жену, раскрывавшую перед машиной ворота, Омельченко. – Чтобы одна нога здесь, другая там.
Женщина скрылась, машина въехала во двор. Мигом поскидали мы в какую-то из пристроек мой груз. Потом Омельченко потащил меня и шофера в дом. Завертелась обычная в таких случаях карусель слов, ответов, расспросов, взаимных неловкостей и взаимного усердия с этой неловкостью справиться. Шофер вскоре, сославшись на дела, ушел, а немного погодя приспела баня. Помню, я еще подумал: «Что-то больно быстро истопили. Наверное, на скорую руку, кое-как».
Баня оказалась отменной. В предбаннике густо пахло устилавшими пол пихтовыми лапами, березовым веником, раскаленными до пузырящейся смолы лиственничными бревнами. А когда Омельченко, гоготнув от жара, плеснул на камни из какого-то особого ковша маслянистой зеленоватой жидкости – явственно и горячо запахло травами, медом и чем-то летним, невообразимо далеким от этих притундровых, заносимых снегом мест…
Я орал от восторга и жара, хлестал веником по огромному малиновому телу Омельченко, потом он хлестал меня; мы выскакивали, задыхаясь, во двор, бегали под плотно несущимся снегом, ложились в него в блаженном изнеможении, соскакивали, возвращались в обжигающее пахучее нутро баньки и снова махали вениками. Наконец Омельченко сдался.
– Ну, ты здоров, – уважительно сказал он, выплескивая на меня тазик холодной воды. – Что значит годы. Сердце крепче, кровь чище. А у меня голова закружилась. Ты домывайся, я пойду.
Он ушел, а я, донельзя довольный, что пересидел такого великана, принялся неторопливо мыться в пахучей полутьме. Сонное безразличие навалившейся усталости начисто отбило мое недавнее желание еще раз поразмышлять надо всеми сегодняшними событиями. Утренний разговор с Арсением я уже вспоминал как нечто давнее и незначительное. Трудный перелет тоже забылся, встреча с бичами казалась смешным недоразумением. Пожалуй, только Омельченко своей могучей плотью заполнил сузившееся пространство моего засыпающего воображения. «Интересно… – лениво раздумывал я, одеваясь. – Живут же такие люди… Им бы где-нибудь на виду, в центре делами ворочать. У них силы черт знает на что хватило бы. А он – здесь… Что у него здесь? Дом, заработок, жена красивая. Немало, конечно. Но ведь человечище какой! С его силами… Неужели он уже ничего не хочет? А может, хочет, да только я этого не знаю?» Я вспомнил его неподвижность и задумчивость, которая внезапно стирала его оглушительную жизнерадостность, и решил, что мужик он все-таки далеко не однозначный и вовсе не годится для скоропалительного прочтения. Почему я так решил, и сам толком не понял, но решил пока придерживаться именно этой версии.
Выйдя в просторный двор, я невольно отвернулся от несущихся навстречу снежных хлопьев. Предсказанное диспетчером долгое ненастье торопилось заявить свои права. Судя по всему, привычно опережая сроки, начиналась бесконечная здешняя зима. Ждать несколько суток в переполненном аэровокзальчике – та еще перспективка. Как тут не порадоваться заботе Арсения, поручившего меня покровительству Омельченко. Не было бы Омельченко, не было бы баньки, не было бы этого уютного теплого дома, где так вкусно пахло едой и травами.
Следы Омельченко уже занесло снегом, поэтому я двинулся к дому наугад. Зашел за угол не то гаража, не то сарая и оказался у самых окон дома. Яркий свет из них освещал сумасшедшую круговерть снега. В одном из окон я разглядел хлопотавшую у стола хозяйку. Тут же стоял Омельченко и что-то рассказывал. Мне даже послышался его громкий голос, что было, конечно, очень сомнительно, ввиду толстенных бревенчатых стен и наглухо законопаченных двойных рам. Омельченко засмеялся, запрокидывая голову. Засмеялась и жена. Удивительно подходили они друг к другу. Во всяком случае, в этом отношении задумываться ему, кажется, причин не было.
Я двинулся дальше. Мелькнули яркие, увешанные коврами стены другой комнаты. «Спальня хозяев», – решил я. Следующим было окно комнаты, в которой Омельченко устроил меня. Я узнал «веселенький», изображавший груду настрелянной неведомым охотником дичи, натюрмортик на стене, огромный тяжелый шкаф справа от дверей, стол посередине комнаты. У стола спиной ко мне стояла женщина и что-то внимательно рассматривала. Ладная фигурка, светлые, рассыпавшиеся по плечам волосы. Женщина нагнулась. На спинке стула у стола висела моя кожанка. В одном из ее карманов был бумажник, в другом документы. Мельком посмотрев документы, она положила их на место и достала бумажник. Я с тревогой подумал о командировочных и подотчетных на непредвиденные расходы. Да еще моя двухмесячная зарплата была там же. Хорош я буду. Но она только заглянула в бумажник и положила его на место. Деньги ее, судя по всему, не интересовали. А что ее интересовало? Кто она? Откуда? Омельченко о ней ничего не говорил. О её присутствии в доме я даже не подозревал. Словно почувствовав мой взгляд, она неожиданно обернулась, и я невольно отпрянул назад, не сообразив, что с яркого света меня, притаившегося в темноте, ей нипочем не разглядеть. И все-таки она внимательно и долго смотрела в окно, словно прислушивалась к чему-то или пыталась что-то увидеть. Показалась она мне очень красивой. Снег, слезивший окна, отблески красноватого света, падавшего на нее из-под абажура, наверное, приукрашивали мои впечатления. Но даже со всеми скидками на преувеличения, оптические эффекты и ошеломленность было совершенно очевидно, что основания для подобных впечатлений у меня были. Буквально все – глаза, овал лица, поворот головы, фигура… В таких влюбляются мгновенно и серьезно. Женщина отвернулась от окна и отошла в дальний конец комнаты. Там стоял мой рюкзак. Она присела перед ним… Судя по всему, со мной знакомились основательно. Правда, пока заочно и, мягко скажем, не совсем дозволенными методами. Особого восторга у меня это не вызвало. Я лихорадочно размышлял, что же мне делать? Зайти и застать ее? Спросить про нее у Омельченко? Она не признается или придумает что-нибудь. Может, зайти, молча забрать вещички, поблагодарить за баньку и отправиться в тот же аэропорт? Далековато. И груз мой уже здесь. Все-таки надо зайти и поинтересоваться – в чем дело?
Я двинулся было к дверям, и тут раздался выстрел. Звякнуло разбитое стекло окна, и почти тотчас во всем доме погас свет. Прижавшись к стене, я оглянулся в сторону выстрела. Глаза от недавнего света еще ничего не различали, в лицо хлестал снег. Почему-то пригибаясь, я побежал к баньке – показалось, стреляли с той стороны. За банькой, действительно, кто-то недавно стоял – снег быстро заносил чьи-то следы. Следы вели к забору. Во всех соседних дворах надрывались собаки. Я посмотрел в сторону дома. Окно, сквозь которое я разглядывал Омельченко, было отсюда как на ладони. Очевидно, стрелявший дождался, когда я скроюсь за углом сарая, и считая, что вот-вот войду в дом, выстрелил. Дела! Не подстрелили ли Омельченко? Веселенькие события. Да еще мои следы под самым окном. В лучшем случае попаду в свидетели, в худшем – в подозреваемые. Что же теперь делать?
В это время раздался негромкий голос Омельченко:
– Алексей, а Алексей?
– Здесь, – отозвался я, делая шаг на голос.
Мы встретились посреди двора, и я невольно подумал, что если стрелявший, вместо того, чтобы убежать, залег где-нибудь поблизости, мы представляем для него неплохую мишень даже в этой снежной круговерти и темноте. Неприятное ощущение враждебного взгляда, упершегося в спину, заставило меня невольно поежиться.
– Ничего не слышал? – спокойно спросил Омельченко.
– Вроде стреляли? – ответил я вопросом на вопрос, решив пока не выдавать, что знаю про этот выстрел немного больше.
– Было дело, – подтвердил Омельченко и двинулся к дому.
Я подумал, что сейчас он увидит мои следы под окном, и кто знает, что придет ему тогда в голову.
– Кажется, совсем рядом стреляли, – сказал я, оставаясь на месте. – Только вышел – бац! Я даже испугался.
– Чего тебе пугаться? – остановился Омельченко. – Не в тебя, в меня стреляли.
– В вас?
– Ну. Я же лесник. По должности в этих местах не раз кому-нибудь поперек окажешься. А народ здесь крутой: чуть что – за ружьишко. И раньше так было, а сейчас того хужей.
Ветер рванул с какой-то неистовой силой. Снег хлестко лепил в лицо. Омельченко, стоявшего в нескольких шагах от меня, почти не было видно. «Какие там теперь следы? – подумал я. – Никаких следов. Ничего не надо объяснять… Впрочем, и про незнакомку, изучавшую мои документы, теперь не спросить. Откуда, скажет, у тебя такие сведения? Как разглядел? Из баньки? Надо каким-нибудь другим путем разобраться в этом вопросе». Я шел за Омельченко, думал обо всем этом и чувствовал, что снова проникаюсь к нему симпатией. Наверняка он не знал про то, что творилось в «моей» комнате. Может, подруга жены какая-нибудь? Он и знать не знает, чем она там занималась.
«Вообще-то многовато событий для одного вечера, – решил я. – И загадок тоже».
На крыльце Омельченко остановился и крепко взял меня за плечо.
– Понимаешь, Алексей, – тихо сказал он, – жинка у меня там… Надежда Степановна. Баба есть баба. Боится, плачет. А что я могу поделать?
Он замолчал.
– Может, уехать вам отсюда, если так все? – неуверенно предложил я, не зная, к чему он клонит разговор.
– Давно уже разговорчики проскальзывали на эту тему, а я их мимо ушей. Даже в голову не приходило, что Арсений Павлович может заболеть. Теперь сам убедился.
– Как, если не секрет?
– Еду вот с вами… Рабочего ищу. А мог бы уже с ним, в тайге…
– На Глухую, значит?
– На Глухую.
– Далеко.
– А ближе нам смысла нет.
* * *
Машина остановилась у большого дома, окруженного солидными деревянными пристройками. Жилье было сработано несколько тяжеловесно, но зато добротно.
– Приехали? – поинтересовался я, покосившись на Омельченко.
А тот словно позабыл и о моем существовании, и о том, что машина уткнулась в громадные ворота. Шофер, видимо привыкший к перепадам в настроении Омельченко, сидел с безразличным видом. Неподвижный Омельченко с какой-то тупой задумчивой покорностью смотрел перед собой. Но вдруг передернулся весь, разом сбросил свое немощное оцепенение и громко спросил:
– Как насчет баньки? Уважаешь?
– С дороги разве… – заколебался я. Но, подумав, что бог еще знает, когда придется мне побывать в баньке, решил не стесняться и добавил: – Уважаю. Очень даже.
– Такой бани, как у меня, Алексей, больше ни у кого, – серьезно сообщил Омельченко. – Мать! – весело закричал он на всю улицу.
Из дома, приоткрыв дверь, выглянула красивая женщина.
– Чего орешь? До дома дойти некогда? Чего тебе?
Она улыбалась, придерживая на груди полы накинутого на плечи тулупчика.
– Топи баню! – по-прежнему на всю улицу приказал Омельченко. – Гость у нас баню уважает.
– Чего это посеред недели? – удивилась женщина.
Я попытался вмешаться:
– Вы не беспокойтесь, пожалуйста. Какая сейчас баня?
– Разговорчики! – прикрикнул на меня и на жену, раскрывавшую перед машиной ворота, Омельченко. – Чтобы одна нога здесь, другая там.
Женщина скрылась, машина въехала во двор. Мигом поскидали мы в какую-то из пристроек мой груз. Потом Омельченко потащил меня и шофера в дом. Завертелась обычная в таких случаях карусель слов, ответов, расспросов, взаимных неловкостей и взаимного усердия с этой неловкостью справиться. Шофер вскоре, сославшись на дела, ушел, а немного погодя приспела баня. Помню, я еще подумал: «Что-то больно быстро истопили. Наверное, на скорую руку, кое-как».
Баня оказалась отменной. В предбаннике густо пахло устилавшими пол пихтовыми лапами, березовым веником, раскаленными до пузырящейся смолы лиственничными бревнами. А когда Омельченко, гоготнув от жара, плеснул на камни из какого-то особого ковша маслянистой зеленоватой жидкости – явственно и горячо запахло травами, медом и чем-то летним, невообразимо далеким от этих притундровых, заносимых снегом мест…
Я орал от восторга и жара, хлестал веником по огромному малиновому телу Омельченко, потом он хлестал меня; мы выскакивали, задыхаясь, во двор, бегали под плотно несущимся снегом, ложились в него в блаженном изнеможении, соскакивали, возвращались в обжигающее пахучее нутро баньки и снова махали вениками. Наконец Омельченко сдался.
– Ну, ты здоров, – уважительно сказал он, выплескивая на меня тазик холодной воды. – Что значит годы. Сердце крепче, кровь чище. А у меня голова закружилась. Ты домывайся, я пойду.
Он ушел, а я, донельзя довольный, что пересидел такого великана, принялся неторопливо мыться в пахучей полутьме. Сонное безразличие навалившейся усталости начисто отбило мое недавнее желание еще раз поразмышлять надо всеми сегодняшними событиями. Утренний разговор с Арсением я уже вспоминал как нечто давнее и незначительное. Трудный перелет тоже забылся, встреча с бичами казалась смешным недоразумением. Пожалуй, только Омельченко своей могучей плотью заполнил сузившееся пространство моего засыпающего воображения. «Интересно… – лениво раздумывал я, одеваясь. – Живут же такие люди… Им бы где-нибудь на виду, в центре делами ворочать. У них силы черт знает на что хватило бы. А он – здесь… Что у него здесь? Дом, заработок, жена красивая. Немало, конечно. Но ведь человечище какой! С его силами… Неужели он уже ничего не хочет? А может, хочет, да только я этого не знаю?» Я вспомнил его неподвижность и задумчивость, которая внезапно стирала его оглушительную жизнерадостность, и решил, что мужик он все-таки далеко не однозначный и вовсе не годится для скоропалительного прочтения. Почему я так решил, и сам толком не понял, но решил пока придерживаться именно этой версии.
Выйдя в просторный двор, я невольно отвернулся от несущихся навстречу снежных хлопьев. Предсказанное диспетчером долгое ненастье торопилось заявить свои права. Судя по всему, привычно опережая сроки, начиналась бесконечная здешняя зима. Ждать несколько суток в переполненном аэровокзальчике – та еще перспективка. Как тут не порадоваться заботе Арсения, поручившего меня покровительству Омельченко. Не было бы Омельченко, не было бы баньки, не было бы этого уютного теплого дома, где так вкусно пахло едой и травами.
Следы Омельченко уже занесло снегом, поэтому я двинулся к дому наугад. Зашел за угол не то гаража, не то сарая и оказался у самых окон дома. Яркий свет из них освещал сумасшедшую круговерть снега. В одном из окон я разглядел хлопотавшую у стола хозяйку. Тут же стоял Омельченко и что-то рассказывал. Мне даже послышался его громкий голос, что было, конечно, очень сомнительно, ввиду толстенных бревенчатых стен и наглухо законопаченных двойных рам. Омельченко засмеялся, запрокидывая голову. Засмеялась и жена. Удивительно подходили они друг к другу. Во всяком случае, в этом отношении задумываться ему, кажется, причин не было.
Я двинулся дальше. Мелькнули яркие, увешанные коврами стены другой комнаты. «Спальня хозяев», – решил я. Следующим было окно комнаты, в которой Омельченко устроил меня. Я узнал «веселенький», изображавший груду настрелянной неведомым охотником дичи, натюрмортик на стене, огромный тяжелый шкаф справа от дверей, стол посередине комнаты. У стола спиной ко мне стояла женщина и что-то внимательно рассматривала. Ладная фигурка, светлые, рассыпавшиеся по плечам волосы. Женщина нагнулась. На спинке стула у стола висела моя кожанка. В одном из ее карманов был бумажник, в другом документы. Мельком посмотрев документы, она положила их на место и достала бумажник. Я с тревогой подумал о командировочных и подотчетных на непредвиденные расходы. Да еще моя двухмесячная зарплата была там же. Хорош я буду. Но она только заглянула в бумажник и положила его на место. Деньги ее, судя по всему, не интересовали. А что ее интересовало? Кто она? Откуда? Омельченко о ней ничего не говорил. О её присутствии в доме я даже не подозревал. Словно почувствовав мой взгляд, она неожиданно обернулась, и я невольно отпрянул назад, не сообразив, что с яркого света меня, притаившегося в темноте, ей нипочем не разглядеть. И все-таки она внимательно и долго смотрела в окно, словно прислушивалась к чему-то или пыталась что-то увидеть. Показалась она мне очень красивой. Снег, слезивший окна, отблески красноватого света, падавшего на нее из-под абажура, наверное, приукрашивали мои впечатления. Но даже со всеми скидками на преувеличения, оптические эффекты и ошеломленность было совершенно очевидно, что основания для подобных впечатлений у меня были. Буквально все – глаза, овал лица, поворот головы, фигура… В таких влюбляются мгновенно и серьезно. Женщина отвернулась от окна и отошла в дальний конец комнаты. Там стоял мой рюкзак. Она присела перед ним… Судя по всему, со мной знакомились основательно. Правда, пока заочно и, мягко скажем, не совсем дозволенными методами. Особого восторга у меня это не вызвало. Я лихорадочно размышлял, что же мне делать? Зайти и застать ее? Спросить про нее у Омельченко? Она не признается или придумает что-нибудь. Может, зайти, молча забрать вещички, поблагодарить за баньку и отправиться в тот же аэропорт? Далековато. И груз мой уже здесь. Все-таки надо зайти и поинтересоваться – в чем дело?
Я двинулся было к дверям, и тут раздался выстрел. Звякнуло разбитое стекло окна, и почти тотчас во всем доме погас свет. Прижавшись к стене, я оглянулся в сторону выстрела. Глаза от недавнего света еще ничего не различали, в лицо хлестал снег. Почему-то пригибаясь, я побежал к баньке – показалось, стреляли с той стороны. За банькой, действительно, кто-то недавно стоял – снег быстро заносил чьи-то следы. Следы вели к забору. Во всех соседних дворах надрывались собаки. Я посмотрел в сторону дома. Окно, сквозь которое я разглядывал Омельченко, было отсюда как на ладони. Очевидно, стрелявший дождался, когда я скроюсь за углом сарая, и считая, что вот-вот войду в дом, выстрелил. Дела! Не подстрелили ли Омельченко? Веселенькие события. Да еще мои следы под самым окном. В лучшем случае попаду в свидетели, в худшем – в подозреваемые. Что же теперь делать?
В это время раздался негромкий голос Омельченко:
– Алексей, а Алексей?
– Здесь, – отозвался я, делая шаг на голос.
Мы встретились посреди двора, и я невольно подумал, что если стрелявший, вместо того, чтобы убежать, залег где-нибудь поблизости, мы представляем для него неплохую мишень даже в этой снежной круговерти и темноте. Неприятное ощущение враждебного взгляда, упершегося в спину, заставило меня невольно поежиться.
– Ничего не слышал? – спокойно спросил Омельченко.
– Вроде стреляли? – ответил я вопросом на вопрос, решив пока не выдавать, что знаю про этот выстрел немного больше.
– Было дело, – подтвердил Омельченко и двинулся к дому.
Я подумал, что сейчас он увидит мои следы под окном, и кто знает, что придет ему тогда в голову.
– Кажется, совсем рядом стреляли, – сказал я, оставаясь на месте. – Только вышел – бац! Я даже испугался.
– Чего тебе пугаться? – остановился Омельченко. – Не в тебя, в меня стреляли.
– В вас?
– Ну. Я же лесник. По должности в этих местах не раз кому-нибудь поперек окажешься. А народ здесь крутой: чуть что – за ружьишко. И раньше так было, а сейчас того хужей.
Ветер рванул с какой-то неистовой силой. Снег хлестко лепил в лицо. Омельченко, стоявшего в нескольких шагах от меня, почти не было видно. «Какие там теперь следы? – подумал я. – Никаких следов. Ничего не надо объяснять… Впрочем, и про незнакомку, изучавшую мои документы, теперь не спросить. Откуда, скажет, у тебя такие сведения? Как разглядел? Из баньки? Надо каким-нибудь другим путем разобраться в этом вопросе». Я шел за Омельченко, думал обо всем этом и чувствовал, что снова проникаюсь к нему симпатией. Наверняка он не знал про то, что творилось в «моей» комнате. Может, подруга жены какая-нибудь? Он и знать не знает, чем она там занималась.
«Вообще-то многовато событий для одного вечера, – решил я. – И загадок тоже».
На крыльце Омельченко остановился и крепко взял меня за плечо.
– Понимаешь, Алексей, – тихо сказал он, – жинка у меня там… Надежда Степановна. Баба есть баба. Боится, плачет. А что я могу поделать?
Он замолчал.
– Может, уехать вам отсюда, если так все? – неуверенно предложил я, не зная, к чему он клонит разговор.