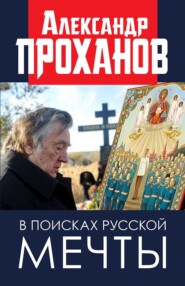По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Матрица войны
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Матрица войны
Александр Андреевич Проханов
Кампучийская хроника. Страна только-только начинает оживать после ухода кровавого правителя Пол Пота. Но еще сохраняется риск перерастания локального конфликта в большую бойню, пламя войны еще может перекинуться на соседние государства. Майор внешней разведки Белосельцев отправляется в Кампучию, чтобы предотвратить сползание страны в хаос. Он видит перед собой огромный подлунный мир человеческих мистерий, переживаний, мечтаний, побед и поражений. Кхмеры, вьетнамцы – Белосельцев не видит между ними разницы, его сердце преисполнено состраданием к простым людям, он выступает как воин-миротворец, посланник могущественной державы, призванный сеять лишь доброе и вечное…
Александр Проханов
Матрица войны
Глава первая
Праздность – медленная, тягучая продолжительность московского летнего дня с белесым утренним солнцем, зажигающим болезненно-бледное пятно на старых обоях, где висит обломок иконы, обугленной в давнишнем пожаре. Больше шума, колючего сверкания, литого блеска машин. Скопились у светофора, теснятся, давят, мигают зло желтыми боковыми огнями. И словно открыли перед ними запруду – льются, торопятся, трутся боками, глянцевитые, скользко-упругие, как жуки-плавунцы. И в воздухе после них повисает прозрачная фиолетовая гарь, сквозь которую бежит сосредоточенная московская толпа, из подземелья в подземелье, из одних стеклянных дверей в другие, из одного времени года в другое, из века в век. Весь день на огромном перекрестке что-то сталкивается, вспыхивает, плавится, окутывается светящимся газом, блестит, сжигает кислород бледного высокого неба, в котором слепо горит реклама. От этих бесчисленных столкновений, слепящих вспышек, монотонных миганий рекламы возникает ощущение слепоты, огромной выжженной пустоты, в которую превращаются чувства и мысли. После смерти, после стоцветной, ярко прожитой жизни останется выгоревшее пятно бесцветного небытия. Вечер похож на окалину, медленно остывающую на красных от вечернего солнца домах. По этим красным асфальтам, из красных в красные двери, из красных в красные автобусы бежит толпа, множество мелькающих, красных, как у косцов, лиц, на которых не разглядеть выражения, а только особое московское утомление после душного дня, улетающего, как видение туманных мостов, церквей, небоскребов. Вечер, смуглый, бриллиантовый, непрерывное скольжение нарядных автомобилей, брызгающих на фиолетовый асфальт прозрачными пучками огней, словно несут перед собой стеклянные кувшины света. Тверская в золотых витринах, в голубых планетах и лунах реклам, в драгоценных гирляндах, опутывающих ветви деревьев. Женщины похожи на птиц в райском саду. Возле них останавливаются лимузины. Птицы, колыхая разноцветными перьями, бегут на манки ловцов, впархивают в дверцы машин, и их увозят, легкомысленных и счастливых. Долго за полночь шелестит и мягко рокочет город, брызжет огромное ночное солнце казино, плещет многоцветным водяным букетом фонтан, и где-то в нагретых гранитных теснинах, невидимый, сладкозвучный, играет саксофон, словно течет медленная и горячая струя смолы. Праздный день завершен, сквозь шторы бесшумная, в два цвета, мигает реклама, посылая в мироздание беззвучный, безответный сигнал тревоги. И странная мысль: «Это я… Живой… После долгой прожитой жизни прожил еще один, необъяснимый, наполненный тончайшей болью день…»
Отставной генерал разведки Виктор Андреевич Белосельцев не находил в себе сил оставить душную Москву и уехать на дачу, где ждал его заросший, запущенный сад, тихие труды в цветнике среди серьезных оранжево-черных шмелей, сладких табаков и засахаренных бутонов роз, когда на жестяном совке чернеет сочный ком и в нем извивается скользкий розовый червь. Он не мог уехать, пораженный необъяснимым бессилием, нежеланием менять свое положение в пространстве, будто ждал, что сверху, из горячего неба, прольется на него прозрачная струя канифоли и он застынет в ней на веки вечные, раскинув свои высохшие руки, склонив к плечу седую голову. Это ожидание напоминало паралич, отнимавший способность двигаться, шевелить пальцами, вращать глазами, сжимать и расширять легкие. Жизнь была неинтересна, состояла из мельчайшей пудры, в которую превратились его жизненные впечатления, усвоенные науки, прочитанные книги, человеческие отношения и дружбы, сама страна, которой он, профессиональный разведчик, служил до последних минут ее существования, пока она, огромная, как красный леденец, не растаяла, не потекла липким соком, сжатая чьим-то огромным, потным, омерзительным кулаком.
Иногда, чтобы разнообразить безделье, развеять сонную одурь, он включал телевизор. Но оттуда, из голубоватого студня, из дрожащего желе, как из заливного, начинали выпрыгивать уродливые рыбины, губастые и носастые чудища, пучеглазые щетинистые твари. Морочили, пугали, тянули клешни, тыкали в глаза обрубками конечностей, норовили схватить волосатой лапой или пнуть мозолистой голой стопой. Белосельцев, послушав и посмотрев минуту, выключал телевизор, загонял обратно в пластмассовый застекленный короб несметное сонмище, которое из ящика через огромную шахту скатывалось обратно в преисподнюю, в жилище тьмы.
Среди мелочных бессмысленных дел: приготовления пищи, стирания белья, принятия пилюль, подметания комнаты – было одно занятие, к которому он прибегал, спасаясь от изнурительного пустоцветного бытия, где любое событие, любой звук или знак являли собой глупую мелочь, бессмыслицу, оскорбительную незначительность, за которую не цеплялся ум, которую отторгала душа.
Три стены в его длинном, как пенал, кабинете занимала коллекция бабочек. Стеклянные кристаллы, в которые, как в бруски драгоценного льда, были вморожены разноцветные дива, вычерпанные легким сачком из воздушных потоков Африки, океанских ветров Америки, лесных дуновений Азии. Привезенные в Москву с театров военных действий, среди московских снегов, ночных черных наледей они повествовали о иной земле, молодой, сотворенной Богом планете, которую Господь облек в наряд из цветов и бабочек. Это позже сквозь нарядное облачение стали взлетать ракеты, пикировали самолеты, протыкали драгоценный наряд небоскребы и башни. В Никарагуа он толкал с сандинистами залипшее в грязь орудие, проволакивал его по скользкой дороге, на которой сидели мириады розовых бабочек. В Атлантике на их боевой корабль, доставлявший в Анголу морскую пехоту, сели белые бабочки, и вся палуба, бортовые орудия, глубинные бомбометы, штыри и чаши антенн были покрыты белыми хлопьями, словно корабль, приближаясь к экватору, заиндевел, укутался шубой голубоватого инея.
Теперь, когда его окружала бессмысленная, ненужная жизнь, мучила каждым звуком, каждой злой и никчемной мелочью, когда он сам, отравленный тончайшим ядом, изводил себя изнурительной мыслью о никчемной судьбе, в которой все его победы и подвиги, блистательные чины и награды кончились общим поражением, испепелившим смысл бытия, – теперь он спасался созерцанием бабочек.
Он ложился на диван, подкладывая под голову любимую пакистанскую подушку, шитую серебром, как ложатся курильщики опиума. Обращался лицом к стене, на которой висели бабочки. Медленно, ровно дышал, устремляя глаза на недвижное разноцветье. Не мигал, останавливая дрожание зрачков, охватывая ими один из фрагментов коробки, в которой рядами, насаженные на синеватую сталь булавок, застыли бабочки. Постепенно в его воспаленный, измученный мозг начинали просачиваться разноцветные струйки дыма, пьянящие сладкие капли, дурманящие цветные туманы. Заволакивали его разум восхитительной дымкой, в которой не было мыслей, очертаний предметов, а один размытый цветной туман с завитками голубого и алого, с проблеском белизны и лазури.
Его утомленная плоть оставалась на диване, а нечто – быть может, душа или бесплотная сущность разума – отделялось от бренного вместилища, утончалось, свивалось в разноцветную нить, которая проникала сквозь тонкий зазор, проскальзывала сквозь угольное ушко и оказывалась по другую сторону бытия, в восхитительном пространстве, где не было предметного мира, а одни спектральные вспышки, летящие лучи, многоцветные нимбы. Это пространство струилось, видоизменялось, принимало его в себя, он переливался из алого в изумрудно-зеленое, из серебряного и лучистого в стеклянно-лиловое. Его душа путешествовала среди чистых энергий, среди волнистого света, из которого брызгали светоносные пучки, исходили сияния. Эти зори, малиновые и желтые восходы и закаты, жемчужно-лунные тени, бело-красные сполохи вызывали ощущение счастья. Не было времени, не было материального мира, а одни волнистые переливы цветов. Возможно, это и был рай, а счастье, которое он испытывал, было райским счастьем, которое уготовано ему после смерти, сразу же после того, как остановятся и остекленеют зрачки, повернутся в глубь многоцветной бездны.
Он лежал на диване в наркотических галлюцинациях света, и бабочки, как балерины, кружились, насаженные на отточенную голубую ось, маршировали, как бесчисленное воинство, проходящее парадом через его кабинет.
Коробка, которую он созерцал, была собрана в Кампучии. Он знал в ней каждую бабочку, связывая с ней тот или иной эпизод своей опасной кампучийской поездки. Золотые будды, волнистые пагоды, синие туманные джунгли, колонны военной техники, горящий шар вертолета. Он помнил просеки, по которым бежал, размахивая белым сачком. Помнил блестящие горячие лужи после короткого ливня, на которые из леса слетались бабочки. Помнил поляну, где в сачок залетела огромная черно-золотая бабочка, шевелила кисею сильными, упругими крыльями. В коробке не было бабочки, перламутрово-лиловой, с таинственными ночными переливами, той, которую поймал в прозрачном лесу, а потом отпустил. Вдруг померещилось, что в бабочку вселилась душа женщины, которую потерял. Теперь он смотрел на кампучийских бабочек, стараясь вспомнить ту, которой здесь не было, чье место оставалось пустым. «Алтарь неизвестному богу», – думал он, всматриваясь в переливы коробки.
Надо было действовать, жить. Надо было спуститься за хлебом, купить себе чай и сахар. Раздражаясь на себя за эту сохраненную потребность есть и пить, за необходимость питать свое праздное, бездельное тело, он собрался и вышел из дома.
Был жаркий московский полдень. Тверская казалась раскаленным черным противнем, на котором, как рыбы, подскакивали и бились машины. Зажаренные, в глянцевитой коросте, будут лежать рядами, как караси, с выпученными фарами, обугленными губами радиаторов. Пушкин стоял над площадью, словно политый маслом. Фонтан тяжело выталкивал мутно-стеклянные глыбы воды, без брызг и без блеска, сваливал их в гранитное корыто. Цветы на клумбах, жирные, красные, напоминали разделанное мясо.
Белосельцев, сторонясь всего этого, словно боясь испачкаться и обжечься, прошел к магазинчикам, построенным вдоль тротуара, чтобы поскорее кинуть в целлофановый пакет пачку чая, батон, упаковку молока и снова вернуться домой, укрыться под костяной черепаший панцирь.
Торговец-азербайджанец, с вишневыми глазами, коричневой лысиной и золотыми зубами, на несколько секунд развлек его. Белосельцев поместил его в деревянную раму на холст, где тот был нарисован художником-примитивистом жирными цветными мазками среди бутылок и банок пива, флаконов с вином и водкой, сочных ломтей красной и белой рыбы, розовых, пересыпанных льдом креветок. Торговец смотрел на мир лиловыми солнечными глазами, окруженный той частью Вселенной, за которую люди, прежде чем ею овладеть, платили деньги. Белосельцев именно так и поступил – кинул снедь в пакет, дождался, когда электронный автомат выбросит на прилавок чек, отсчитал деньги.
Он хотел покинуть стеклянный теремок магазина, когда в двери, мешая ему пройти, втиснулись два парня и девушка. Парни – длинноволосые, потные, с мокрыми, улыбающимися губами и размытым слюнявым выражением возбужденных, громко говорящих ртов. Девица – с русалочьими распущенными волосами, перламутровая от помады, в коротком платье, столь легком и вольном, что под ним уже не было ничего, кроме влажного тела, мелькнувшего сквозь прозрачную ткань. Все трое смеялись, парни старались по очереди обнять свою спутницу, коснуться ее голого локтя, плеча и шеи. Они были пьяны, устремились к прилавку, на котором, как нарядные боеприпасы, теснились банки и бутылки с наклейками.
– Командир, три джина с тоником!.. И не надо сдачи!.. – громко, по-дурацки захохотал парень, высыпая деньги, как загулявший ковбой.
– Мальчики, а лед будет? – жеманно и противно сказала девица.
Продавец благосклонно оглядел ее вишневыми веселыми глазами, всю насквозь, до влажных подмышек и выпуклых молодых бедер. Ловко, короткими волосатыми руками, поставил на прилавок цилиндрическую банку с кольцом, напоминавшую пехотную гранату с чекой. Следом еще две. Оскалился золотыми зубами, словно во рту у него загорелась лампочка.
Белосельцев испытал мимолетную гадливость – деньги, похоть, перламутровое пятно помады, как радужная пленка гниения. Распад поразил эти жизни сразу же, как только они появились на свет. Все были заражены одной болезнью, которой наградили друг друга, которую передадут следующим за ними поколениям.
Он протиснулся между ними и вышел наружу. Пошел не домой, а на близкий бульвар, в его тусклую горячую тень, свалявшийся тополиный пух, белесую, с редкими прохожими аллею. Устало опустился на лавку, чувствуя изнеможение, словно совершил дневной армейский марш с оружием и полной выкладкой. Пакет с батоном и чаем лежал на скамье. Худая, с острым локтем рука бессильно покоилась на крашеных рейках.
Он смотрел на Тверской бульвар, на знакомые, как часть его кабинета, ампирные особняки, на их желтые и зеленые фасады, чугунные решетки балконов, на корявые стволы деревьев и литые тумбы фонарей, на слепящее скольжение машин и торопливый проход москвичей, с особой московской походкой, выражением лиц, манерой носить одежду, мужские портфели или дамские сумочки.
Бульвар был обыденно знакомый, родной, продолжение его дома, рабочего стола, примелькавшегося обломка иконы, книжной полки с запыленными корешками.
Он вдруг вспомнил, как в детстве бабушка вела его по бульвару в промозглый февральский день. Было холодно, блестела под ногами солнечно-черная наледь, в голых деревьях ярко синело небо, и он не поспевал за бабушкой, торопливо вдыхал сквозь колючий шарф острый, обжигающий воздух. И еще один миг, через много лет, когда уезжал в Анголу. Вышел на вечерний бульвар, полный неясных предчувствий, и мысль его – быть может, в последний раз он видит этот желтый особняк, и чугунную ограду бульвара, и зеленую скамейку, на которой сидит молодая женщина, курит, смотрит на него долгим, невидящим взглядом.
На этом бульваре он бывал бессчетное количество раз, помнил его в снегу, с драгоценно сверкающей елкой, в зелени свежей изумрудной листвы под холодным шумящим ливнем, желтым и пряным, с кучами осенней листвы, из которых сочился сладкий сизый дымок. И ни разу на этом бульваре с ним ничего не случалось – ни встречи, ни события, ни яркого происшествия. Бульвар был коридором, ведущим в комнаты, где проходили события и встречи.
Белосельцев смотрел отрешенно на желтый особняк с полукруглым ампирным окном. В остекленелом, как крыло стрекозы, пространстве замерло еще одно мгновение его исчезающей жизни.
На бульвар вышли трое – уже знакомые парни и девица с распущенными по спине волосами. Все трое, обнявшись, держали жестяные банки с джином, качались, нестройно ступая, громко разговаривая, хохоча. Девица пыталась на ходу танцевать, что-то запевала. Кавалеры хватали ее за шею, оглаживали ее волосы вдоль спины и ниже, шлепали по ягодицам. Запрокидывали лица и лили в открытые рты содержимое банок. Они обогнули лавку, где сидел Белосельцев, плюхнулись напротив, и одна опорожненная банка покатилась, гремя, по аллее.
Белосельцев раздраженно, желчно смотрел на них. Они разрушили хрупкую, стеклянную перепонку стрекозиного крыла. Их избыточная дурная энергия наполнила блеклый бульвар, растолкала жидкую белесую тень, серый пух. Они принесли с собой болезнь. Перламутровая струйка гниения лилась от них по газону, мимо ствола старой липы, чугунного литья решетки. Белосельцев собирался уйти, нащупывал на лавке целлофановый пакет.
Один из парней плотно обхватил девицу, сжал ей шею и поцеловал, хватая ее фиолетовые губы, запрокидывая ее голову и тяжелые волосы на спинку скамьи. Другой полез ей за вырез платья, погружая свою пятерню в горячую глубину. Девица отбивалась, мычала закрытым, стиснутым ртом, дергала голыми ногами. Вырвалась, жалобно закричав, расталкивая ухажеров руками. И первый, распаленный, рассерженный, ударил ее наотмашь в лицо, оглушил, а второй, пытаясь обнять, рванул ей платье, легкая ткань распалась, и под ней сверкнуло голое тело.
– Помогите! – кричала девица, а двое хватали ее за руки, валили на лавку, задирали ей на голову платье.
Белосельцев испытал страх, гадливость, желание поскорее уйти, не видеть омерзительной, посреди бела дня, сцены, осквернявшей бульвар, ампирный особняк, морщинистые, старые липы, под которыми два века прогуливались почтенные горожане, а теперь шлепнулся комок живой слизи – размазанная вокруг женских губ, раскисшая от слюны помада, разодранное платье, пьяные похотливые лица парней, мучающих свою жертву.
– Помогите! – кричала девица, путаясь в своих русалочьих волосах, отбиваясь от сильных, жадных, ощупывающих ее рук. Мимо, шарахаясь, торопливо прошел какой-то мужчина, неся аккуратный деловой саквояж.
– Эй вы, оставьте ее!.. – крикнул Белосельцев, подымаясь со скамейки. Но голос его был слаб, тонул среди визгов и хохота. – Оставьте!.. Ступайте отсюда!.. – Он переходил аллею, приближаясь к верещащему клубку, стараясь придать голосу властную крепость и силу.
Теперь он был услышан. Один из парней изумленно посмотрел на него, словно разглядывал сквозь горячий потный туман. Сердито, без особой злобы, сказал:
– Отец, давай проходи!.. Левое плечо кругом!.. А то башку оторву!..
– Помогите, умоляю!.. – взывала к нему девушка, и он увидел близко ее поднятые брови, дрожащие, полные слез глаза, разорванное платье, сквозь которое виднелась округлая грудь.
– Оставьте девушку и идите отсюда!.. – повторил Белосельцев, понимая, что этим окриком ввергает себя в неизбежную, опасную, сулившую ему поражение схватку, и надо поскорее уйти, и оставить здесь, на скамейке, ком слизи, и об этом забыть, спрятаться в свое неприступное, не подверженное распаду жилище, где коробка с кампучийскими бабочками, и среди них незримо присутствует темно-лиловая, словно тропическая ночь, с незабытым именем «Мария Луиза».
Второй парень поднялся с лавки и молча пошел на него. Глаза его были в красных ободках ненависти. Тупо, прямо, выбрасывая вперед сильную, перевитую мышцами руку, направляя ему в лицо стиснутый грязный кулак, он хотел смести его, разбить ему череп прямым попаданием, вогнать в седую голову оглушающий, разящий удар. Белосельцев отстранился, пропустил кулак вдоль скулы, больно, костяшками, саданувший кожу, и коротким кривым ударом, посылая вдогон кулаку и локтю не утратившее силу плечо, свалил противника на усыпанную кирпичной крошкой тропинку. Не оглушил, а лишь ошеломил неожиданным отпором.
Первый, с веселым, бурлящим матом, кинулся на него, выставил вперед две красные, обгорелые на солнце кисти, растопыренными пальцами целил в горло, чтобы сжать, стиснуть, ломануть сухой кадык, придушить назойливого, не ко времени возникшего старикана. Перехватывая запястья, подкидывая их вверх незабытым приемом, Белосельцев крутанул противника, желая его свалить, но не хватило массы и резкости. Парень не упал, а лишь ударил коленом землю, снизу вверх изумленно и весело поглядывая на соперника.
Второй, хлюпая жарко, невидимый, сзади нанес ему в затылок толчок, под свод черепной коробки, от чего помутилось в глазах, и секунду все текло в расплавленном воздухе. Скамейка с кричащей девушкой, чей крик прорывался сквозь густые спутанные волосы. Белый ампирный особняк с черным чугунным балконом. Припавший на одно колено парень, глядящий ему за спину, туда, где второй, невидимый, готовил завершающий разящий удар.
Белосельцев, не волей, а последним инстинктом жизни, собрал из распавшихся, разлетающихся корпускул единственную отпущенную для жизни секунду. Качнулся в сторону, пропуская мимо, из-за спины, горячий ком мускулов, хрипа и ненависти. Рука нащупала в кармане газовый пистолет, точную копию семизарядного портативного маузера. Кулак вытянул вперед вороненое тельце оружия. Передернул затвор, прицеливаясь попеременно в два близких, похожих лица, покрытых скользкой пленкой жира, – в их дышащие розоватые ноздри, выпуклые, в алых прожилках, белки, в свистящие, приоткрытые зубы. Был готов вогнать тонкий, как шприц, аэрозоль в ошпаренные глаза и губы. Но парни, отрезвев, пятились, руками ощупывали за собой пространство, отступали, удалялись. Повернулись и побежали по аллее, мимо особняков, песочниц, двухсотлетнего дуба, к далекому круглому зеркальцу света, где, похожий на ружейную мушку, стоял памятник Тимирязеву. Белосельцев чувствовал слабость. Стоял, опустив пистолет, с гудящей головой, в которой разливалась боль от полученного удара, от затылка ко лбу, сквозь глазные яблоки. На скамейке сидела пьяная девица, всхлипывала, отбрасывала с лица повлажневшие от страха волосы, прижимала на боку клок разодранного платья. Он хотел уйти, добраться до дома и лечь. Пережить эту боль от удара, отвращение и брезгливость. Он повернулся, направляясь к скамье, где лежал пакет с купленной снедью.
– Не уходите!.. – сказала девушка. – Они вернутся!.. Они меня изобьют, изнасилуют!.. Умоляю, не уходите!
В ней было нечто жалобное и убогое – в ее размалеванной помаде, в растрепанных волосах, в синеватых, текущих с ресниц слезах. Нечто отталкивающее и одновременно беззащитно-детское, беспомощное. Так в саду, проходя мимо полной бочки, он видел попавшего в воду жука, его шевелящиеся лапки, яркое глянцевитое тельце, от которого расходились крохотные волны. И всегда, повинуясь странному состраданию, он вычерпывал жука, кидал его вместе с брызгами в тенистые лопухи.
– Не уходите! – плакала девушка.
– Возьмите!.. – Он протянул ей платок. – Идемте к фонтану… Там ополоснете лицо…
У фонтана он наклонил ее голову к воде. Слыша, как глухо булькает тяжелый бурун, видя, как блестят и двоятся на дне фонтана монетки, он черпал пригоршней воду, омывал ей лицо. Она фыркала, всхлипывала, волосы ее упали через гранитный край фонтана и намокли. И в том, как он ее мыл и как она терпела это омовение, было нечто трогательное и смешное. Так моют чумазых, извозившихся детей, чтобы чистыми и умытыми уложить в постель.
Александр Андреевич Проханов
Кампучийская хроника. Страна только-только начинает оживать после ухода кровавого правителя Пол Пота. Но еще сохраняется риск перерастания локального конфликта в большую бойню, пламя войны еще может перекинуться на соседние государства. Майор внешней разведки Белосельцев отправляется в Кампучию, чтобы предотвратить сползание страны в хаос. Он видит перед собой огромный подлунный мир человеческих мистерий, переживаний, мечтаний, побед и поражений. Кхмеры, вьетнамцы – Белосельцев не видит между ними разницы, его сердце преисполнено состраданием к простым людям, он выступает как воин-миротворец, посланник могущественной державы, призванный сеять лишь доброе и вечное…
Александр Проханов
Матрица войны
Глава первая
Праздность – медленная, тягучая продолжительность московского летнего дня с белесым утренним солнцем, зажигающим болезненно-бледное пятно на старых обоях, где висит обломок иконы, обугленной в давнишнем пожаре. Больше шума, колючего сверкания, литого блеска машин. Скопились у светофора, теснятся, давят, мигают зло желтыми боковыми огнями. И словно открыли перед ними запруду – льются, торопятся, трутся боками, глянцевитые, скользко-упругие, как жуки-плавунцы. И в воздухе после них повисает прозрачная фиолетовая гарь, сквозь которую бежит сосредоточенная московская толпа, из подземелья в подземелье, из одних стеклянных дверей в другие, из одного времени года в другое, из века в век. Весь день на огромном перекрестке что-то сталкивается, вспыхивает, плавится, окутывается светящимся газом, блестит, сжигает кислород бледного высокого неба, в котором слепо горит реклама. От этих бесчисленных столкновений, слепящих вспышек, монотонных миганий рекламы возникает ощущение слепоты, огромной выжженной пустоты, в которую превращаются чувства и мысли. После смерти, после стоцветной, ярко прожитой жизни останется выгоревшее пятно бесцветного небытия. Вечер похож на окалину, медленно остывающую на красных от вечернего солнца домах. По этим красным асфальтам, из красных в красные двери, из красных в красные автобусы бежит толпа, множество мелькающих, красных, как у косцов, лиц, на которых не разглядеть выражения, а только особое московское утомление после душного дня, улетающего, как видение туманных мостов, церквей, небоскребов. Вечер, смуглый, бриллиантовый, непрерывное скольжение нарядных автомобилей, брызгающих на фиолетовый асфальт прозрачными пучками огней, словно несут перед собой стеклянные кувшины света. Тверская в золотых витринах, в голубых планетах и лунах реклам, в драгоценных гирляндах, опутывающих ветви деревьев. Женщины похожи на птиц в райском саду. Возле них останавливаются лимузины. Птицы, колыхая разноцветными перьями, бегут на манки ловцов, впархивают в дверцы машин, и их увозят, легкомысленных и счастливых. Долго за полночь шелестит и мягко рокочет город, брызжет огромное ночное солнце казино, плещет многоцветным водяным букетом фонтан, и где-то в нагретых гранитных теснинах, невидимый, сладкозвучный, играет саксофон, словно течет медленная и горячая струя смолы. Праздный день завершен, сквозь шторы бесшумная, в два цвета, мигает реклама, посылая в мироздание беззвучный, безответный сигнал тревоги. И странная мысль: «Это я… Живой… После долгой прожитой жизни прожил еще один, необъяснимый, наполненный тончайшей болью день…»
Отставной генерал разведки Виктор Андреевич Белосельцев не находил в себе сил оставить душную Москву и уехать на дачу, где ждал его заросший, запущенный сад, тихие труды в цветнике среди серьезных оранжево-черных шмелей, сладких табаков и засахаренных бутонов роз, когда на жестяном совке чернеет сочный ком и в нем извивается скользкий розовый червь. Он не мог уехать, пораженный необъяснимым бессилием, нежеланием менять свое положение в пространстве, будто ждал, что сверху, из горячего неба, прольется на него прозрачная струя канифоли и он застынет в ней на веки вечные, раскинув свои высохшие руки, склонив к плечу седую голову. Это ожидание напоминало паралич, отнимавший способность двигаться, шевелить пальцами, вращать глазами, сжимать и расширять легкие. Жизнь была неинтересна, состояла из мельчайшей пудры, в которую превратились его жизненные впечатления, усвоенные науки, прочитанные книги, человеческие отношения и дружбы, сама страна, которой он, профессиональный разведчик, служил до последних минут ее существования, пока она, огромная, как красный леденец, не растаяла, не потекла липким соком, сжатая чьим-то огромным, потным, омерзительным кулаком.
Иногда, чтобы разнообразить безделье, развеять сонную одурь, он включал телевизор. Но оттуда, из голубоватого студня, из дрожащего желе, как из заливного, начинали выпрыгивать уродливые рыбины, губастые и носастые чудища, пучеглазые щетинистые твари. Морочили, пугали, тянули клешни, тыкали в глаза обрубками конечностей, норовили схватить волосатой лапой или пнуть мозолистой голой стопой. Белосельцев, послушав и посмотрев минуту, выключал телевизор, загонял обратно в пластмассовый застекленный короб несметное сонмище, которое из ящика через огромную шахту скатывалось обратно в преисподнюю, в жилище тьмы.
Среди мелочных бессмысленных дел: приготовления пищи, стирания белья, принятия пилюль, подметания комнаты – было одно занятие, к которому он прибегал, спасаясь от изнурительного пустоцветного бытия, где любое событие, любой звук или знак являли собой глупую мелочь, бессмыслицу, оскорбительную незначительность, за которую не цеплялся ум, которую отторгала душа.
Три стены в его длинном, как пенал, кабинете занимала коллекция бабочек. Стеклянные кристаллы, в которые, как в бруски драгоценного льда, были вморожены разноцветные дива, вычерпанные легким сачком из воздушных потоков Африки, океанских ветров Америки, лесных дуновений Азии. Привезенные в Москву с театров военных действий, среди московских снегов, ночных черных наледей они повествовали о иной земле, молодой, сотворенной Богом планете, которую Господь облек в наряд из цветов и бабочек. Это позже сквозь нарядное облачение стали взлетать ракеты, пикировали самолеты, протыкали драгоценный наряд небоскребы и башни. В Никарагуа он толкал с сандинистами залипшее в грязь орудие, проволакивал его по скользкой дороге, на которой сидели мириады розовых бабочек. В Атлантике на их боевой корабль, доставлявший в Анголу морскую пехоту, сели белые бабочки, и вся палуба, бортовые орудия, глубинные бомбометы, штыри и чаши антенн были покрыты белыми хлопьями, словно корабль, приближаясь к экватору, заиндевел, укутался шубой голубоватого инея.
Теперь, когда его окружала бессмысленная, ненужная жизнь, мучила каждым звуком, каждой злой и никчемной мелочью, когда он сам, отравленный тончайшим ядом, изводил себя изнурительной мыслью о никчемной судьбе, в которой все его победы и подвиги, блистательные чины и награды кончились общим поражением, испепелившим смысл бытия, – теперь он спасался созерцанием бабочек.
Он ложился на диван, подкладывая под голову любимую пакистанскую подушку, шитую серебром, как ложатся курильщики опиума. Обращался лицом к стене, на которой висели бабочки. Медленно, ровно дышал, устремляя глаза на недвижное разноцветье. Не мигал, останавливая дрожание зрачков, охватывая ими один из фрагментов коробки, в которой рядами, насаженные на синеватую сталь булавок, застыли бабочки. Постепенно в его воспаленный, измученный мозг начинали просачиваться разноцветные струйки дыма, пьянящие сладкие капли, дурманящие цветные туманы. Заволакивали его разум восхитительной дымкой, в которой не было мыслей, очертаний предметов, а один размытый цветной туман с завитками голубого и алого, с проблеском белизны и лазури.
Его утомленная плоть оставалась на диване, а нечто – быть может, душа или бесплотная сущность разума – отделялось от бренного вместилища, утончалось, свивалось в разноцветную нить, которая проникала сквозь тонкий зазор, проскальзывала сквозь угольное ушко и оказывалась по другую сторону бытия, в восхитительном пространстве, где не было предметного мира, а одни спектральные вспышки, летящие лучи, многоцветные нимбы. Это пространство струилось, видоизменялось, принимало его в себя, он переливался из алого в изумрудно-зеленое, из серебряного и лучистого в стеклянно-лиловое. Его душа путешествовала среди чистых энергий, среди волнистого света, из которого брызгали светоносные пучки, исходили сияния. Эти зори, малиновые и желтые восходы и закаты, жемчужно-лунные тени, бело-красные сполохи вызывали ощущение счастья. Не было времени, не было материального мира, а одни волнистые переливы цветов. Возможно, это и был рай, а счастье, которое он испытывал, было райским счастьем, которое уготовано ему после смерти, сразу же после того, как остановятся и остекленеют зрачки, повернутся в глубь многоцветной бездны.
Он лежал на диване в наркотических галлюцинациях света, и бабочки, как балерины, кружились, насаженные на отточенную голубую ось, маршировали, как бесчисленное воинство, проходящее парадом через его кабинет.
Коробка, которую он созерцал, была собрана в Кампучии. Он знал в ней каждую бабочку, связывая с ней тот или иной эпизод своей опасной кампучийской поездки. Золотые будды, волнистые пагоды, синие туманные джунгли, колонны военной техники, горящий шар вертолета. Он помнил просеки, по которым бежал, размахивая белым сачком. Помнил блестящие горячие лужи после короткого ливня, на которые из леса слетались бабочки. Помнил поляну, где в сачок залетела огромная черно-золотая бабочка, шевелила кисею сильными, упругими крыльями. В коробке не было бабочки, перламутрово-лиловой, с таинственными ночными переливами, той, которую поймал в прозрачном лесу, а потом отпустил. Вдруг померещилось, что в бабочку вселилась душа женщины, которую потерял. Теперь он смотрел на кампучийских бабочек, стараясь вспомнить ту, которой здесь не было, чье место оставалось пустым. «Алтарь неизвестному богу», – думал он, всматриваясь в переливы коробки.
Надо было действовать, жить. Надо было спуститься за хлебом, купить себе чай и сахар. Раздражаясь на себя за эту сохраненную потребность есть и пить, за необходимость питать свое праздное, бездельное тело, он собрался и вышел из дома.
Был жаркий московский полдень. Тверская казалась раскаленным черным противнем, на котором, как рыбы, подскакивали и бились машины. Зажаренные, в глянцевитой коросте, будут лежать рядами, как караси, с выпученными фарами, обугленными губами радиаторов. Пушкин стоял над площадью, словно политый маслом. Фонтан тяжело выталкивал мутно-стеклянные глыбы воды, без брызг и без блеска, сваливал их в гранитное корыто. Цветы на клумбах, жирные, красные, напоминали разделанное мясо.
Белосельцев, сторонясь всего этого, словно боясь испачкаться и обжечься, прошел к магазинчикам, построенным вдоль тротуара, чтобы поскорее кинуть в целлофановый пакет пачку чая, батон, упаковку молока и снова вернуться домой, укрыться под костяной черепаший панцирь.
Торговец-азербайджанец, с вишневыми глазами, коричневой лысиной и золотыми зубами, на несколько секунд развлек его. Белосельцев поместил его в деревянную раму на холст, где тот был нарисован художником-примитивистом жирными цветными мазками среди бутылок и банок пива, флаконов с вином и водкой, сочных ломтей красной и белой рыбы, розовых, пересыпанных льдом креветок. Торговец смотрел на мир лиловыми солнечными глазами, окруженный той частью Вселенной, за которую люди, прежде чем ею овладеть, платили деньги. Белосельцев именно так и поступил – кинул снедь в пакет, дождался, когда электронный автомат выбросит на прилавок чек, отсчитал деньги.
Он хотел покинуть стеклянный теремок магазина, когда в двери, мешая ему пройти, втиснулись два парня и девушка. Парни – длинноволосые, потные, с мокрыми, улыбающимися губами и размытым слюнявым выражением возбужденных, громко говорящих ртов. Девица – с русалочьими распущенными волосами, перламутровая от помады, в коротком платье, столь легком и вольном, что под ним уже не было ничего, кроме влажного тела, мелькнувшего сквозь прозрачную ткань. Все трое смеялись, парни старались по очереди обнять свою спутницу, коснуться ее голого локтя, плеча и шеи. Они были пьяны, устремились к прилавку, на котором, как нарядные боеприпасы, теснились банки и бутылки с наклейками.
– Командир, три джина с тоником!.. И не надо сдачи!.. – громко, по-дурацки захохотал парень, высыпая деньги, как загулявший ковбой.
– Мальчики, а лед будет? – жеманно и противно сказала девица.
Продавец благосклонно оглядел ее вишневыми веселыми глазами, всю насквозь, до влажных подмышек и выпуклых молодых бедер. Ловко, короткими волосатыми руками, поставил на прилавок цилиндрическую банку с кольцом, напоминавшую пехотную гранату с чекой. Следом еще две. Оскалился золотыми зубами, словно во рту у него загорелась лампочка.
Белосельцев испытал мимолетную гадливость – деньги, похоть, перламутровое пятно помады, как радужная пленка гниения. Распад поразил эти жизни сразу же, как только они появились на свет. Все были заражены одной болезнью, которой наградили друг друга, которую передадут следующим за ними поколениям.
Он протиснулся между ними и вышел наружу. Пошел не домой, а на близкий бульвар, в его тусклую горячую тень, свалявшийся тополиный пух, белесую, с редкими прохожими аллею. Устало опустился на лавку, чувствуя изнеможение, словно совершил дневной армейский марш с оружием и полной выкладкой. Пакет с батоном и чаем лежал на скамье. Худая, с острым локтем рука бессильно покоилась на крашеных рейках.
Он смотрел на Тверской бульвар, на знакомые, как часть его кабинета, ампирные особняки, на их желтые и зеленые фасады, чугунные решетки балконов, на корявые стволы деревьев и литые тумбы фонарей, на слепящее скольжение машин и торопливый проход москвичей, с особой московской походкой, выражением лиц, манерой носить одежду, мужские портфели или дамские сумочки.
Бульвар был обыденно знакомый, родной, продолжение его дома, рабочего стола, примелькавшегося обломка иконы, книжной полки с запыленными корешками.
Он вдруг вспомнил, как в детстве бабушка вела его по бульвару в промозглый февральский день. Было холодно, блестела под ногами солнечно-черная наледь, в голых деревьях ярко синело небо, и он не поспевал за бабушкой, торопливо вдыхал сквозь колючий шарф острый, обжигающий воздух. И еще один миг, через много лет, когда уезжал в Анголу. Вышел на вечерний бульвар, полный неясных предчувствий, и мысль его – быть может, в последний раз он видит этот желтый особняк, и чугунную ограду бульвара, и зеленую скамейку, на которой сидит молодая женщина, курит, смотрит на него долгим, невидящим взглядом.
На этом бульваре он бывал бессчетное количество раз, помнил его в снегу, с драгоценно сверкающей елкой, в зелени свежей изумрудной листвы под холодным шумящим ливнем, желтым и пряным, с кучами осенней листвы, из которых сочился сладкий сизый дымок. И ни разу на этом бульваре с ним ничего не случалось – ни встречи, ни события, ни яркого происшествия. Бульвар был коридором, ведущим в комнаты, где проходили события и встречи.
Белосельцев смотрел отрешенно на желтый особняк с полукруглым ампирным окном. В остекленелом, как крыло стрекозы, пространстве замерло еще одно мгновение его исчезающей жизни.
На бульвар вышли трое – уже знакомые парни и девица с распущенными по спине волосами. Все трое, обнявшись, держали жестяные банки с джином, качались, нестройно ступая, громко разговаривая, хохоча. Девица пыталась на ходу танцевать, что-то запевала. Кавалеры хватали ее за шею, оглаживали ее волосы вдоль спины и ниже, шлепали по ягодицам. Запрокидывали лица и лили в открытые рты содержимое банок. Они обогнули лавку, где сидел Белосельцев, плюхнулись напротив, и одна опорожненная банка покатилась, гремя, по аллее.
Белосельцев раздраженно, желчно смотрел на них. Они разрушили хрупкую, стеклянную перепонку стрекозиного крыла. Их избыточная дурная энергия наполнила блеклый бульвар, растолкала жидкую белесую тень, серый пух. Они принесли с собой болезнь. Перламутровая струйка гниения лилась от них по газону, мимо ствола старой липы, чугунного литья решетки. Белосельцев собирался уйти, нащупывал на лавке целлофановый пакет.
Один из парней плотно обхватил девицу, сжал ей шею и поцеловал, хватая ее фиолетовые губы, запрокидывая ее голову и тяжелые волосы на спинку скамьи. Другой полез ей за вырез платья, погружая свою пятерню в горячую глубину. Девица отбивалась, мычала закрытым, стиснутым ртом, дергала голыми ногами. Вырвалась, жалобно закричав, расталкивая ухажеров руками. И первый, распаленный, рассерженный, ударил ее наотмашь в лицо, оглушил, а второй, пытаясь обнять, рванул ей платье, легкая ткань распалась, и под ней сверкнуло голое тело.
– Помогите! – кричала девица, а двое хватали ее за руки, валили на лавку, задирали ей на голову платье.
Белосельцев испытал страх, гадливость, желание поскорее уйти, не видеть омерзительной, посреди бела дня, сцены, осквернявшей бульвар, ампирный особняк, морщинистые, старые липы, под которыми два века прогуливались почтенные горожане, а теперь шлепнулся комок живой слизи – размазанная вокруг женских губ, раскисшая от слюны помада, разодранное платье, пьяные похотливые лица парней, мучающих свою жертву.
– Помогите! – кричала девица, путаясь в своих русалочьих волосах, отбиваясь от сильных, жадных, ощупывающих ее рук. Мимо, шарахаясь, торопливо прошел какой-то мужчина, неся аккуратный деловой саквояж.
– Эй вы, оставьте ее!.. – крикнул Белосельцев, подымаясь со скамейки. Но голос его был слаб, тонул среди визгов и хохота. – Оставьте!.. Ступайте отсюда!.. – Он переходил аллею, приближаясь к верещащему клубку, стараясь придать голосу властную крепость и силу.
Теперь он был услышан. Один из парней изумленно посмотрел на него, словно разглядывал сквозь горячий потный туман. Сердито, без особой злобы, сказал:
– Отец, давай проходи!.. Левое плечо кругом!.. А то башку оторву!..
– Помогите, умоляю!.. – взывала к нему девушка, и он увидел близко ее поднятые брови, дрожащие, полные слез глаза, разорванное платье, сквозь которое виднелась округлая грудь.
– Оставьте девушку и идите отсюда!.. – повторил Белосельцев, понимая, что этим окриком ввергает себя в неизбежную, опасную, сулившую ему поражение схватку, и надо поскорее уйти, и оставить здесь, на скамейке, ком слизи, и об этом забыть, спрятаться в свое неприступное, не подверженное распаду жилище, где коробка с кампучийскими бабочками, и среди них незримо присутствует темно-лиловая, словно тропическая ночь, с незабытым именем «Мария Луиза».
Второй парень поднялся с лавки и молча пошел на него. Глаза его были в красных ободках ненависти. Тупо, прямо, выбрасывая вперед сильную, перевитую мышцами руку, направляя ему в лицо стиснутый грязный кулак, он хотел смести его, разбить ему череп прямым попаданием, вогнать в седую голову оглушающий, разящий удар. Белосельцев отстранился, пропустил кулак вдоль скулы, больно, костяшками, саданувший кожу, и коротким кривым ударом, посылая вдогон кулаку и локтю не утратившее силу плечо, свалил противника на усыпанную кирпичной крошкой тропинку. Не оглушил, а лишь ошеломил неожиданным отпором.
Первый, с веселым, бурлящим матом, кинулся на него, выставил вперед две красные, обгорелые на солнце кисти, растопыренными пальцами целил в горло, чтобы сжать, стиснуть, ломануть сухой кадык, придушить назойливого, не ко времени возникшего старикана. Перехватывая запястья, подкидывая их вверх незабытым приемом, Белосельцев крутанул противника, желая его свалить, но не хватило массы и резкости. Парень не упал, а лишь ударил коленом землю, снизу вверх изумленно и весело поглядывая на соперника.
Второй, хлюпая жарко, невидимый, сзади нанес ему в затылок толчок, под свод черепной коробки, от чего помутилось в глазах, и секунду все текло в расплавленном воздухе. Скамейка с кричащей девушкой, чей крик прорывался сквозь густые спутанные волосы. Белый ампирный особняк с черным чугунным балконом. Припавший на одно колено парень, глядящий ему за спину, туда, где второй, невидимый, готовил завершающий разящий удар.
Белосельцев, не волей, а последним инстинктом жизни, собрал из распавшихся, разлетающихся корпускул единственную отпущенную для жизни секунду. Качнулся в сторону, пропуская мимо, из-за спины, горячий ком мускулов, хрипа и ненависти. Рука нащупала в кармане газовый пистолет, точную копию семизарядного портативного маузера. Кулак вытянул вперед вороненое тельце оружия. Передернул затвор, прицеливаясь попеременно в два близких, похожих лица, покрытых скользкой пленкой жира, – в их дышащие розоватые ноздри, выпуклые, в алых прожилках, белки, в свистящие, приоткрытые зубы. Был готов вогнать тонкий, как шприц, аэрозоль в ошпаренные глаза и губы. Но парни, отрезвев, пятились, руками ощупывали за собой пространство, отступали, удалялись. Повернулись и побежали по аллее, мимо особняков, песочниц, двухсотлетнего дуба, к далекому круглому зеркальцу света, где, похожий на ружейную мушку, стоял памятник Тимирязеву. Белосельцев чувствовал слабость. Стоял, опустив пистолет, с гудящей головой, в которой разливалась боль от полученного удара, от затылка ко лбу, сквозь глазные яблоки. На скамейке сидела пьяная девица, всхлипывала, отбрасывала с лица повлажневшие от страха волосы, прижимала на боку клок разодранного платья. Он хотел уйти, добраться до дома и лечь. Пережить эту боль от удара, отвращение и брезгливость. Он повернулся, направляясь к скамье, где лежал пакет с купленной снедью.
– Не уходите!.. – сказала девушка. – Они вернутся!.. Они меня изобьют, изнасилуют!.. Умоляю, не уходите!
В ней было нечто жалобное и убогое – в ее размалеванной помаде, в растрепанных волосах, в синеватых, текущих с ресниц слезах. Нечто отталкивающее и одновременно беззащитно-детское, беспомощное. Так в саду, проходя мимо полной бочки, он видел попавшего в воду жука, его шевелящиеся лапки, яркое глянцевитое тельце, от которого расходились крохотные волны. И всегда, повинуясь странному состраданию, он вычерпывал жука, кидал его вместе с брызгами в тенистые лопухи.
– Не уходите! – плакала девушка.
– Возьмите!.. – Он протянул ей платок. – Идемте к фонтану… Там ополоснете лицо…
У фонтана он наклонил ее голову к воде. Слыша, как глухо булькает тяжелый бурун, видя, как блестят и двоятся на дне фонтана монетки, он черпал пригоршней воду, омывал ей лицо. Она фыркала, всхлипывала, волосы ее упали через гранитный край фонтана и намокли. И в том, как он ее мыл и как она терпела это омовение, было нечто трогательное и смешное. Так моют чумазых, извозившихся детей, чтобы чистыми и умытыми уложить в постель.