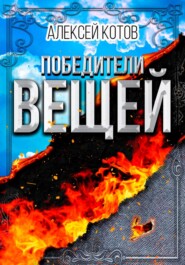По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Лебединая охота
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Сон отшатнулся и стал похож на прозрачную шелковую занавеску.
– Саин-хан!.. – окликнул Бату женский голос и тихо засмеялся.
Бату открыл глаза и долго смотрел во тьму. Болела голова. Пульсирующая и резкая боль, то стихала, то, словно протискиваясь через мозг ото лба к затылку и жгла острой, раскаленной иглой. Великого Хана мутило от выпитого, он вспоминал то недавний сон, то еще что-то, уже ускользнувшее из его памяти, что произошло перед тем, как он уснул.
Сон о далеком детстве уходил все дальше и дальше, а смутное воспоминание о недавнем событии словно задернули огромным куском дырявого войлока. Там, за завесой все еще что-то происходило, кружилось белыми, похожими на падающий снег красками, но отдельные крохотные картинки упрямо не складывались в единое целое.
Бату раздражало все: хаос и боль в голове, неудобная поза, темнота вокруг и даже полная тишина. В вытяжном окошке в центре юрты был виден крошечный кусочек неба. Один край окошка освещала яркая луна, и он красиво серебрился, как свежее пробитая во льду полынья.
Бату медленно, с заметным усилием сел. Боль в голове хлынула к затылку, и лоб покрылся холодной испариной. Великий Хан перетерпел боль. Он потер руками лицо и громко сказал:
– Эй!.. Кто там?!.. Свет сюда!
«Саин-хан…», – вспомнил Батый женский голос, позвавший его из темноты.
– Аянэ!
Никто не ответил.
Полог юрты поднялся, открывая сначала звездную ночь, а потом горящую лампу в руках рослого кебтеула. Пахнуло свежим, чистым воздухом. Тень воина быстро заслонила ночь за порогом, и почти тут же исчезло ощущение ночной свежести.
– Поставь… – Бату кивнул на лампу и показал глазами на низкий, китайский столик.
Воин поклонился и выполнил приказ.
Бату осмотрелся… Рядом с ним лежала мертвая девушка. Это была та, вторая пленница. У нее было белое, как мел и очень строгое лицо. Аянэ в юрте не было. Горло мертвой прикрывала подушка, Батый приподнял ее и увидел синие следы пальцев на шее.
Память возвращалась медленно. Куски войлока рвались с тихим шорохом, а картины, всплывающие в памяти, становились больше и ярче.
Бату не помнил причины убийства рабыни. Вспышка гнева пришла внезапно, и единственное, что всплыло в его памяти, была острая, пронизывающая сердце радость, когда он сжимал пальцы на тонком и теплом горе жертвы. Перед глазами вдруг промелькнул осколок сна: Джучи-хан держит за длинную шею бьющего крыльями лебедя… Мелькнул и исчез.
Бату перевел взгляд на кебтеула. Воин тут же опустил глаза.
– Хо-Чан где? – хрипло спросил Бату.
Воин молча кинул в сторону двери.
– Спит, что ли?
Воин снова кивнул.
– Позови его.
Воин вышел, и, как показалось Бату, почти тотчас вошел обратно и шагнул в сторону. За ним, сложив ладони у груди, стоял Хо-Чан.
– Убери, – Бату показал китайцу на мертвую девушку. Он со злой усмешкой рассматривал потемневшее лицо Хо-Чана. Чем большее раздражение и злость чувствовал Бату тем, казалось, меньше болела его голова. Боль словно растворялась в чем-то гораздо большем, чем она сама. К Великому Хану быстро возвращалась его привычная сила.
Хо-Чан подошел к девушке. Нерешительно оглядев труп, он обнял ее, как обнимают ребенка, и без особого усилия поднял перед собой. Какое-то время он смотрел на Бату, словно ожидая, что Великий Хан отменит свой нелепый приказ.
Бату потянулся к столику, взял чашу с кумысом и медленно выпил ее до дна. Боль в голове уходила с каждым глотком.
– Что стоишь? – усмехнулся Бату. – Меня ждешь? Один иди.
У порога Хо-Чан едва не споткнулся о брошенную вещь, но его поддержал за плечо воин. Китаец механически поблагодарил, и та же рука грубо вытолкала его из юрты.
Сразу за порогом, не сделав и трех шагов, Хо-Чан остановился.
– А куда ее нести? – виновато спросил воина.
Тот молча пожал плечами.
Хо-Чан растерялся… Лагерь монголов был огромным, он не знал, где хоронят убитых и умерших воинов, а просто бросить труп где-нибудь не было возможности. Вся территория лагеря была поделена на большие и маленькие куски, которые кому-то принадлежали, их охраняли от чужих, а при случае, защищали с помощью оружия.
Хо-Чан пошел прямо. Он думал и не находил выхода из создавшейся ситуации. Нести девушку в рощицу, где расположились его рабочие, было слишком далеко. Кроме того, этот путь пересекал небольшой овраг, по которому Хо-Чан приказал откачать воду из крепостного рва. Воды в овражке уже не было, но его дно стало топким и илистым, как болото. А обходить овраг с ношей, которая становилась все тяжелее и неудобней, было бы трудно и для физически сильного человека.
На секунду в свете луны Хо-Чан увидел мертвое лицо девушки. Оно показалось ему удивительно тонким и красивым. Китаец быстро отвел глаза.
Он попытался поговорить со старым монголом, который вез на тележке огромный тюк войлока. Но разговора о кладбище и о тележке, которую Хо-Чан был согласен купить за очень большие деньги, не получилось. Во-первых, старый монгол был пьян, во-вторых, судя по гортанным крикам, которые он адресовал не китайцу, а кому-то за своей спиной, старик поссорился со своим старшим сыном и теперь, перебираясь к младшему, он мог думать только о своей обиде.
В конце концов, Хо-Чан решил выйти за территорию лагеря и оставить мертвую девушку в поле. Дорога по кривым «улочкам» лагеря, да еще ночью, оказалось нелегкой. Несколько раз Хо-Чан попадал в тупики, возвращался, иногда отдыхал, осматриваясь по сторонам и пытаясь выбрать верный путь. Начинал он его с тяжелого, горького вздоха.
Чем длиннее становилась дорога Хо-Чана, тем короче становились его мысли. Он думал о Великом Хане (да продлит Небо его дни!) и, не понимал, чем был вызван ханский гнев, и почему именно ему была поручена работа рабов. Когда приходил страх, Хо-Чан успокаивал себя тем, что Бату не отнял у него серебряную пайцзу.
«Думай о том, что все могло быть хуже и станет легче», – не без горечи посоветовал он сам себе.
Больше всего на свете Хо-Чан любил две вещи: работу и свое вечернее одиночество. И первое, и второе занятие погружали его в мир привычных мыслей, в которых он великолепно ориентировался. По желанию Хо-Чана этот освещенный лампой мир мог быть крохотным – от локтя до свитка рукописи – или огромным, до самого неба, когда он устало закрывал глаза и размышления устремлялись куда-то далеко-далеко. Читая пятисотлетнюю рукопись или конструируя новую машину, Хо-Чан всегда находил в этом занятии удивительное чувство покоя. Но даже найденное им верное инженерное решение или философская мысль, способная поспорить с многовековой мудростью, вызывала в нем только кратковременную вспышку радости. И то и другое казалось ему закономерным итогом труда. Хо-Чан верил, что труд, как вода, способен разрушить горы и создать на их месте дворцы, а главное, подарить человеку ощущение спокойной гармонии. Мысль перетекала в труд, а труд – в новую мысль… Теперь же, на ночной дороге, даже облегчающая мысль о пайцзе, едва взгляд Хо-Чана наталкивался на лицо мертвой девушки, вдруг бледнела, привычный круг размышлений рвался и обнажал пугающую темноту вокруг. Темнота была реальной, она веяла ночным холодом, пахла мокрой землей и в отличие от желтого круга, длиной от локтя до свитка рукописи, была вне власти Хо-Чана…
Китайский мастер все больше страдал от тяжести своей ноши. Его дыхание постепенно становилось прерывистым и шумным. Голова постепенно освобождалась от мыслей (что от них толку, если они не облегчают ношу?!) и только где-то там, совсем глубоко, и не в голове, а под сердцем, Хо-Чана беспокоила неясная догадка, что он забыл что-то очень важное.
Кое-как пробравшись едва ли не через стену из низких, бедных юрт, Хо-Чан, наконец, увидел огромное, вытоптанное лошадьми поле.
«Шагов бы тридцать еще, – простонал про себя мастер. – Если увидят, что хороню мертвую слишком близко к лагерю, и пайцза не поможет. Кто ее в темноте рассматривать будет?»
Хо-Чан успел насчитать двадцать один шаг, как вдруг его окликнули сзади. Он вздрогнул и обернулся – его догоняли пять или шесть монголов. Свет луны освещал не их лица, а только кончики носов и одинаковые выпуклости щек под черными глазными впадинами. Хо-Чан почувствовал, что от страха на его лысеющей голове зашевелились волосы.
«Вот что, оказывается, я забыл…» – подумал он.
Среди приближающихся монголов Хо-Чан легко узнал того, на которого жаловался Великому Хану.
Монголы окружили Хо-Чана и сдернули ношу с его плеча. Потом, снова молча, его повалили на землю. Хо-Чан почти не сопротивлялся. Во-первых, он сильно устал, а, во-вторых, любой из его противников был гораздо сильнее его.
– На спину его переверните, – сказал кто-то из монголов.
Хо-Чана послушно перевернули на спину. Он увидел луну, она была мутно-выпуклой и словно плыла в воде.
«Какая тоска!…» – успел подумать Хо-Чан.
Тот же голос, который отдал первый приказ, сказал, куда нужно бить. Хо-Чана ударили кулаком под сердце. Потом еще и еще раз… Били в одно и тоже место, сила ударов была примерно одинаковой, но боль в груди Хо-Чана росла как снежный ком.