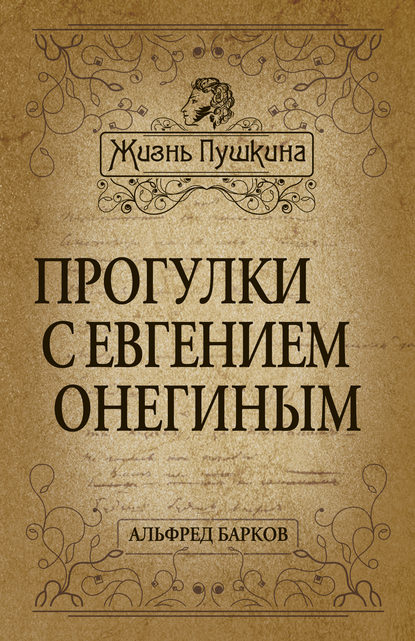По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Прогулки с Евгением Онегиным
Год написания книги
2014
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Именно здесь кроется объяснение того, что содержание мениппей нередко воспринимается в совершенно ошибочном свете. Это происходит по той причине, что читатель, не воспринимая полностью заложенную автором композицию и не догадываясь о ее истинном характере, интерпретирует ее по-своему и воссоздает на материале фабулы ложный сюжет.
Любой перекос в восприятии элементов композиции неизбежно ведет к появлению иной системы образов, что исключительно важно для мениппей, в которых основным композиционным средством является интенция особого персонажа – рассказчика, которому автор делегирует свои права в отношении формирования композиции. Как правило, позиция рассказчика противоречит собственной позиции автора: получив право на формирование композиции, рассказчик стремится скрыть от читателя то, что «хотел бы» довести до его сознания автор. И в этом суть секрета романа Пушкина, как и любой другой мениппеи.
В мениппее рассказчик-персонаж излагает события своего сказа так, как он их видит сквозь субъективную призму собственной психики и личных переживаний. Нередко он – один из персонажей собственного сказа, в числе других он описывает и самого себя, свои действия, а это тем более сопряжено с субъективизмом, поскольку полной «вненаходимости» (объективации образа) добиться в этом случае просто невозможно; в таком описании будут обязательно присутствовать элементы лирики. Поэтому в задачу автора мениппеи входит создание образа рассказчика с характерной для него психикой, и только сквозь призму психологических характеристик этого образа следует оценивать содержание того, о чем он повествует. Большим недостатком теории литературы является то обстоятельство, что она не вооружила историков литературы соответствующим методологическим аппаратом. К сожалению, даже М. М. Бахтин, уделив в своей работе о творчестве Достоевского значительное внимание характеристике мениппеи, сделал это описательными методами, через набор из пятнадцати внешних признаков (которые не всегда могут присутствовать в совокупности), не раскрыв при этом ее своеобразную внутреннюю структуру. Это не позволяет использовать такое описание в качестве рабочего инструмента структурного анализа.
Принципиальное отличие мениппеи от эпических произведений состоит в том, что ее текст следует воспринимать как созданный не титульным автором, а рассказчиком-персонажем. То, что мы не осознаем его присутствия и его специфической роли в формировании композиции, является следствием его позиции: ему удается вводить нас в заблуждение – путем формирования в нашем сознании ложного представления о произведении как чисто эпическом, а также путем навязывания ложной системы образов, которая ошибочно воспринимается как единственный сюжет и как содержание всего произведения. Для того, чтобы в сознании читателя сформировалась истинная система образов, необходимо не только выявить присутствие такого рассказчика (а это непосредственно связано с определением границ той лирической фабулы, которая описывает его действия), но и определить его интенцию, то есть, психологические доминанты, в силу которых содержание повествуемых им событий претерпевает искажения. Именно он, а не описываемые им персонажи, является главным героем произведения; именно то, как он ведет свой сказ, и является основным содержанием любой мениппеи, а сам сказ играет лишь роль вставной новеллы, работающей на раскрытие образа рассказчика.
Таким образом, на элементах одной и той же фабулы возможно образование различных сюжетов как образов произведения, их содержание зависит от восприятия читателем композиции. Отличительной чертой мениппеи является то ее свойство, что появление такого феномена (ложного образа произведения) является частью авторского замысла.
Глава VII
Мениппея: Мета-род литературы
Как отмечено выше, позиция рассказчика по отношению к описываемым им событиям, и в первую очередь его психологические характеристики, являются основными элементами композиции мениппеи. Рассмотрим признаки, отличающие мениппею с этой точки зрения от трех родов литературы.
Позицию рассказчика в любом завершенном высказывании нередко определяют как «авторскую», имея при этом в виду автора данного высказывания (художественного произведения). М. М. Бахтин показал, что нет ничего более ошибочного, чем такой подход: в подлинно художественном произведении личная позиция автора не может проявляться ни в одном из созданных им образов. Действительно, появление образа автора в каком-то из конкретных образов произведения сопряжено с появлением дидактики, которая убивает художественность, переводя произведение из разряда художественных в публицистику. Забегая вперед, хотел бы отметить, что все неудачи с разгадкой содержания «Евгения Онегина» объясняются именно ошибочной подменой образа рассказчика образом самого Пушкина, а это приводит к появлению ложной эстетической формы, блокирующей ход дальнейшего исследования. Хуже того: безусловное отождествление Пушкина с лирическими героями многих его произведений привело к неправильной интерпретации не только структуры этих произведений, но и отношения поэта к творчеству вообще.
Для того, чтобы уяснить, как выражается позиция автора в его произведении, необходимо выявить тот структурный элемент, в котором проявляется его интенция. Ясно, что этот элемент должен носить характер образа, причем образа совокупного. Для эпических произведений это – сюжет, он же и завершающая эстетическая форма всего произведения, поскольку в эпосе это – единственный совокупный образ, охватывающий весь корпус произведения. В мениппеях это – метасюжет, продукт взаимодействия всех входящих в него первичных сюжетов.
В эпических произведениях позиция рассказчика бесконечно удалена от описываемых им событий, она, как и авторская, предельно объективирована; рассказчик ведет свой сказ, не привнося в него собственных эмоций и оценок, а сам сказ окрашивается только стилистическими особенностями его (не автора!) речи. В теории литературы принято определение, в соответствии с которым к повествованию относится весь текст произведения за исключением прямой речи. То есть, этим подразумевается, что рассказчик никогда, ни при каких обстоятельствах не вносит собственных искажений в прямую речь персонажей. Оказалось, что такое утверждение справедливо только для эпических произведений, но ни в коем случае не для мениппей, в которых рассказчик выступает в роли «автора» всего сказа, включая и прямую речь персонажей.
В лирических произведениях сказ ведется с позиции образа лирического героя, которая предельно субъективна, а весь сказ окрашен его собственными эмоциями.
Таким образом, в эпосе и лирике проблем с определением позиции рассказчика не возникает, и любой читатель субъективно воспринимает ее безошибочно. «Чистую» драму не рассматриваем, поскольку в ней внешний рассказчик отсутствует вообще (хотя, с точки зрения внутренней структуры, драма не является отдельным родом литературы: она – предельный случай объективации позиции эпического рассказчика).
Однако в случае мениппеи дело обстоит иначе. Внешне произведение выглядит как эпическое, и отчасти это так и есть, но «лирические отступления» того, кого принято принимать за автора произведения, «портят» всю картину. Если бы все эти «отступления» в «эпическом романе» «Евгений Онегин» действительно исходили от самого Пушкина, то они привносили бы в него элементы дидактики, и мы бы это обязательно ощутили – пусть на подсознательном уровне, это не играет роли. Если исходить из презумпции, что «Евгений Онегин» – высокохудожественное произведение, то, опираясь на определения Бахтина, следовало бы признать, что эти отступления непосредственно от Пушкина исходить не могут. «Автор» романа Пушкина – это созданный им образ, специфическое художественное средство – рассказчик-персонаж. Вот здесь и возникает принципиально важный вопрос: если лирические отступления, не являясь частью сюжета эпического сказа, являются в то же время составной частью конструкции всего произведения, то что из себя представляет тот структурный элемент, в который они входят?
Поскольку каждое действие любого персонажа должно укладываться в фабулу, и поскольку процесс ведения сказа рассказчиком-персонажем фабулой этого сказа явно не охватывается, то ответ на этот вопрос может быть только один: кроме фабулы сказа, в мениппее существует и другая фабула, в рамках которой и описываются эти действия. Действительно, оказалось, что то, что мы воспринимаем в качестве фабулы всего романа (Татьяна, Ленский, дуэль), – вовсе не единственная, и даже не основная его фабула. Это – фабула того эпического повествования, которое ведет рассказчик, фабула своеобразного «романа в романе», вставной новеллы (назовем эту фабулу «эпической»).
Основная же фабула – это та, в которой описываются действия самого рассказчика как ведущего свое повествование (процесс создания того, что ошибочно принимается за роман «Евгений Онегин»), его биографические данные, элементы психики («ножки», например), его собственное отношение к повествуемому, которое он, как правило, пытается исказить перед читателем. Поскольку эти действия окрашены его собственными эмоциями, и поскольку он описывает их с позиций собственного образа, то эту фабулу назовем «лирической».
На эпической и лирической фабулах образуются комплементарные пары сюжетов – как минимум, по два на каждую фабулу (в «полной» мениппее – по три и более).
Первая пара – ложные сюжеты: в лирической фабуле действия рассказчика воспринимаются как исходящие от самого Пушкина; соответствующий ему сюжет эпической фабулы – это образ романа как эпического произведения (в том виде, в каком его принято воспринимать). В этом сюжете образ Татьяны распадается на два не связанных между собой образа, авторская позиция Пушкина воспринимается как выраженная именно в этом сюжете и как направленная против романтизма, а сам роман считается незавершенным.
Вторая пара сюжетов – истинные: как только читатель начинает осознавать отсутствие идентичности между рассказчиком и Пушкиным, в его сознании формируется образ рассказчика как персонажа произведения, появляется понимание того, что «противоречия» в романе объясняются его психикой (лирическая фабула). Это сразу же вносит коррективы в восприятие сюжета, образуемого на эпической фабуле, то есть, сказ воспринимается с учетом поправок на психологические особенности рассказчика. Читателю становится ясным, что роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин» по существу завершен; незавершенной является вставная новелла, авторство которой принадлежит рассказчику; что эта новелла, в фабуле которой Онегин убивает Ленского, не охватывает весь корпус романа Пушкина; что в этом романе есть пролог и эпилог; что в его тексте, несмотря на декларируемый рассказчиком отказ от намерения завершить свое повествование, все-таки описано то, что произошло после объяснения Онегина с Татьяной.
Третья пара сюжетов образуется в том случае, если автор произведения включил в него факты, непосредственно указующие на реальные личности (или события), послужившие в качестве прототипов при создании образов персонажей. В таком случае система образов произведения претерпевает дальнейшие изменения: в образы персонажей, наполненные этическим содержанием за счет второй пары сюжетов («истинных»), вносятся коррективы за счет биографических данных конкретных лиц, углубляя этическое наполнение образов «истинных сюжетов», в том числе и «образа автора» в метасюжете.
Сразу же следует отметить, что описанные автономные сюжеты не есть то, что принято называть «сюжетными линиями» и «прочтениями». Сюжетная линия является частью общего сюжета, она соответствует лишь какой-то части фабулы. Что же касается автономных сюжетов мениппеи, то каждый из них охватывает корпус всего произведения – по крайней мере, в пределах соответствующей фабулы. От «прочтений», появление которых предопределятся различиями в собственных, субъективных контекстах читателей, они отличаются тем, что их появление в нашем сознании объективно, оно преднамеренно вызвано автором и от индивидуальных контекстов читателя не зависит. Здесь следует отметить еще один принципиальный момент: появление в нашем сознании «истинных» сюжетов ни в коем случае не выключает из процесса образования завершающей эстетической формы сюжетов ложных, которые как знаки-образы играют важную роль в выявлении психологических характеристик рассказчика («почему и каким образом он искажает повествование»), а они – главный элемент композиции и, следовательно, решающий фактор в определении содержания всего произведения.
У читателя, знакомого с системной эстетикой Бахтина, может возникнуть недоумение по поводу несоответствия описанной структуры образа рассказчика системе «автор-творец – повествователь – идеальный читатель». Дело в том, что семантический ряд понятий no-Бахтину представляет собой эстетические категории. Рассказчик же мениппеи – категория чисто литературная, он – основной персонаж произведения, и ему соответствует совершенно реальный, хотя нередко и маскируемый, литературный образ. Что же касается повествователя по Бахтину, то он никогда не проявляется в виде художественного образа. Такой «повествователь» есть в любом произведении, и мениппея в этом не исключение. Этот повествователь «рассказывает» нам о том, какие в романе сюжеты, кем является рассказчик-персонаж, какова его интенция, в чем заключается композиция, какова интенция автора, как само произведение взаимодействует с внешними контекстами. К сожалению, в научных монографиях можно встретить факты, когда эти два понятия, относящиеся к нарратологии и эстетике, грубо смешиваются. В результате получается сумятица.
Интенция Пушкина как автора романа проявляется не в первичных сюжетах, а на более высоком уровне – в метасюжете, результирующем образе всего произведения. Этот образ (завершающая эстетическая форма) формируется в результате взаимодействия всех четырех (или шести) первичных автономных сюжетов, образованных на эпической и лирической фабулах, а также сюжета, образованного на третьей, «авторской» фабуле. При этом все они представляют собой образы (ложные или истинные) всего романа, поданные с различных ракурсов (с позиций трех фабул). Поскольку каждый образ обладает знаковыми свойствами, то для включения сюжетов в диалектическое взаимодействие необходимо наличие дополнительной внешней этической составляющей, которая вносится композиционными средствами. В качестве таковых снова выступает интенция рассказчика, а также описываемое третьей, «авторской» фабулой отношение автора к действиям своего рассказчика.
Когда писатель выбирает в качестве основного композиционного средства образ рассказчика-персонажа, он преподносит его как «истинного» автора, отводя себе скромную роль «публикатора» «чужого» произведения. По отношению к рассказчику «Евгения Онегина» Пушкин выступает в качестве «издателя», о чем содержались намеки, например, в беловой рукописи предисловия к первой главе. Однако при публикации в 1825 году Пушкин почти полностью их изъял, сопроводив издание тем, что ниже будет определено как эпилог романа, в котором четко разграничены позиции «автора» – рассказчика и «издателя». Кроме этого, он насытил подобными намеками авторскую фабулу, замаскированную под различного рода «внетекстовые структуры», имевшие вид многочисленных примечаний к изданию 1825 года. К сожалению, основная часть этих очень важных для постижения смысла романа «внетекстовых» элементов в современных изданиях, включая оба академические, либо не приводится, либо искажается, что фактически привело к утрате значительной части «авторской» фабулы, а вместе с ней и дополнительного сюжета, который представляет собой самостоятельную эстетическую ценность.
О своей неидентичности с личностью рассказчика Пушкин указал и в предисловии к «Путешествиям» Онегина (1833 г.; 1837 г.), однако специалисты не только не обратили внимания на эти моменты, но в ряде случаев вообще неправильно интерпретировали структуру текста предисловия. В «Примечания», которыми Пушкин сопроводил издание романа в 1833 и 1837 гг., он включил не только указание на то, что роман якобы создан не им, но даже намек на личность конкретного человека, фигура которого послужила прототипом образа Онегина.
Поскольку весь текст произведения отдается в ведение рассказчика, его автору остается довольствоваться подобного рода «внетекстовыми» структурами, которые таким образом включаются в корпус романа и работают на постижение его содержания. С учетом того, что действия автора произведения не могут описываться вне фабулы, появляется третья, уже чисто «авторская» фабула, упрятанная во всевозможные «внетекстовые» структуры или привносимая на интеллектуальном уровне из внешних контекстов. Образованный на ее основе сюжет является очень важным элементом композиции: давая читателю «подсказку» о наличии в произведении особого персонажа и намекая на его особую интенцию, отличную от интенции самого автора, этот сюжет принимает участие как в формировании истинных сюжетов эпической и лирической фабул, так и в образовании завершающей эстетической формы. В создании этой третьей фабулы Пушкин проявил поразительную и до сих пор никем не превзойденную виртуозность, и остается только сожалеть, что стараниями российской академической науки этот эстетический объект выведен из поля зрения современного читателя.
Как можно видеть, структура мениппеи представляет собой диалектическое сочетание эпоса и лирики, представленных различными фабулами. Если из мениппеи изъять лирическую фабулу с ее сюжетом (описание действий рассказчика и его интенции), то такая усеченная мениппея превращается в типичное произведение эпоса. Если изъять фабулу сказа, который ведется рассказчиком (то есть, «вставную новеллу»), то остается фабула с лирическим сюжетом, в которой повествование ведется с позиций образа рассказчика; следовательно, получается чисто лирическое произведение. И, наконец, если изъять обе фабулы, рассказчик и само повествование исчезают, остаются одни диалоги персонажей (драма). Кстати, если в какой-то драме присутствует внешний «ведущий», то вся она превращается в мениппею с полным комплектом фабул и сюжетов – например, достаточно очевидный, но пока никем не отмеченный случай с «Кабалой святош» М. А. Булгакова и совершенно беспрецедентный по характеру исполнения случай с «Борисом Годуновым».
Здесь следует рассмотреть одно теоретическое положение, которое оказалось немаловажным. Ознакомившись с вышеизложенным, мой редактор В. Г. Редько сделал замечание относительно того, что вряд ли целесообразно, рассматривая мениппею в качестве мета-рода литературы, считать эпос, лирику и драму ее частными случаями. По его мнению, исходя из функциональности рассказчика в художественном произведении, мениппея выглядит, скорее, как четвертый род литературы – более высокого уровня, чем три других. Не скрою, что, хотя я сам придерживался когда-то такого мнения, на более позднем этапе разработки теории мениппеи это замечание уже представилось несколько схоластическим. Вместе с тем, дополнительная проработка этого вопроса показала, что ракурс, с которого В. Г. Редько рассматривает данную проблему, предоставляет возможность более четко уяснить феномен мениппеи за счет привлечения элементов диалектического анализа. При этом необходимо учитывать один важный момент: мениппея ни в коем случае не является механической суммой эпоса, лирики и драмы. Если рассматривать ее с точки зрения семиотики, как информационную систему, она представляет собой качественный скачок, поскольку ее информационная емкость намного превышает сумму составляющих ее элементов эпоса, лирики и драмы, в чем можно будет убедиться хотя бы на колоссальном расширении информационного объема образа Онегина. Но такое может иметь место только в том случае, если суммирование производится не арифметически, а диалектически – ведь явно происходит переход количества в качество. И вот в таком качестве – как продукт диалектического взаимодействия – этот феномен более легко объясним именно при предложенном В. Г. Редько подходе, поскольку феномен перехода количества в качество может проявиться только при синтезе, а не при разложении на составные части. К тому же, если говорить о явлении «более высокого уровня», то следует признать, что мениппея не может оставаться в прежнем семантическом ряду.
Но всякий продукт диалектического взаимодействия воспринимается нами как образ. Что ж – согласен рассматривать само понятие мениппеи как обобщенный, синтетический образ всех трех родов литературы, а это значит – литературы вообще. Не значит ли это, что в результате мы пришли к точке зрения, в соответствии с которой эпос, лирика и драма являются частными случаями мениппеи? Не совсем. Потому что содержание самого вопроса обрело новое качество – диалектическое.
Однако с другой стороны, поскольку мениппея представляет собой качественный, диалектический скачок по отношению к трем родам литературы, она явно не может быть помещена в один семантический ряд с эпосом, лирикой и драмой. То есть, ее нельзя рассматривать как четвертый род литературы, а только как мета-род, высшую надструктуру, как образ-характеристику литературы в целом, а этими качествами ни один из трех родов не обладает.
Какая же точка зрения оказалась верной? В том, первоначально сформулированном виде – никакая. Потому что само противопоставление суммы каких-то составляющих этим составляющим в рамках формальной логики просто бессмысленно, оно действительно является схоластичным. Однако, с учетом диалектики процесса, оба эти подхода, отражая в совокупности дуализм явления, углубляют наше видение сути явления.
Дуализм приобретает особо зримый характер при рассмотрении закономерного вопроса: является ли лирика составной частью мениппеи, или, наоборот, мениппею следует рассматривать как некую разновидность лирики, где герой-повествователь тоже нередко включает от своего имени эпические вставки. Это то, что Л. И. Тимофеев назвал в своей «Теории литературы» «лиро-эпическим жанром». Действительно, нетрудно заподозрить, что если лирический герой какого-либо произведения ведет повествование о чем-то выходящем за пределы его собственных ощущений (скажем, повествует о том, как утомленное солнце нежно с морем прощалось, как в этот час любимая призналась, что нет любви), то в таком произведении, кроме лирической, образуется и вторая фабула: эпическая (фабула сказа) – естественно, окрашенная эмоциями рассказчика. Если исходить из этих сугубо формальных признаков, то может сложиться впечатление, что принципиальной разницы между мениппеей и таким лирическим произведением нет. Однако, если рассмотреть вопрос с точки зрения семиотики, то окажется, что наличие двух фабул в таком лирическом произведении не вызывает появления метасюжета с качественно новым содержанием, емкость такой системы отличается от «чистой» лирики (без образования фабулы сказа) не в такой степени, чтобы можно было усмотреть в этом наличие диалектического процесса на уровне двух фабул-знаков. Это можно объяснить тем, что интенция и психологический настрой лирического героя практически совпадает с интенцией автора; при этом та разница в позиции автора и рассказчика, которая играет в мениппее композиционную роль, в данном случае отсутствует. В определенной степени эпические вставки в произведениях такого типа можно рассматривать как одно из композиционных средств образования сюжета основной (лирической) фабулы.
Можно подойти к этому вопросу и с другой стороны, рассмотрев предельный случай – драму, где внешний рассказчик отсутствует, и для лирики, казалось бы, нет места вообще. Но, тем не менее, лирики в драме – сколько угодно, фактически это – все реплики персонажей с их эмоциональным исполнением; в том числе и те, в которых эти персонажи повествуют о чем-то с чисто эпических позиций. И, если следовать логике Тимофеева, то к «лиро-эпическому жанру» следовало бы отнести любое драматическое произведение, что, конечно же, было бы абсурдом.
И снова-таки, если и дальше следовать этой логике, то не следует ли отнести к «эпико-лирическому» или «эпико-лиро-драматическому» жанру подавляющее большинство эпических произведений, таких как, скажем, «Война и мир»? Ведь диалоги – не что иное, как элементы той же драмы, а в прямой речи персонажей лирику обнаружить нетрудно…
Из этих гипотетических примеров, в которых «смешались в кучу кони, люди», нетрудно видеть ущербность подхода известного теоретика, труд которого, рекомендованный для филологических факультетов, выдержал четыре издания. Однако сам этот теоретик, вначале обозначив в своей классификации эпос и лирику как роды литературы, во всех последующих построениях относит эти понятия к жанрам; свое понимание «лирики» он иллюстрирует в отдельной главе, где в качестве единственного примера этого «жанра» фигурирует «Анчар» Пушкина, который, конечно же, к лирике отнести никак невозможно – считай мы ее то ли «родом», то ли даже «жанром».
Можно видеть, что классификация и этих литературоведческих понятий нуждается в уточнении. Чтобы внести ясность (в пределах, необходимых для данного исследования), поясняю. В мениппее сосуществуют лирическая и эпическая фабулы, каждая из которых практически охватывает весь корпус произведения; то есть, на формирование этих фабул работает весь материальный текст, чего нет в лирике – скажем, где «море нежно прощалось…» Иными словами, в том, что обозначено Л. И. Тимофеевым как «лиро-эпический жанр», эпические вставки в лирическом произведении не охватывают всего корпуса произведения, они образуются только на части материального текста.
Эти же замечания в равной степени относятся и к драме – сколько бы лирики и эпики ни содержалось в репликах персонажей, следует учитывать, что любая реплика, пусть даже в виде пространного монолога, – далеко не весь текст произведения. Точно так же как в эпическом произведении – «драматургическая» прямая речь персонажей, в которой тоже могут содержаться и лирические, и эпические вкрапления.
Следует отметить, что без таких взаимных «вкраплений» невозможны ни «чистая» лирика», ни «чистый» эпос, ни «чистая» драма (если они действительно художественны). В таком «чистом» виде «рамка художественной условности» оказывается слишком утрированной, и такие произведения психологически не воспринимаются как объективная реальность, читатель лишается возможности видеть события изнутри сюжета, ощущать себя их участником. Этот феномен легко объяснить, оттолкнувшись от природы человеческого общения, в котором нет четкого разделения на «эпос», «лирику» и «драму». Действительно, что представляет собой самое первое и самое естественное «завершенное высказывание» (по Бахтину) – крик новорожденного? У которого нулевой интеллект, а в наличии только лишь одни инстинкты да рефлекторные реакции? Если кто-то усомнится в исключительной значимости такого «высказывания бытового жанра», то за консультацией лучше всего обратиться к матери этого новорожденного, для которой это «высказывание» на данном этапе развития ребенка представляет собой едва ли не главное содержание жизни.
Действительно, что означает этот крик, на который мать всегда реагирует очень оперативно? Ясно же, что либо проголодался, либо мокрый – вот пока весь скудный набор ощущений этого маленького человека, и крик его является недвусмысленным (хотя и неосознанным – тем лучше для данного примера!) сигналом об этом. С точки зрения теории Бахтина, это – типичное завершенное высказывание, которое можно отнести если не к роду, то по крайней мере к жанру (так делал сам Бахтин). Жанр уже ясен – бытовой. А, с точки зрения рода, к чему его отнести? К эпосу? – безусловно: ведь человек своими скудными пока речевыми средствами повествует внешнему миру о сложившейся ситуации. А, может, все-таки к лирике? – несомненно, поскольку этот человек выражает свое личное отношение к среде пребывания, к внешнему миру. А теперь еще раз вспомним бахтинский тезис о том, что всякое завершенное высказывание всегда кому-то адресовано и «предполагает» ответную реакцию; выходит, что крик ребенка – это не что иное, как часть диалога с матерью, требование к ней принять «соответствующие меры»; то есть, элемент драматического текста, причем в самом чистом виде.
Я взял самый крайний случай бытового общения (если кто-то возразит против такого определения, то мне просто жаль этого беднягу, не познавшего счастья нянчить детей); сколько бы мы ни рассуждали глубокомысленно о «лиро-эпическом жанре», все же вынуждены будем признать, что этот неосознанный крик ребенка содержит в себе признаки эпоса, лирики и драмы. И по мере развития этого человека, когда он станет обретать то, что мы называем интеллектом, его речь и все мышление будет вестись в тех же категориях эпоса, лирики и драмы, с которых он начал свою жизнь и которые потом будет интуитивно ожидать в художественном произведении; он будет восхищаться этим произведением, только если состав его элементов будет соответствовать его психологическому ожиданию.
Хочу сказать этим, что эпос, лирика и драма – вовсе не изобретение какого-то литератора или литературоведа; это то, с ощущением чего мы рождаемся, что встроила в нас природа: категории, которыми мы мыслим, и с позиций которых оцениваем все окружающее. В том числе и произведения художественной литературы. Иными словами, не существуй художественной литературы и даже письменности, эпос, лирика и драма как объективные категории существовали бы все равно; это – те дискретные психологические каналы, через которые мы воспринимаем и оцениваем мир. При всей неразработанности теории литературы, ее несомненным и выдающимся достижением является выявление и классификация (пусть даже нуждающаяся в уточнении) фундаментального психологического феномена, хотя о таком развороте темы родов и жанров литературы филологи, похоже, даже не подозревали. Более того, они боролись и продолжают бороться с «психологизмом» в филологии, даже не догадываясь, что своими изысканиями внесли значительный вклад в понимание психологической природы человеческого познания. Хочется надеяться, что психология как наука воздаст им за это сторицей – по крайней мере, мои читатели не откажут мне в том, что в данной работе делается все возможное в этом направлении.
Что ж, это еще раз подтверждает тезис о единстве процесса познания – одни и те же явления мы можем описывать с позиций математики, или психологии, или даже литературоведения, а то и вовсе переложить на музыкальные гаммы; будем до хрипоты в горле противопоставлять «лириков» «физикам», не догадываясь даже, что ходим где-то совсем рядом и говорим в общем-то об одном и том же, только на разных языках и заткнув уши.
Но не следует ли из этого, что первое человеческое «уа!», структура которого (!) воплощает в себе признаки всех трех родов литературы, является мениппеей, объединяющей в себе эти же признаки? Ведь если посмотреть повнимательнее, то окажется, что, в отличие от «лиро-эпических» примеров Тимофеева, где эпос проявляется в виде вставок, охватываемых лишь частью текста, лирический, эпический и драматический элементы младенческого «уа» распространяются на весь «текст» этого завершенного высказывания – то же явление, которое было отмечено выше в отношении мениппеи.
Нет, не следует. Этот предельный и, казалось бы, вовсе не подходящий к «высоким материям» пример обладает тем несомненным преимуществом, что он позволяет очистить формулировку главного, единственного и исчерпывающего признака мениппеи от всего второстепенного, оставив то единственное, что придает мениппее свойства мета-рода литературы, и что порождает такие экзотические явления, как многофабульность и многосюжетность.
Так что же все-таки считать тем основным и единственным признаком, принципиально отличающим мениппею от других завершенных высказываний, в том числе и от лирики? Очевидно, что это – отличие интенции рассказчика от интенции титульного автора, создающее композиционный элемент, необходимый для введения во взаимодействие нескольких сюжетов-знаков. Для подавляющего большинства мениппей (и для романа «Евгений Онегин» в том числе) это видно невооруженным глазом. Но в классической мениппее «Мастер и Маргарита» сатирические позиции рассказчика-персонажа и Булгакова максимально сближены, что четко проявляется в мета-сюжете. Казалось бы, этот случай противоречит изложенной формулировке. Однако все дело в том, что мениппеей в данном случае является не только роман Булгакова, но и повествование рассказчика – Фагота-Коровьева; он ввел в свой сказ собственного сатирического рассказчика, интенция которого и направлена против интенции «соавторов» – Булгакова и Коровьева. Обе эти мениппеи созданы на общем материальном тексте, однако структура романа Булгакова на ступень сложнее структуры мениппеи Фагота[19 - С точки зрения возможной двуслойности структуры («вставная мениппея в мениппее») следует отметить, что такова структура и цикла «В середине века» В. Луговского. Аналогичное, только еще более сложное явление имеет место в цикле «Повести Белкина», который, являясь в целом «двойной мениппеей» с двумя последовательными рассказчиками, содержит в себе мениппею третьего порядка (это – один из скрытых сюжетов «Гробовщика», вместивший в себя не только контексты данного цикла, но и многие контексты пушкинского творчества в целом). Однако не исключено, что не Пушкин был зачинателем традиции создания таких сложных структур: за двести тридцать лет до «Повестей Белкина» У. Шекспир уже создал сложнейшую по структуре мениппею «Гамлет», в которой на общем материальном тексте создано по крайней мере две последовательные драмы, одна из которых принадлежит перу самого Шекспира; вторая, внутренняя (драма о принце датском, сказ) – «перу» рассказчика, главного героя романа Шекспира («Мышеловка» – подавляющая часть текста того, что воспринимается как «драма» Шекспира).].
Другой определяющий признак мениппеи – сокрытие рассказчиком своей личности и своего «авторства» сказа – имеет место в значительном количестве случаев мениппей «крупной формы», но в «Черном принце» Айрис Мэрдок ни личность героя-рассказчика, ни тот факт, что практически весь материальный текст произведения «создан» им, не шифруется перед читателем ни автором романа, ни самим рассказчиком Брэдли Пирсоном. И тем не менее, этому рассказчику удалось создать такую менипеею, при чтении которой в сознании читателя не просто образуется ложный сюжет, но искажается даже содержание фабулы[20 - Это можно было бы считать беспрецедентным фактом, не будь «Гамлета» и «Короля Лира», где рассказчикам удалось исказить в сознании читателя сюжет сказа именно благодаря внушению превратного восприятия элементов фабулы – вплоть до искажения биографических данных персонажей. Кстати, интересный нюанс: лейтмотивом сказа Брэдли Пирсона в романе Мэрдок проходит «эдипов комплекс» Гамлета, да и сам рассказчик явно отождествляет себя с этим шекспировским героем. С учетом психологических доминант Брэдли Пирсона, в которых оказалось поразительно много общего с позицией рассказчика «Гамлета», возникает вопрос: уж не включила ли писательница в метасюжет своей мениппеи сигнал о том, что содержание этой драмы Шекспира ею разгадано? В таком случае она шла по стопам Пушкина, который не только разгадал эту структуру, но и по крайней мере дважды повторил ее – в «Борисе Годунове» и «Повестях Белкина».].
Таким образом, признак «зашифрованности» рассказчика не охватывает всех случаев мениппей. Поэтому единственным и исчерпывающим признаком мениппеи является наличие скрытой интенции рассказчика-персонажа, не совпадающей с интенцией автора и направленной на создание ложного представления о сюжете сказа. Напомню, что эту задачу рассказчик решает чисто композиционными средствами, создавая предпосылки для образования в сознании читателя ложных сюжетов.
Такая позиция рассказчика неизбежно вызывает скачкообразное усложнение структуры произведения за счет появления эффекта множественности фабул и сюжетов, образующихся на едином текстовом материале, а также «надструктуры» в виде метасюжета.
Является «Граф Нулин» лирическим произведением или мениппеей? Безусловно, мениппеей, поскольку скрытая интенция лирического героя направлена на создание ложного представления о характере произведения, а при выявлении ее читателем оказывается, что она носит сатирическую направленность, придавая завершающей строфе (а вместе с ней и всему произведению) смысл, прямо противоположный декларируемому.
Можно ли рассматривать «Домик в Коломне» как чисто лирическое произведение, не имеющее метасюжета? Да, можно. Но только если отождествить рассказчика с личностью самого Пушкина. Что обычно и делается, причем за счет здравого смысла – в одной работе даже содержится попытка всерьез объяснить вступительную декларацию «Четырехстопный ямб мне надоел» как отражающую настроения Пушкина на определенном этапе творческой деятельности. Но если принять все-таки во внимание, что после «Домика» четырехстопным ямбом были созданы «Езерский» и «Медный всадник», не говоря уже о целом ряде других произведений, то сразу становится понятным, что отказавшийся от четырехстопного ямба лирический герой «Домика в Коломне» ни в коей мере не отражает настроений самого Пушкина. То есть, там следует выявлять психологические характеристики рассказчика, а с их учетом – и сатирический элемент мениппеи. Забегая вперед скажу, что основная сатира там заключена вовсе не в характеристике изобретательной в обмане Параши. Там все гораздо серьезней. И интересней. Но для вскрытия истинной сатирической направленности «Домика» необходимо сначала внести ясность в содержание «Евгения Онегина».