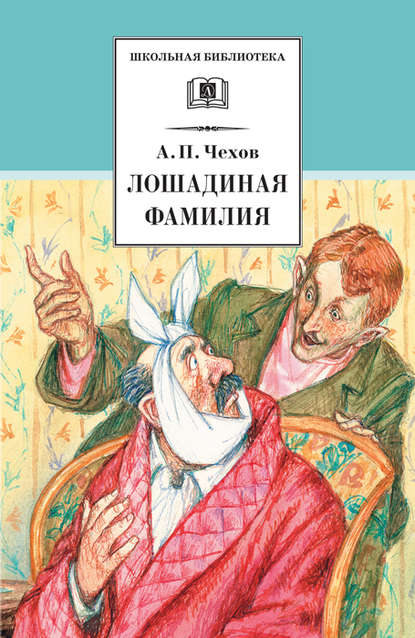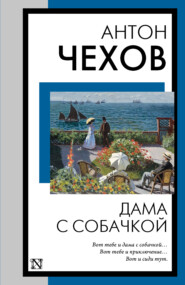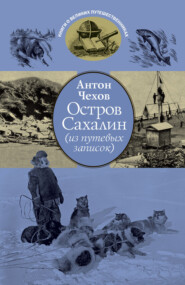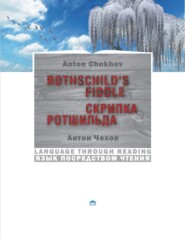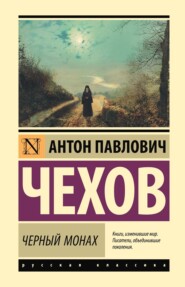По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Лошадиная фамилия. Рассказы и водевили
Автор
Год написания книги
1885
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Верно, ваше благородие…
– Я и сам знаю. У генерала собаки дорогие, породистые, а эта – черт знает что! Ни шерсти, ни вида… подлость одна только… И этакую собаку держать?! Где же у вас ум? Попадись этакая собака в Петербурге или Москве, то знаете, что было бы? Там не посмотрели бы в закон, а моментально – не дыши! Ты, Хрюкин, пострадал и дела этого так не оставляй… Нужно проучить! Пора…
– А может быть, и генеральская… – думает вслух городовой. – На морде у ней не написано… Намедни во дворе у него такую видел.
– Вестимо, генеральская! – говорит голос из толпы.
– Гм!.. Надень-ка, брат Елдырин, на меня пальто… Что-то ветром подуло… Знобит… Ты отведешь ее к генералу и спросишь там. Скажешь, что я нашел и прислал… И скажи, чтобы ее не выпускали на улицу… Она, может быть, дорогая, а ежели каждый свинья будет ей в нос сигаркой тыкать, то долго ли испортить. Собака – нежная тварь… А ты, болван, опусти руку! Нечего свой дурацкий палец выставлять! Сам виноват!..
– Повар генеральский идет, его спросим… Эй, Прохор! Поди-ка, милый, сюда! Погляди на собаку… Ваша?
– Выдумал! Этаких у нас отродясь не бывало!
– И спрашивать тут долго нечего, – говорит Очумелов. – Она бродячая! Нечего тут долго разговаривать… Ежели сказал, что бродячая, стало быть, и бродячая… Истребить, вот и все.
– Это не наша, – продолжает Прохор. – Это генералова брата, что намеднись приехал. Наш не охотник до борзых. Брат ихний охоч…
– Да разве братец ихний приехали? Владимир Иваныч? – спрашивает Очумелов, и все лицо его заливается улыбкой умиления. – Ишь ты, Господи! А я и не знал! Погостить приехали?
– В гости…
– Ишь ты, Господи… Соскучились по братце… А я ведь и не знал! Так это ихняя собачка? Очень рад… Возьми ее… Собачонка ничего себе… Шустрая такая… Цап этого за палец! Ха-ха-ха… Ну, чего дрожишь? Ррр… Рр… Сердится, шельма… цуцик этакий…
Прохор зовет собаку и идет с ней от дровяного склада… Толпа хохочет над Хрюкиным.
– Я еще доберусь до тебя! – грозит ему Очумелов и, запахиваясь в шинель, продолжает свой путь по базарной площади.
Унтер Пришибеев
– Унтер-офицер Пришибеев! Вы обвиняетесь в том, что третьего сего сентября оскорбили словами и действием урядника Жигина, волостного старшину Аляпова, сотского Ефимова, понятых Иванова и Гаврилова и еще шестерых крестьян, причем первым трем было нанесено вами оскорбление при исполнении ими служебных обязанностей. Признаете вы себя виновным?
Пришибеев, сморщенный унтер с колючим лицом, делает руки по швам и отвечает хриплым, придушенным голосом, отчеканивая каждое слово, точно командуя:
– Ваше высокородие, господин мировой судья! Стало быть, по всем статьям закона выходит причина аттестовать всякое обстоятельство во взаимности. Виновен не я, а все прочие. Все это дело вышло из-за, царствие ему небесное, мертвого трупа. Иду это я третьего числа с женой Анфисой тихо, благородно, смотрю: стоит на берегу куча разного народа людей. По какому полному праву тут народ собрался? – спрашиваю. Зачем? Нешто в законе сказано, чтоб народ табуном ходил? Кричу: разойдись! Стал расталкивать народ, чтоб расходились по домам, приказал сотскому гнать взашей…
– Позвольте, вы ведь не урядник, не староста, – разве это ваше дело – народ разгонять?
– Не его! Не его! – слышатся голоса из разных углов камеры. – Житья от него нету, вашескородие! Пятнадцать лет от него терпим! Как пришел со службы, так с той поры хоть из села беги. Замучил всех!
– Именно так, вашескородие! – говорит свидетель-староста. – Всем миром жалимся. Жить с ним никак невозможно! С образами ли ходим, свадьба ли, или, положим, случай какой, везде он кричит, шумит, всё порядки вводит. Ребятам уши дерет, за бабами подглядывает, чтоб чего не вышло, словно свекор какой… Намеднись по избам ходил, приказывал, чтоб песней не пели и чтоб огней не жгли. Закона, говорит, такого нет, чтоб песни петь.
– Погодите, вы еще успеете дать показание, – говорит мировой, – а теперь пусть Пришибеев продолжает. Продолжайте, Пришибеев!
– Слушаю-с! – хрипит унтер. – Вы, ваше высокородие, изволите говорить, не мое это дело – народ разгонять… Хорошо-с… А ежели беспорядки? Нешто можно дозволять, чтобы народ безобразил? Где это в законе написано, чтоб народу волю давать? Я не могу дозволять-с. Ежели я не стану их разгонять да взыскивать, то кто же станет? Никто порядков настоящих не знает, во всем селе только я один, можно сказать, ваше высокородие, знаю, как обходиться с людями простого звания, и, ваше высокородие, я могу все понимать. Я не мужик, я унтер-офицер, отставной каптенармус[5 - Каптена?рмус – должностное лицо в армии, ведавшее хранением и выдачей снаряжения и продовольствия.], в Варшаве служил, в штабе-с, а после того, изволите знать, как вчистую вышел, был в пожарных-с, а после того по слабости болезни ушел из пожарных и два года в мужской классической прогимназии в швейцарах служил… Все порядки знаю-с. А мужик – простой человек, он ничего не понимает и должен меня слушать, потому – для его же пользы. Взять хоть это дело, к примеру… Разгоняю я народ, а на берегу, на песочке, утоплый труп мертвого человека. По какому такому основанию, спрашиваю, он тут лежит? Нешто это порядок? Что урядник глядит? Отчего ты, говорю, урядник, начальству знать не даешь? Может, этот утоплый покойник сам утоп, а может, тут дело Сибирью пахнет. Может, тут уголовное смертоубийство… А урядник Жигин никакого внимания, только папироску курит. «Что это, говорит, у вас за указчик такой? Откуда, говорит, он у вас такой взялся? Нешто мы без него, говорит, не знаем нашего поведения?» Стало быть, говорю, ты не знаешь, дурак этакой, коли тут стоишь и без внимания. «Я, говорит, еще вчера дал знать становому приставу». Зачем же, спрашиваю, становому приставу? По какой статье свода законов? Нешто в таких делах, когда утопшие или удавившие и прочее тому подобное, – нешто в таких делах становой может? Тут, говорю, дело уголовное, гражданское… Тут, говорю, скорей посылать эстафет господину следователю и судьям-с. И перво-наперво ты должен, говорю, составить акт и послать господину мировому судье. А он, урядник, все слушает и смеется. И мужики тоже. Все смеялись, ваше высокородие. Под присягой могу показать. И этот смеялся, и вот этот, и Жигин смеялся. Что, говорю, зубья скалите? А урядник и говорит: «Мировому, говорит, судье такие дела неподсудны». От этих самых слов меня даже в жар бросило. Урядник, ведь ты это сказывал? – обращается унтер к уряднику Жигину.
– Сказывал.
– Все слыхали, как ты это самое при всем простом народе: «Мировому судье такие дела неподсудны». Все слыхали, как ты это самое… Меня, ваше высокородие, в жар бросило, я даже сробел весь. Повтори, говорю, повтори, такой-сякой, что ты сказал! Он опять эти самые слова… Я к нему. Как же, говорю, ты можешь так объяснять про господина мирового судью? Ты, полицейский урядник, да против власти? А? Да ты, говорю, знаешь, что господин мировой судья, ежели пожелают, могут тебя за такие слова в губернское жандармское управление по причине твоего неблагонадежного поведения? Да ты знаешь, говорю, куда за такие политические слова тебя угнать может господин мировой судья? А старшина говорит: «Мировой, говорит, дальше своих пределов ничего обозначить не может. Только малые дела ему подсудны». Так и сказал, все слышали… Как же, говорю, ты смеешь власть уничижать? Ну, говорю, со мной не шути шуток, а то дело, брат, плохо. Бывало, в Варшаве или когда в швейцарах был в мужской классической прогимназии, то как заслышу какие неподходящие слова, то гляжу на улицу, не видать ли жандарма. «Поди, говорю, сюда, кавалер», – и все ему докладываю. А тут, в деревне, кому скажешь?.. Взяло меня зло. Обидно стало, что нынешний народ забылся в своеволии и неповиновении, я размахнулся и… конечно, не то чтобы сильно, а так, правильно, полегоньку, чтоб не смел про ваше высокородие такие слова говорить… За старшину урядник вступился. Я, стало быть, и урядника… И пошло… Погорячился, ваше высокородие, ну да ведь без того нельзя, чтоб не побить. Ежели глупого человека не побьешь, то на твоей же душе грех. Особливо ежели за дело… ежели беспорядок…
– Позвольте! За непорядками есть кому глядеть. На это есть урядник, староста, сотский…
– Уряднику за всем не углядеть, да урядник и не понимает того, что я понимаю…
– Но поймите, что это не ваше дело!
– Чего-с? Как же это не мое? Чудно-с… Люди безобразят – и не мое дело! Что ж мне, хвалить их, что ли? Они вот жалятся вам, что я песни петь запрещаю… Да что хорошего в песнях-то? Вместо того чтоб делом каким заниматься, они песни… А еще тоже моду взяли вечера с огнем сидеть. Нужно спать ложиться, а у них разговоры да смехи. У меня записано-с!
– Что у вас записано?
– Кто с огнем сидит.
Пришибеев вынимает из кармана засаленную бумажку, надевает очки и читает:
– Которые крестьяне сидят с огнем: Иван Прохоров, Савва Микифоров, Петр Петров. Солдатка Шустрова, вдова, живет в развратном беззаконии с Семеном Кисловым. Игнат Сверчок занимается волшебством, и жена его Мавра есть ведьма, по ночам ходит доить чужих коров.
– Довольно! – говорит судья и начинает допрашивать свидетелей.
Унтер Пришибеев поднимает очки на лоб и с удивлением глядит на мирового, который, очевидно, не на его стороне. Его выпученные глаза блестят, нос становится ярко-красным. Глядит он на мирового, на свидетелей и никак не может понять, отчего это мировой так взволнован и отчего из всех углов камеры слышится то ропот, то сдержанный смех. Непонятен ему и приговор: на месяц под арест!
– За что?! – говорит он, разводя в недоумении руками. – По какому закону?
И для него ясно, что мир изменился и что жить на свете уже никак невозможно. Мрачные, унылые мысли овладевают им. Но, выйдя из камеры и увидев мужиков, которые толпятся и говорят о чем-то, он по привычке, с которой уже совладать не может, вытягивает руки по швам и кричит хриплым, сердитым голосом:
– Нар-род, расходись! Не толпись! По домам!
Восклицательный знак
(Святочный рассказ)
В ночь под Рождество Ефим Фомич Перекладин, коллежский секретарь, лег спать обиженный и даже оскорбленный.
– Отвяжись ты, нечистая сила! – рявкнул он со злобой на жену, когда та спросила, отчего он такой хмурый.
Дело в том, что он только что вернулся из гостей, где сказано было много неприятных и обидных для него вещей. Сначала заговорили о пользе образования вообще, потом же незаметно перешли к образовательному цензу служащей братии, причем было высказано много сожалений, упреков и даже насмешек по поводу низкого уровня. И тут, как это водится во всех российских компаниях, с общих материй перешли к личностям.
– Взять, например, хоть вас, Ефим Фомич, – обратился к Перекладину один юноша. – Вы занимаете приличное место… а какое образование вы получили?
– Никакого-с. Да у нас образование и не требуется, – кротко ответил Перекладин. – Пиши правильно, вот и все…
– Где же это вы правильно писать-то научились?
– Привык-с… За сорок лет службы можно руку набить-с… Оно конечно, спервоначалу трудно было, делывал ошибки, но потом привык-с… и ничего…
– А знаки препинания?
– И знаки препинания ничего… Правильно ставлю.
– Гм!.. – сконфузился юноша. – Но привычка совсем не то, что образование. Мало того, что вы знаки препинания правильно ставите… мало-с! Нужно сознательно ставить! Вы ставите запятую и должны сознавать, для чего ее ставите… да-с! А это ваше бессознательное… рефлекторное правописание и гроша не стоит. Это машинное производство, и больше ничего.
– Я и сам знаю. У генерала собаки дорогие, породистые, а эта – черт знает что! Ни шерсти, ни вида… подлость одна только… И этакую собаку держать?! Где же у вас ум? Попадись этакая собака в Петербурге или Москве, то знаете, что было бы? Там не посмотрели бы в закон, а моментально – не дыши! Ты, Хрюкин, пострадал и дела этого так не оставляй… Нужно проучить! Пора…
– А может быть, и генеральская… – думает вслух городовой. – На морде у ней не написано… Намедни во дворе у него такую видел.
– Вестимо, генеральская! – говорит голос из толпы.
– Гм!.. Надень-ка, брат Елдырин, на меня пальто… Что-то ветром подуло… Знобит… Ты отведешь ее к генералу и спросишь там. Скажешь, что я нашел и прислал… И скажи, чтобы ее не выпускали на улицу… Она, может быть, дорогая, а ежели каждый свинья будет ей в нос сигаркой тыкать, то долго ли испортить. Собака – нежная тварь… А ты, болван, опусти руку! Нечего свой дурацкий палец выставлять! Сам виноват!..
– Повар генеральский идет, его спросим… Эй, Прохор! Поди-ка, милый, сюда! Погляди на собаку… Ваша?
– Выдумал! Этаких у нас отродясь не бывало!
– И спрашивать тут долго нечего, – говорит Очумелов. – Она бродячая! Нечего тут долго разговаривать… Ежели сказал, что бродячая, стало быть, и бродячая… Истребить, вот и все.
– Это не наша, – продолжает Прохор. – Это генералова брата, что намеднись приехал. Наш не охотник до борзых. Брат ихний охоч…
– Да разве братец ихний приехали? Владимир Иваныч? – спрашивает Очумелов, и все лицо его заливается улыбкой умиления. – Ишь ты, Господи! А я и не знал! Погостить приехали?
– В гости…
– Ишь ты, Господи… Соскучились по братце… А я ведь и не знал! Так это ихняя собачка? Очень рад… Возьми ее… Собачонка ничего себе… Шустрая такая… Цап этого за палец! Ха-ха-ха… Ну, чего дрожишь? Ррр… Рр… Сердится, шельма… цуцик этакий…
Прохор зовет собаку и идет с ней от дровяного склада… Толпа хохочет над Хрюкиным.
– Я еще доберусь до тебя! – грозит ему Очумелов и, запахиваясь в шинель, продолжает свой путь по базарной площади.
Унтер Пришибеев
– Унтер-офицер Пришибеев! Вы обвиняетесь в том, что третьего сего сентября оскорбили словами и действием урядника Жигина, волостного старшину Аляпова, сотского Ефимова, понятых Иванова и Гаврилова и еще шестерых крестьян, причем первым трем было нанесено вами оскорбление при исполнении ими служебных обязанностей. Признаете вы себя виновным?
Пришибеев, сморщенный унтер с колючим лицом, делает руки по швам и отвечает хриплым, придушенным голосом, отчеканивая каждое слово, точно командуя:
– Ваше высокородие, господин мировой судья! Стало быть, по всем статьям закона выходит причина аттестовать всякое обстоятельство во взаимности. Виновен не я, а все прочие. Все это дело вышло из-за, царствие ему небесное, мертвого трупа. Иду это я третьего числа с женой Анфисой тихо, благородно, смотрю: стоит на берегу куча разного народа людей. По какому полному праву тут народ собрался? – спрашиваю. Зачем? Нешто в законе сказано, чтоб народ табуном ходил? Кричу: разойдись! Стал расталкивать народ, чтоб расходились по домам, приказал сотскому гнать взашей…
– Позвольте, вы ведь не урядник, не староста, – разве это ваше дело – народ разгонять?
– Не его! Не его! – слышатся голоса из разных углов камеры. – Житья от него нету, вашескородие! Пятнадцать лет от него терпим! Как пришел со службы, так с той поры хоть из села беги. Замучил всех!
– Именно так, вашескородие! – говорит свидетель-староста. – Всем миром жалимся. Жить с ним никак невозможно! С образами ли ходим, свадьба ли, или, положим, случай какой, везде он кричит, шумит, всё порядки вводит. Ребятам уши дерет, за бабами подглядывает, чтоб чего не вышло, словно свекор какой… Намеднись по избам ходил, приказывал, чтоб песней не пели и чтоб огней не жгли. Закона, говорит, такого нет, чтоб песни петь.
– Погодите, вы еще успеете дать показание, – говорит мировой, – а теперь пусть Пришибеев продолжает. Продолжайте, Пришибеев!
– Слушаю-с! – хрипит унтер. – Вы, ваше высокородие, изволите говорить, не мое это дело – народ разгонять… Хорошо-с… А ежели беспорядки? Нешто можно дозволять, чтобы народ безобразил? Где это в законе написано, чтоб народу волю давать? Я не могу дозволять-с. Ежели я не стану их разгонять да взыскивать, то кто же станет? Никто порядков настоящих не знает, во всем селе только я один, можно сказать, ваше высокородие, знаю, как обходиться с людями простого звания, и, ваше высокородие, я могу все понимать. Я не мужик, я унтер-офицер, отставной каптенармус[5 - Каптена?рмус – должностное лицо в армии, ведавшее хранением и выдачей снаряжения и продовольствия.], в Варшаве служил, в штабе-с, а после того, изволите знать, как вчистую вышел, был в пожарных-с, а после того по слабости болезни ушел из пожарных и два года в мужской классической прогимназии в швейцарах служил… Все порядки знаю-с. А мужик – простой человек, он ничего не понимает и должен меня слушать, потому – для его же пользы. Взять хоть это дело, к примеру… Разгоняю я народ, а на берегу, на песочке, утоплый труп мертвого человека. По какому такому основанию, спрашиваю, он тут лежит? Нешто это порядок? Что урядник глядит? Отчего ты, говорю, урядник, начальству знать не даешь? Может, этот утоплый покойник сам утоп, а может, тут дело Сибирью пахнет. Может, тут уголовное смертоубийство… А урядник Жигин никакого внимания, только папироску курит. «Что это, говорит, у вас за указчик такой? Откуда, говорит, он у вас такой взялся? Нешто мы без него, говорит, не знаем нашего поведения?» Стало быть, говорю, ты не знаешь, дурак этакой, коли тут стоишь и без внимания. «Я, говорит, еще вчера дал знать становому приставу». Зачем же, спрашиваю, становому приставу? По какой статье свода законов? Нешто в таких делах, когда утопшие или удавившие и прочее тому подобное, – нешто в таких делах становой может? Тут, говорю, дело уголовное, гражданское… Тут, говорю, скорей посылать эстафет господину следователю и судьям-с. И перво-наперво ты должен, говорю, составить акт и послать господину мировому судье. А он, урядник, все слушает и смеется. И мужики тоже. Все смеялись, ваше высокородие. Под присягой могу показать. И этот смеялся, и вот этот, и Жигин смеялся. Что, говорю, зубья скалите? А урядник и говорит: «Мировому, говорит, судье такие дела неподсудны». От этих самых слов меня даже в жар бросило. Урядник, ведь ты это сказывал? – обращается унтер к уряднику Жигину.
– Сказывал.
– Все слыхали, как ты это самое при всем простом народе: «Мировому судье такие дела неподсудны». Все слыхали, как ты это самое… Меня, ваше высокородие, в жар бросило, я даже сробел весь. Повтори, говорю, повтори, такой-сякой, что ты сказал! Он опять эти самые слова… Я к нему. Как же, говорю, ты можешь так объяснять про господина мирового судью? Ты, полицейский урядник, да против власти? А? Да ты, говорю, знаешь, что господин мировой судья, ежели пожелают, могут тебя за такие слова в губернское жандармское управление по причине твоего неблагонадежного поведения? Да ты знаешь, говорю, куда за такие политические слова тебя угнать может господин мировой судья? А старшина говорит: «Мировой, говорит, дальше своих пределов ничего обозначить не может. Только малые дела ему подсудны». Так и сказал, все слышали… Как же, говорю, ты смеешь власть уничижать? Ну, говорю, со мной не шути шуток, а то дело, брат, плохо. Бывало, в Варшаве или когда в швейцарах был в мужской классической прогимназии, то как заслышу какие неподходящие слова, то гляжу на улицу, не видать ли жандарма. «Поди, говорю, сюда, кавалер», – и все ему докладываю. А тут, в деревне, кому скажешь?.. Взяло меня зло. Обидно стало, что нынешний народ забылся в своеволии и неповиновении, я размахнулся и… конечно, не то чтобы сильно, а так, правильно, полегоньку, чтоб не смел про ваше высокородие такие слова говорить… За старшину урядник вступился. Я, стало быть, и урядника… И пошло… Погорячился, ваше высокородие, ну да ведь без того нельзя, чтоб не побить. Ежели глупого человека не побьешь, то на твоей же душе грех. Особливо ежели за дело… ежели беспорядок…
– Позвольте! За непорядками есть кому глядеть. На это есть урядник, староста, сотский…
– Уряднику за всем не углядеть, да урядник и не понимает того, что я понимаю…
– Но поймите, что это не ваше дело!
– Чего-с? Как же это не мое? Чудно-с… Люди безобразят – и не мое дело! Что ж мне, хвалить их, что ли? Они вот жалятся вам, что я песни петь запрещаю… Да что хорошего в песнях-то? Вместо того чтоб делом каким заниматься, они песни… А еще тоже моду взяли вечера с огнем сидеть. Нужно спать ложиться, а у них разговоры да смехи. У меня записано-с!
– Что у вас записано?
– Кто с огнем сидит.
Пришибеев вынимает из кармана засаленную бумажку, надевает очки и читает:
– Которые крестьяне сидят с огнем: Иван Прохоров, Савва Микифоров, Петр Петров. Солдатка Шустрова, вдова, живет в развратном беззаконии с Семеном Кисловым. Игнат Сверчок занимается волшебством, и жена его Мавра есть ведьма, по ночам ходит доить чужих коров.
– Довольно! – говорит судья и начинает допрашивать свидетелей.
Унтер Пришибеев поднимает очки на лоб и с удивлением глядит на мирового, который, очевидно, не на его стороне. Его выпученные глаза блестят, нос становится ярко-красным. Глядит он на мирового, на свидетелей и никак не может понять, отчего это мировой так взволнован и отчего из всех углов камеры слышится то ропот, то сдержанный смех. Непонятен ему и приговор: на месяц под арест!
– За что?! – говорит он, разводя в недоумении руками. – По какому закону?
И для него ясно, что мир изменился и что жить на свете уже никак невозможно. Мрачные, унылые мысли овладевают им. Но, выйдя из камеры и увидев мужиков, которые толпятся и говорят о чем-то, он по привычке, с которой уже совладать не может, вытягивает руки по швам и кричит хриплым, сердитым голосом:
– Нар-род, расходись! Не толпись! По домам!
Восклицательный знак
(Святочный рассказ)
В ночь под Рождество Ефим Фомич Перекладин, коллежский секретарь, лег спать обиженный и даже оскорбленный.
– Отвяжись ты, нечистая сила! – рявкнул он со злобой на жену, когда та спросила, отчего он такой хмурый.
Дело в том, что он только что вернулся из гостей, где сказано было много неприятных и обидных для него вещей. Сначала заговорили о пользе образования вообще, потом же незаметно перешли к образовательному цензу служащей братии, причем было высказано много сожалений, упреков и даже насмешек по поводу низкого уровня. И тут, как это водится во всех российских компаниях, с общих материй перешли к личностям.
– Взять, например, хоть вас, Ефим Фомич, – обратился к Перекладину один юноша. – Вы занимаете приличное место… а какое образование вы получили?
– Никакого-с. Да у нас образование и не требуется, – кротко ответил Перекладин. – Пиши правильно, вот и все…
– Где же это вы правильно писать-то научились?
– Привык-с… За сорок лет службы можно руку набить-с… Оно конечно, спервоначалу трудно было, делывал ошибки, но потом привык-с… и ничего…
– А знаки препинания?
– И знаки препинания ничего… Правильно ставлю.
– Гм!.. – сконфузился юноша. – Но привычка совсем не то, что образование. Мало того, что вы знаки препинания правильно ставите… мало-с! Нужно сознательно ставить! Вы ставите запятую и должны сознавать, для чего ее ставите… да-с! А это ваше бессознательное… рефлекторное правописание и гроша не стоит. Это машинное производство, и больше ничего.