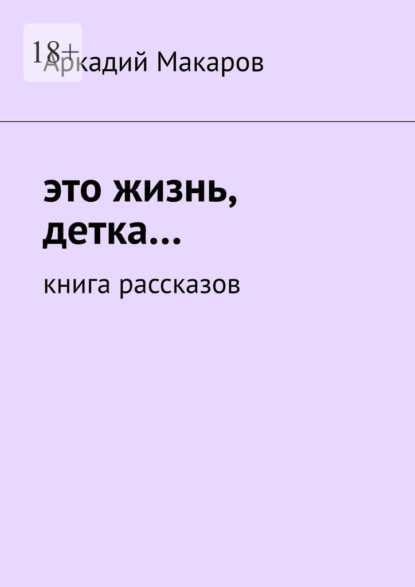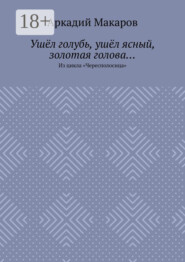По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Это жизнь, детка… Книга рассказов
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ах, мать твою ети! Жизнь по воздуху лети! – дядя Федя огрел лошадь еще раз, и она почему-то с галопа перешла на рысь, но крупную и размеренную.
Надо сказать, что наш сосед никогда не ругался матом, и в подходящих случаях: или говорил о каком-то «японском городовом» или о «елках-палках», но, теперь видимо почувствовав свободу и волю, решил осквернить свой язык, таким вот приближением к веселому русскому матерку. Было видно, что у него, то есть у моего соседа, нынче озорное настроение. Он, наверное, как и я был возбуждён простором и безлюдьем поля, длинной дорогой и предполагаемой встречей с городом, не знаю, но лицо его, нынче гладко выбритое, светилось какой-то затаенной радостью, предвкушением чего-то необычного. Глаза с озорной усмешкой посматривали на меня, и весь их вид говорил, что, мол, вот мы какие! Перезимовали и еще перезимуем! А сегодня наша воля!
Я тоже заразился этой бесшабашной радостью: нырнул несколько раз в сено, потом опрокинулся на лопатки с намерением посмотреть – куда это идет-плывет вон то белое облачко? А вдруг из него покажется бородатое лицо Бога? Вот ужас, что тогда будет!
Но мою голову начало колотить так, что я тут же, вмиг растерял все свои фантазии.
Лошадь с размашистой рыси перешла просто на короткий бег, быстро-быстро переступая ногами, и так она бежала без понуканий долго и ровно. Впереди высоким забором из частых штакетников вставая лес темный и таинственный. Лес вырос как-то сразу и неоткуда, И я с удивлением рассматривал его сказочную сущность, о которой читал до того только в книжках. Дорога песчаная и рыхлая, в которой со скрипом увязали колеса, заставила лошадь идти шагом. Мы въехали в звонкую и сумеречную прохладу леса. То ли это птицы, то ли сам воздух ликовал от избытка бытия, – клубилось зеленое и синее, желтое и голубое. Под каждым кустом, веткой и деревом ворочалась, скрипела, трещала и свистела жизнь во всех ее проявлениях. Дышалось легко и свободно.
Дядя Федя, глубоко вздохнув грудью, повертел кругом головой и выбросил недокуренную цигарку. Потом я это вспомнил, читая у Николая Клюева: «В чистый ладан дохнул папироской, и плевком незабудку ожег». Все мое тело омывала легкая прохлада, как будто я после пылкого зноя окунулся в хрустальную струйную воду.
Свернув с дороги и вихляя меж стволов, мы заехали далеко в глубь леса. Сам ли дядя Федя то хотел, или только меня потешить, зная, что я отродясь не видел леса, но заехали мы в такие дебри, из которых я не знал, как будем выбираться. Деревья обступили нас со всех сторон, с любопытством поглядывая на незваных гостей и тихо о чем-то перешептываясь на своем древесном, одним им понятном, языке. Они всё говорили и говорили, вероятно, осуждая нас за то, что мы помяли траву, а вон там задели телегой за куст черемухи и обломили несколько веток, с которых вяло, свисали бесчисленные кисточки маленьких черных ягод.
Дядя Федя распряг лошадь, которая, видимо еще не понимая в чем дело, оставалась стоять между двумя упавшими оглоблями. Тогда дядя Федя, по-свойски, для порядка, огрел нерасторопную кобылу концами вожжей, и она тоже без зла легонько брыкнула задними ногами, и, не спешно переступая, пошла к ближайшим кустам, где в небольшой низине были: и трава погуще, и тени побольше. Лениво прихватив мягкими губами, разок-другой лесного разнотравья, она повалилась на бок, потом опрокинулась на спину, и начала кататься по лужайке то ли ради озорства, а то ли, отгоняя тем самым вечных своих врагов и постоянных спутников – слепней.
Дядя Федя пошарил в телеге и вытащил оттуда узелок. В батистовом в горошек головном платке был завязан обед, состоящий из увесистой ковриги ржаного хлеба свойской выпечки, одной луковицы и куска сдобренного крупинками соли домашнего сала.
Мой сотоварищ хитро подмигнул мне и, нырнув рукой в привязанное под телегой ведро с остатками овса, вытащил четвертинку водки. Все было готово к обеду.
– Ну, что, заморим червячка? – обратился ко мне дядя Федя. Я тоже потянулся за своим узелком, который собрала мне мать. Да и что она могла собрать, когда в доме пять голодных ртов мал-мала-меньше, а десяток кур, которые в этом году хорошо перезимовали у нас под печкой, сельсовет описал за невыплату налога по самообложению, – два куска чёрного хлеба с отрубями сложенными друг с другом и пересыпанными реденьким песочком – сахарок! ох, как вкусно! да бутылка квасу уже спитого, но еще не утратившего свою кислинку. Дядя Федя так, краешком глаза посмотрел на это богатство и положил мне сверху на хлеб, розовый на свежем срезе, пласт сала, отмахнув ровно половину от своего куска. Как можно отказаться! Оно так хорошо слоилось, было таким сочным и мягким, что я даже и сам не заметил, как кусок юркнул в желудок. Вытащив газетную пробку, дядя Федя посмотрел еще раз на меня, о чем-то подумал и тут же опрокинул к себе в рот содержимое четвертинки. Он, наверное, тоже не заметил, как булькнула в его желудок эта самая четвертинка, потому что, мотнув головой, он задумчиво понюхал хлеб, потом положил на него сало и стал жевать, прикусывая свой бутерброд, белой большой и брызгающей соком, как яблоко, луковицей. Лес, по всей видимости, уже перестал нами интересоваться, и теперь деревья, где-то там вверху пошумливали, решая свои извечные вопросы. Я поднял голову, там в самой сини раскачивались верхушки деревьев, словно подметали и без того чистое небо.
Дядя Федя выпростав из пыльных кирзовых сапог ноги, размотал и повесил на телегу в тёмных подтеках портянки, от которых сразу же потянуло баней и вчерашними щами. Прислонившись спиной к колесу телеги, он закрыл глаза и тут же захрапел. Красные, с толстыми ногтями пальцы ног торчали из травы, как желторотые птенцы какой-то совершенно странной птицы.
Мне спать вовсе не хотелось, и я, чтобы не разбудить своего благодетеля, спотыкаясь босыми ногами о жестяные сосновые шишки, разбросанные там и здесь, подался к черемухе, чтобы обобрать со сломанных веток ягоды. Сдаивая в горсть черемуху, я высыпал ягоды в рот, смело похрустывая косточками. Через несколько минут рот, как будто кто набил шерстью. Язык стал жёстким, и его пощипывало. Повернув обратно к телеге, я лег навзничь и стал пристально смотреть в небо. Деревья, взявшись, друг друга за руки, закружились вокруг меня, и я поплыл в зеленой колыбели к неизвестной пристани. Проснулся я от легкого толчка ногой в бок. Дядя Федя стоял передо мной, застегивая, видимо, после легкой нужды военного покроя брюки-галифе. Рядом со мной лежал почти полный картуз лесных ягод.
– На-ка, побалуйся, пока я лошадь запрягу, до вечера, гляди,
– успеем. А твой дядька в Тамбове, на какой улице живет, знаешь?
– А чего не знать-то! В самом центре. На Коммунальной улице, прямо возле базара.
– А-а! Ну, это ничего. Мне, как раз мимо ехать, там я тебя и оброню.
Дядя Федя, конечно, знал, где живут мои родственники, а спрашивал, вероятно, так, для порядка. Моя мать заранее ему весь путь обговорила. Я-то знал…
Лошадь топталась в сторонке, лениво постегивая себя хвостом по бокам, захватывая траву, она, почему-то мотала головой и недовольно фыркала.
Дядя Федя, легонько похлопывая кобылу по гладкой шелковой шее, подталкивал её к телеге.
В картузе, вместе с красной в пупырышках земляникой, голубела мягкими присосками ягода-черника. Пока мой сопровожатый возился с упряжью и ладил оглобли, я, захватывая полными горстями ягоду, сыпал ее в рот, и захлебывался сладостным соком. Столько ягоды я никогда в жизни до этого, не то чтобы не ел, а даже не видел. В степном продутом и пропыленном родном селе кроме пышных, густых кустов лозняка по берегам теперь уже оскудевшего Большого Ломовиса, как я уже говорил, ничего не росло. Даже палисадников возле домов, и тех не было, – за время войны пожгли все…
Вытряхнув последние ягоды из картуза себе в ладонь, я кинул его в телегу, и тут же перемахнул в неё сам. Дядя Федя, подняв картуз, похлопал им себе по колену и натянул на голову. Мы снова тронулись в путь.
После короткого сна, такого же короткого обеда и сладкого десерта было гораздо веселее в том плане, что веселее жить. Вот подъедем мы к большому красного кирпича старинному двухэтажному дому с парадным подъездом, поднимусь я по широкой деревянной желтой выскобленной ножом лестнице, вот отсчитаю по коридору пятую налево дверь, вот постучусь согнутым пальцем в дверной косяк, а мне скажут: Входите!», вот войду я, и присядет тетка передо мной на корточки, вот ухватит меня теплыми мягкими ладонями за щеки и скажет: – «Ай, кто приехал!»
А дядя будет сидеть в углу в своей вечной гимнастерке, и легонько похохатывать: – Макарыч на харчи прибыл! Ну, давай, давай садись за стол. Как не хочу – не захвачу. А-садись! Как раз и захватишь!» И будут меня угощать ситной булкой, белой, ну, как вот руки у моей тети-крестной Прасковьи Федоровне. И будет чай из блюдца, и будет с печатями и двуглавыми орлами свистеть веселый самовар, А дядя Егор – крестный мой, будет опять похохатывать, щелкать маленькими плоскими кусачками крепкий, как теткины зубы, сахар-рафинад, и буду я, не спеша, легонько по-городскому, двумя пальчиками брать этот сахарок, класть его в рот и схлебывать шумно, со вкусом коричневый, пахнущий, угольками фруктовый чай, и буду тоже запрокидывать голову и улыбаться. А потом дядя Егор будет расспрашивать про отца – они с ним братья, вздыхать, вспоминая старое время, и потихоньку материть Советскую Власть. Но я об этом ни-ни! Молчок! Никому не скалу. На что вон Филиппович, человек грамотный, наш колхозный бухгалтер, тоже ругал Советскую власть, и его, не сжалились, забрали. До сих пор не вернулся, говорят, на Колыме свинец добывает…
Вдруг меня толкнуло с такой силой, что я вывалился из телеги. Какая-то коряга так ухватилась за колесо, что спицы – хры-хры-хры» посыпались, как гнилые зубы. Телега завалилась на бок, и ехать дальше не представлялось возможным.
Дядя Федя стоял у телеги и скреб пальцами под картузом. Потом, взяв лошадь за мундштук узды, повернул ее снова на полянку. Выпростав кобылу из упряжи и связав ей передние ноги, дядя Федя вынул чеку и снял колесо с оси,
– Ты пока тут ягод пошарь, а я с колесом до мастерской схожу. Километра два всего-то тут до Козывани, там колесо и починю. Ничего, доедем до твоего Тамбова, смеркается теперь поздно.
Он надел полупустое колесо на плечо, как вешают коромысло, и пошёл искать дорогу.
Я удивился его недогадливости, ведь он мог сесть верхом на лошадь и мигом добраться бы до этой самой деревни, как ее… Козывань.
– Дядя Федя, а на лошади быстрее! – крикнул я ему вслед. Он только махнул рукой, как бы отряхнув себя сзади.
Теперь-то я, наверняка, знаю, что у моего сопровожатого был застарелый геморрой, а то бы не вышло так, как вышло…
Я улегся у телеги и стал смотреть на старую сосну с облупившимся стволом. Оттуда, из-за редкой хвои, слышалась частая дробь, будто кто-то быстро-быстро вколачивал в сосну гвозди. Там, вверху, примостившись, как наш монтер Пашка на телеграфном столбе, орудовал усердный дятел. Опираясь жестким распушенным хвостом в ствол дерева, он, как припадочным, колотил и колотил головой, о сучок. Мне было интересно смотреть, когда он отшибет себе мозги и свалится наземь. Но он все молотил и молотил без устали, прерываясь только на короткий срок. И в этом промежутке сразу становилось тихо: то ли жара сморила всю лесную живность, кроме этого молотильщика, а то ли это вся живность тоже принялась ждать, когда у него отвалиться голова. Но голова у дятла оставалась на месте, а к моим ногам сыпались и сыпались мелкие опилки, так сказать, отходы производства.
Скучая, я подобрал один из обломков тележного колеса, и вооруженный этой палицей, пошел рубить головки лопухам с листьями похожими на елочки, это был папертник, но я тогда не знал его названия – лопух и лопух, только листья резные. Под этими листьями я увидел тут и там желтые смазанные маслом оладышки, которые росли прямо из земли. Весь их вид, вызывая у меня непреодолимое желание, попробовать их на вкус. Я сорвал один оладышек, снял с него прилипшую хвоинку и стал жевать. Вопреки моим ожиданиям, оладышек оказался безвкусным и отдавая сыростью. Есть его, сразу же расхотелось. Выплюнув крошево, я отправился дальше. Лошадь паслась неподалеку, перебирая передними ногами мелко-мелко, как балерина на носочках. Травы было достаточно – ешь, – не хочу, но наша кобыла была, вероятно, привередлива и ощипывала не всю траву подряд, а выбирала, какие-то одной ей известные виды, и поэтому она постоянно находилась в движении.
Пройдя несколько шагов, я остановился – впереди меня зашевелилась трава, и я с ужасом увидел, как передо мной, почти у самых ног извиваясь, скользила, сама по себе, толстая черно-зеленая веревка. Змея! Сработал инстинкт опасности, и я закоченело замер с поднятой палкой в руке, завороженный ее зигзагами. Веревка прошелестела мимо, не обращая на меня никакого внимания, и только концы травинок обозначали ее извилистый путь. Идти дальше мне сразу расхотелось, и я снова повернул к своему спасительному редуту – телеге.
Рядом с телегой спокойно с хрипотцой пофыркивала лошадь, и мне сразу стало спокойнее. В небольшой лощине я увидел на кустах голубоватую ягоду похожую на малину. Я сорвал одну из ягодок и положил в рот. Кисло-сладкий сок обрызгал мою гортань. Быстро сняв с себя кепку-восмиклинку, я стал собирать в неё ягода. Кусты были настолько колючи, что, как я ни изловчался, а всё же изодрал ладони, особенно с тыльной стороны.
Как бы там ни было, но я очень скоро наполнил кепку до краев ягодой и, не дойдя до телеги, уселся на какой-то трухлявый пенек и стал опустошать фуражку. Придавливая ягоду языком к нёбу, я медленно высасывал из неё сок, а уж потом глотал все остальное. Вскоре я с удивлением обнаружил, что все мои пальцы измазаны в чернила, а сквозь фуражку проступали темные пятна.
Лошадь все так же, помахивая хвостом, продолжала нашептывать свои секреты кому-то в траве. Далеко гукала кукушка. Стоял конец июня, самый разгар лета, когда у кукушек кончается брачное время, и она перестает считать чужие года. Это была, вероятно, холостая кукушка, которая в последней надежде призывала к себе жениха. Я спросил у нее – сколько мне осталось нить на этом свете, но она почему-то сразу замолчала. Это нисколько не привело меня в уныние, я опрокинулся на спину в густую прохладную траву, и уставился глазами в клочкастую синеву неба. Где-то там, над верхушками деревьев, все гудел и гудел самолет. Самого его не было видно, но, судя по звуку, он где-то пролетал рядом.
У нас в Бондарях, пустующее за больницей широкое поле, использовалось с давних пор под аэродром, куда в обязательном порядке прилетал почтовый маленький фанерный самолетик с перкалевыми крыльями и с открытой, как мотоциклетная люлька, кабиной. Пилотами были молодые девчата, только что окончившие аэроклуб. Мы, едва услышав стрекочущий звук, сбегались туда, на летное поле, чтобы воочию посмотреть на это чудо и, опасливо оглядываясь, трогать его лонжероны.
Летчицы к нам относились благодушно – мы, мальчишки встречали их цветами» и это, окрыленным созданиям, вероятно, нравилось: ранней весной – желтые одуванчики, летом – ромашки, васильки, или, даже, хоть и колючий, но нарядный татарник, осенью – яркие кленовые листья, чудом уцелевшего больничного клёна. Летчицы приветливо трепали нас за щеки, гладили по голове, то есть, всячески проявляя извечный женский инстинкт материнства.
Одна такая летчица, часто прилетавшая к нам в Бондари, особенно выделяла меня из толпы таких же чумазых и оборванных мальчишек. Сажала к себе в кабину, держала на коленях, позволяла браться за ручку управления с ребристым черным резиновым наконечником. Когда рычаг наклоняешь вправо или влево, хвост самолета тоже, скрипя тонкими тросиками, протянутыми с внешней стороны фюзеляжа, поворачивался из стороны в сторону, как флюгер.
Однажды, проходя из школы мимо аэродрома, я увидел стоящий вдалеке самолет, и завернул к нему. Не знаю, по какой причине, но та летчица, что была со мной всегда ласкова, пыталась приподнять хвост самолета, чтобы развернуть машину на ветер или еще по какой-то надобности. Я тут же с готовностью кинулся ей помогать. Вдвоем мы быстро развернули самолет. Девушка сняла с себя черный кожаный шлем с заклепками и толстыми тяжелыми очками. Из-под шлема большими волнами пролились на плечи ее с жемчужным отливом волосы. Сидя передо мной на корточках, в темно-синем комбинезоне и светлыми солнечными волосами, она озорно улыбалась, заглядывая мне в глаза. Красивее ее я никогда в жизни никакой женщины не видел. Она предложила мне забраться в кабину и сделать круг над Бондарями, но я, почему-то, заплакав, убежал от нее, скрылся в прилегающих к полю густых кустах смородины, и еще долго сладкие слезы текли по моему лицу, заставляя с неясной еще тревогой сжиматься мое маленькое мальчишеское сердце.
Может быть, в своем самолетике кружащим где-то высоко над лесом, парит эта чудесная фея, сделавшая меня однажды таким счастливым.
Проснулся я от странного сопения, чихания, покашливания и возни за моей спиной. «Ну, слава Богу, наконец-то вернулся дядя Федя, и мы сейчас снова тронемся в путь. Чего-то он там так тяжело поднимает, колесо, что ли на телегу ставит?» – подумал я, оглядываясь. Но к своему удивлению, ни у телеги, ни под телегой никого не было. Пододвинувшись поближе, я увидел под телегой, там, где клочками лежало разбросанное сено, возилась почти круглая навакшенная сапожная щетка. Ежик! Он забавно двигал из стороны в сторону носом с маленьким поросячьим пятачком, и черные бусинки глазок смотрели прямо на меня, ничуть не пугаясь. Но стоило мне протянуть руку, как эта щетка сразу же превратилась в надутый странный мячик, весь утыканный острыми шильцами с коричневато-желтыми кончиками. Руками взять его было невозможно, и я, подталкивая этот игольчатый мячик поближе, с удивлением стал его рассматривать. Уже не было слышно ни сопения, ни покряхтывания. Ежик, ощетинившись, стал похож на безжизненный моток колючей проволоки.
В это время кто-то стал ломиться через чащу, сминая по пути сучья и ветки. Вот теперь это точно дядя Федя ворочается, но почему он так размашисто и тяжело ступает по мягкой лесной траве? Вдали, в промежутках между деревьями, я увидел странное существо: то ли какая-то коняга с сучками на голове, а то ли, с ужасно длинными ногами, серого цвета, корова. Потом я догадался, что это лось, и хорошо, что он прошёл стороной, а то бы мне некуда было бежать, да и как убежишь от этого чудовища?
Пока я рассматривал лося, ежик куда-то уже укатил, и рядом со мной было пусто. Мне сразу сделалось как-то не по себе, а что если рядом прячется волк или рысь какая-нибудь, или кабан? Что мне тогда делать? Нет! лучше забраться в телегу! Я взворошил остатки сена, нырнул туда и притих. Телега была скособочена так, что я постоянно съезжал вниз, и приходилось время от времени, держась за жердину, подтягиваться к передку телеги.
Я с удивлением заметил, что в лесу стало просторно и тихо. Ползком, переваливаясь через поваленные деревья, ко мне подкрадывался туман. Стало сыро и зябко. Смеркалось, а моего сопровожатого все не было. Я уже с беспокойством стал всматриваться в тот прогал между деревьями, в который так поспешно нырнул дядя Федя с колесом, как с коромыслом на плече. Но сколько бы я не вглядывайся в этот прогал, он был пуст. Никого! И мне стало страшно. Быстро начали сгущаться сумерки. Наступила ночь, и я остался в ней один на один со своими страхами.
Жуткая холодная и непроглядная темнота обступила меня со всех сторон, и в этой темноте зашевелилось, завздыхало, заухало и заворочалось непонятное и враждебное. Сердце под рубашкой колотилось так, что мне пришлось придерживать грудь руками. Я боялся, что ребра не выдержат и сердце разорвет мою тонкую и бедную оболочку. Зубы помимо моей воли стучали и прыгали, и я закусил фуражку. Я боялся, что лесные духи услышат этот стук и слетятся сюда, думая, что это дровосек рубит топором их заповедный лес. Я, задыхаясь, старался сдерживать дыхание, которое было таким прерывистым и резким. Прислушиваясь к каждому шороху, я втиснулся в телегу, сжался в комочек и дрожал так, что сотрясалась эта самая телега, а может быть, это мне просто казалось? на мне кроме тонкой сатиновой рубахи, ничего не было. Стояло лето, и мать как-то не подумала дать мне с собой, хоть затёртую, но еще не рваную телогрейку, которая была на вое случаи жизни.
Так и лежал я, сжавшись в комок в углу старой разболтанной телеги, укрывшись остатками сена. Мне стало ясно, что дядя Федя уже никогда не придет за мной, и я навечно сгину в этой непроглядной тьме.
Сквозь уже отсыревшее и нисколько не греющее сено, сквозь вялые травинки я с ужасом обнаружил красноватый отблеск пожара. Ничего страшнее, чем пожар ночью я до того не видел.
«Все! Лес горит!» – пронеслось у меня в мозгу. Я не знал, в какую сторону мне бежать, если пожар подберется совсем близко. Животный инстинкт боязни огня выбросил меня из телеги. Вверху над деревьями полыхало, но было тихо, не было слышно характерного для пожара потрескивания горящего дерева. Запаха дыма тоже не было. Над головой, немного в стороне, сквозь черные мётла деревьев, высвечивала луна. Резкие тени деревьев стелились прямо под мои ноги. На этой светлой поляне меня стало видно со всех сторон. Это было похуже темноты. За каждым деревом прятался страх.