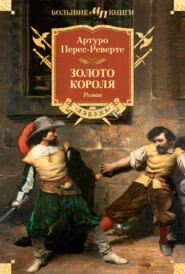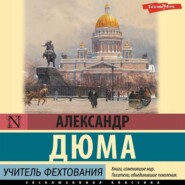По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
На линии огня
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Пато проводит ладонью по коротко стриженной голове:
– Я – нет.
Потом, пройдя несколько шагов, убежденно кивает, словно в ответ своим мыслям.
– Франко – это смерть, – произносит она решительно. – А мы – это жизнь.
– Вот даже как… – с мягкой, даже ласковой насмешкой отвечает капитан. – Романтическая коммунистка… Это почти оксюморон.
– Я не знаю, что такое «оксюморон».
– Два слова с противоположным значением, употребленные вместе и противоречащие друг другу.
– Не вижу тут противоречия.
– Романтические порывы больше свойственны анархистам.
– Ненавижу анархистов.
При этих словах капитан, не выдержав, откровенно хохочет:
– В таком случае держись подальше от моих людей.
Пато пропускает это предупреждение мимо ушей. Некстати нахлынувшее воспоминание о юноше, с которым она прощалась на вокзале под дождем, о юноше, вскоре пропавшем без вести под Теруэлем, внезапно отзывается раскаянием. Как будто этим диалогом с капитаном она предает память о нем. Но, по счастью, они уже рядом с полевым телефоном. Стало быть, и разговору конец.
– Я был поставлен командовать этим батальоном потому, что у меня имеется кое-какой опыт общения с разным сбродом, – вдруг произносит Баскуньяна. – Который особой ценности для Республики не представляет. Еще слава богу, что офицеры у меня, как я сказал, подобрались хорошие: половина – коммунисты, половина – социалисты. Мы ладим и делаем что можем. В воинской части демократии быть не может: жаль, многие этого не понимают.
Пато энергично кивает.
– Без дисциплины нет армии! – восклицает она убежденно, призывая на помощь идеологию. – А единственная дисциплина, которая оправданна и благородна, – наша! Ничего общего не имеет с преступным бездушием дисциплины фашистской.
– В этом мы с тобой сходимся, товарищ Патрисия.
Он, кажется, снова шутит. Но Пато сохраняет серьезность. Упрямо гнет свое:
– Я думаю, что комиссар…
Она собиралась сказать, что комиссар, погибший при штурме высоты, успел навести порядок в батальоне и превратить его в настоящую боевую единицу, но осекается, увидев, какое лицо сделалось у капитана.
– Перико Кабрера был человек твердокаменный, с незыблемыми принципами, свято веривший в важность своей миссии, – говорит тот и вдруг как-то странно замолкает. – Может быть, излишне суровый.
– Излишне? Что это значит для комиссара? – по привычке готова затеять спор Пато.
– Ничего особенного не значит. Он делал свою работу, и делал хорошо. Его стараниями батальон получал кое-какое идеологическое, так сказать, обеспечение… А если с личным составом возникали проблемы, решал их с ходу – без колебаний приказывал расстреливать. Так поставили к стенке трех молоденьких дезертиров и двоих буйных анархистов, не желавших подчиняться приказам. С Кабрерой были шутки плохи.
Сказано так, что Пато смотрит на командира еще внимательней. Печаль в глазах, а улыбка – широкая, почти детская, и никакого противоречия в этом нет. Он очень привлекателен, невольно приходит ей в голову, и от этой мысли возникает какая-то смутная неловкость. От его беззаботной улыбки, от ловких движений. От волнующего, какого-то очень мужественного запаха, которым от него веет, несмотря на грязь и пот, а может быть, именно благодаря им, неуверенно думает Пато.
– Как он погиб? – спрашивает она, чтобы отогнать эти неуместные ощущения.
Капитан окидывает ее быстрым оценивающим взглядом. Словно колеблется, стоит ли говорить.
– Пал смертью храбрых, – отвечает он наконец. – Погиб, как, по его мнению, пристало комиссарам. Страстным партийным словом поднимая бойцов в атаку…
Произнеся это, он делает паузу, которая Пато кажется чересчур долгой.
– И получил пулю в спину, – договаривает он.
– В спину? – ошеломлена девушка.
– Так мне доложили. Без сомнения, он в этот миг повернулся к своим и воодушевлял их, и тут какая-то франкистская гадина выстрелила в него. Другого объяснения нет и быть не может… Верно?
На миг улыбка становится заметней и тотчас исчезает, будто ее и не было. Остается лишь печаль в глазах.
– Комиссар Кабрера погиб смертью героя… Республика вправе им гордиться.
V
Вагоны грязные и неудобные, стекла в окнах выбиты, и бойцы ударной роты Монсерратского полка пытаются половчей устроиться на жестких деревянных скамейках, дремлют, склонив голову на плечо соседу. Багажные полки и проходы завалены оружием, амуницией, снаряжением – ранцами и патронными ящиками. Пахнет людьми – немытыми и истомленными.
Солдаты-рекете уже сутки едут так из Калатаюда, куда после боев при Уэртаэрнандо роту отвели на переформирование и отдых. Однако наступление красных ускорило события, и 157 бойцов ударной роты спешно посадили в первый же подходящий поезд и повезли на позиции националистов, оборонявших городок Кастельетс-дель-Сегре.
Скрежещут тормоза, лязгают вагонные буфера: поезд резко останавливается. Спавший на плече товарища капрал Ориоль Лес-Форкес – смуглый, статный парень приятной наружности с коротко стриженными черными волосами – от толчка едва не падает с лавки. Ругается сквозь зубы.
Хлопая глазами, он выпрямляется, смотрит в окно, на перрон: свинцово-серый рассвет уже рассеял полумрак, и Форкесу удается прочесть название станции.
– Мы в Боте!
Тот, на чьем плече он спал, теперь тоже открывает глаза, трет их кулаками. Он тощий и рыжеватый, с бакенбардами а-ля Сумалакарреги[26 - Томас де Сумалакарреги-и-де-Имас (1788–1835) – активный участник Первой карлистской войны.]. Зовут его Агусти Сантакреу, и он тоже из Барселоны, рожден и вырос в Каталонии. Учился на факультете философии и словесности. Они с Форкесом – соседи и друзья детства: вместе ходили в школу, вместе ухаживали за барышнями, вместе бежали во Францию, когда 21 июля 1936 года стало ясно, что в Каталонии мятеж провалился, и вместе с другими, спасшимися с захваченной красными территории, вернулись через границу домой, чтобы записаться в армию. Им по 21 году (Сантакреу на три месяца старше), но обоих смело можно считать ветеранами, вдосталь понюхавшими пороху. Тот и другой оказались среди пятидесяти бойцов, уцелевших в кровопролитном сражении при Кодо, возле Бельчите, где их Монсерратский полк полег едва ли не поголовно, потеряв убитыми 142 человека и среди них – всех офицеров и сержантов.
– А это уже Каталония, – вырывается у Сантакреу.
Из-под берета с капральской нашивкой искрятся глаза Ориоля Лес-Форкеса. Он крепко жмет руку друга:
– Да, Агусти… Впервые за два года мы ступим на родную землю.
По всему вагону из уст в уста перелетает название станции. Кое-кто выглядывает наружу и произносит с почти религиозным благоговением: Бот, Каталония, наконец-то. Кое-кто рукоплещет, будит тех, кто еще спит. Похрапывание и протяжные зевки сменяются восторженными криками.
– Прибыли! Конечная! Выгружайся! – командует кто-то, проходя вдоль перрона.
Солдаты, разминая затекшие руки и ноги, выполняют приказ: собрав снаряжение, выходят на перрон, выстраиваются там повзводно. Между шеренгами, флегматично помахивая хвостом, разгуливает легавый пес Дуррутти – ротный талисман. Иные взамен отсутствующих шинелей набрасывают на плечи одеяла, потому что утро выдалось не по сезону холодным. У всех подвело животы: за последние сутки выдали только по ломтю хлеба и по банке консервированных кальмаров, и даже самый ярый роялист с удовольствием бы отдал свой красный берет за кружку кофе с молоком – первую на родине. Однако ничего не выдают, и рота, стоя смирно, ждет, когда капитан дон Педро Колль де Рей окончит перекличку:
– Айгуаде.
– Я!
– Бруфау.
– Я!