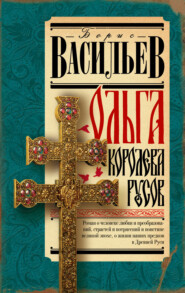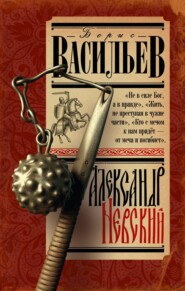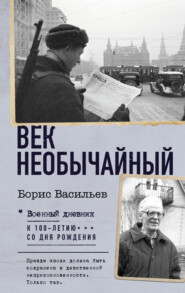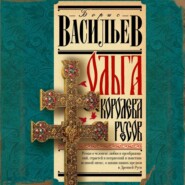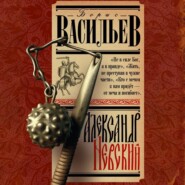По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
В окружении. Страшное лето 1941-го
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
История разлита во времени и пространстве. Извлечь ее из времени могут только знания, а вот ощутить ее дыхание в пространстве можно, и не обладая ими. Есть счастливые города и страны, где дышит историей каждый камень, и счастливые камни, сконцентрировавшие историю. Камни Смоленской крепости, кривые Варяжские улочки древнего города, старый дуб на Покровской горе, Гнездовские курганы и сам воздух Смоленска питали меня Историей, и я чувствовал ее и любил ее, еще не зная, что это – наука, а не только богиня.
В Лопатинском саду сохранились остатки темницы, где томился Кочубей со своим верным Искрой. Я касался решеток, за которые держался он, ожидая решения своей судьбы.
Любимый смолянами сквер, ныне прозаически названный именем Глинки, в моем детстве хранил древнее название: Блонье. Блонье… болонье… заболонь… Да, «заболонье», то есть наиболее укрытое место крепости, куда не долетали стрелы осаждающих и где прятались дети и женщины во время осад.
При впадении Смядыни в Днепр изменник-повар зарезал муромского князя Глеба, брата Бориса. Братья стали первыми русскими святыми, а Смядынь – это окраина Смоленска.
Огромная смоленская крепость, в моем детстве почти замыкавшая старый город, была постоянным местом игр и источником легенд. О кладах, о подземных ходах, о прикованных скелетах. Само место располагало к сочинительству, но ведь детское сочинительство – первая ступенька взрослого творчества.
Безликость современного города, удобного лишь для спешащих на работу взрослых, для транспорта, ремонта да надзора, тяжело ударила по неповторимости детства: все стали «родом из Черемушек». Что будут вспоминать выросшие в казарменно распланированных микро – и макрорайонах дети? Какая разница между 8-й улицей Строителей и 5-й улицей Созидателей? Стандартизация детства неминуемо приводит к стандартизации человека. Так не в этом ли причина, что ностальгия перестала быть русской национальной болезнью?
Место рождения играет совершенно особую роль во всей последующей жизни человека. Чаще всего она не осознается, эта уже сыгранная роль, но Маленький человек должен получить свою пещеру и свою Бекки Тэтчер, свой клад и своего индейца Джо, иначе детство его будет заведомо ограбленным. Образы детства всю жизнь живут в человеке, и – кто знает?.. – не они ли последними заглядывают в его тускнеющие глаза?..
Пойте гимны земле вашего Детства, ибо это и есть ваша Родина. Пойте себе, своим детям и детям ваших детей, влюбляя их в то, что они обязаны любить, беречь и защищать пуще собственной жизни.
* * *
Я рос на улицах Смоленска куда быстрее и интенсивнее, чем дома. Как только мы переехали с Покровской горы в центр, на Декабристов дом 2 дробь 61, так покой дворов, садов, сараев и ничейных оврагов, в которых мирно паслись козы, сменился мощеным двором, с трех сторон замкнутым трехэтажным зданием, а с четвертой – единой системой бесконечных сараев. А шелест листвы, кудахтанье кур и нервозные вопли коз – грохотом ошинованных колес, стуком копыт, скрипом, криками, ржанием, отдаленными трамвайными звонками и клаксонами редких автомашин. В миниатюре я как бы переехал из усадьбы в столицу, шагнув из деревенской поэзии в трезвую городскую прозу.
Основным транспортом гористого Смоленска были в ту пору ломовики. Так именовались грузовые извозчики. Летом – на огромных платформах с обязательным ручным тормозом; зимой – на тех же платформах, поставленных на полозья, где роль тормоза выполнял железный лом, которым придерживали сани на спусках. Лошади, лошади, лошади – сквозь все мое детство прошли лошадиные морды и крупы, лошадиный храп и ржание, лошадиная преданность работе и лошадиные страдания на обледенелых кручах. Тысячи лошадей летом и зимой сновали по всему городу, и город звенел от воробьиного чириканья: их подкармливали лошади, щедро рассыпая овес из торб, и те времена были золотым веком воробьиного племени. Впрочем, лошадиного тоже, потому что я не могу припомнить, чтобы грубый – в фольклор вошедший грубостью своей! – ломовой извозчик не поделился бы со своей лошадью ломтем хлеба с солью. Даже когда бывал пьян, ибо пили они тоже «как ломовые».
В те давно прошедшие времена любая домашняя животина была необходима человеку как помощник в нелегкой жизни. Животное, содержавшееся для развлечения, умиления, а тем паче – престижа, было редчайшим исключением и оценивалось, в общем, неодобрительно. К людям с подобными причудами относились иронически, и по завышенным меркам тогдашней нравственности отношение это было справедливым. В стране не хватало еды, и дети зачастую голодали куда страшнее бездомных собак. Но к своим помощникам, к тем, кто трудился рядом, человек относился со справедливой добротой, с детства привыкая делить с ними кусок хлеба. И животные облагораживали человека, делая его не просто добрым, но требовательным к себе самому. И не было того массового умилительного восторга перед, скажем, собакой, судьба которой резко ухудшилась, несмотря на все внешние признаки благополучия. Ухудшилась потому, что собака, перестав быть членом трудового коллектива, превратилась в игрушку, и судьба ее ныне зависит не от ее старания, а от каприза хозяина.
А машины были чрезвычайно редки. Мы знали их наперечет, тем более что на бортах они имели точные адреса: «Завод имени Калинина» или «Льнокомбинат». С началом шпиономании, беспрестанно подогреваемой властями, надписи на бортах исчезли, но мы все равно знали, что, скажем, к «Язу» Льнокомбината прицепиться можно (шофер остановит, если заорешь), а к «Форду» горперевозок лучше не подходить, потому что увезет черт-те куда, несмотря на все твои крики.
Любопытно, что городские власти города Смоленска получили светофоры куда раньше, чем автомашины, и немедленно установили их на всех перекрестках. Светофоры были двух типов: с четырьмя циферблатами, причем каждый – из двух секторов: красного и зеленого, разделенных желтыми просветами. По этим циферблатам безостановочно ползла стрелка, и движение регулировалось цветом сектора, в котором стрелка в данный момент находилась. Вторым типом был обычный трехцветный с ручным переключением, но их было куда меньше. Почти повсеместно висели стрелочные светофоры, и было очень солидно, когда стрелка бродила по красному сектору, а лошади терпеливо ждали, когда она переберется на зеленый, хотя на поперечной улице никого решительно не было. В этом желании во что бы то ни стало регулировать то, чего пока еще нет, уже заключалось нечто в высшей степени символическое.
* * *
Потом произошло событие невероятное. Где-то в начале 30-х штаб Белорусского военного округа, который размещался в Смоленске (в нем тогда служил отец), начал получать машины отечественного производства: легковые ГАЗ-А и грузовые ГАЗ-АА. Штабное начальство тут же решило списать в утиль все автостарье. Однако, узнав об этом, отец предложил им не выбрасывать эти развалюхи, а отремонтировать и на их базе создать клуб любителей автодела. Отца кто-то поддержал и… передал в его распоряжение три списанные машины и даже бывший каретный сарай для их хранения. Он находился напротив стадиона с памятником-часовней в честь погибших во время Отечественной войны 1812 года и уцелел до сей поры.
Три машины: грузовой «Уайт», столь же древний «Бенц» (еще без «Даймлера») и знаменитая русская легковая машина «Руссобалт» – все дореволюционных времен. Каждая машина отличалась не только маркой, формой и назначением, но и имела свои индивидуальные особенности. Я излазил их вдоль и поперек, постоянно торчал в гараже, подсказывал на экзаменах бойцам-автолюбителям, помогал отцу чем мог и сейчас хочу представить каждую машину как друга далекого детства.
«Уайт» имел грузошины. То есть не обычный баллон с камерой и покрышкой, а металлические колеса, облитые резиной, как танковые катки. Поэтому летом на нем немилосердно трясло, а зимой он скользил и терял управление на всех горках, и поскольку в Смоленске были одни горки, то зимой отец пользовался им очень редко. Кроме того, он имел настолько низкие борта, что отец всегда сажал людей на пол. Шоферской кабины у «Уайта» не было, сиденье было жестким, а руль располагался точно по оси машины. Однако управление было простым, и отец именно на нем учил своих автолюбителей.
Насколько «Уайт» представлялся несуразно длинным, настолько «Бенц» казался несуразно коротким, даже кургузым. Его основной деталью была цепная передача, а так как тормоза располагались на карданном валу, то в случае обрыва цепи машина становилась абсолютно неуправляемой. Это было особенно пикантно, если взять во внимание крутые, длинные и несуразно кривые смоленские горки.
Второй особенностью был автомобильный сигнал. Он проживал отдельно от машины и представлял собою маленькую сирену с ручкой вроде вентиля, которую надо было вращать. Естественно, водитель не мог подавать сигналов, и сирена вручалась пассажиру. А поскольку, несмотря на неимоверное количество светофоров, смоляне ходили как хотели, то наша сирена все время судорожно подвывала, и мальчишки всего города безошибочно определяли:
– Борькин папка на драндулете шпарит!
Сложно было, когда роль сигнальщика доставалась маме. Она была, мягко говоря, человеком взнервленным, легко выходила из равновесия, норовила держаться двумя руками, и вертеть сирену оказывалось некому. А люди то и дело возникали буквально под колесами, и тогда мама кричала во всю мощь своих слабеньких легких:
– Гражданочка! Мадам! Товарищ! Пожалуйста! Оглянитесь!..
Сиденье «Бенца», в отличие от аскетичного «Уайта», было пухлым от обилия нежнейших пружин, и на каждом ухабе пассажиры взлетали выше кузова. Отец при этом держался за руль, женщины – за свои юбки, а меня ловил тот, у кого была свободная рука.
«Руссобалт» – автомобиль, широко известный и сегодня. Он – непременный участник почти всех фильмов о Гражданской войне. Водительский салон его имел только одну дверцу – с левой стороны, а за бортом правой на подножке размещался рычаг переключения передач. Салон был просторен, и можно было сидеть, вытянув ноги. Мы ездили на нем только летом, потому что верх у него был брезентовым и пассажиры мерзли из-за вечного сквозняка.
Правда, отец куда чаще лежал под машинами, чем ездил на них. Это служило поводом для постоянных шуток, но отец охотно разделял шутки в свой адрес.
Он выпросил в штабе совершеннейший металлолом, который красноармейцы на руках перекатили в каретный сарай, ставший отцовским гаражом. И можно представить, сколько сил, терпения и времени затратил отец, чтобы вдохнуть жизнь в эти автотрупы. Но он никогда не бросал начатого дела, упорно веря, что все решается желанием да трудом. И ему всегда доставало труда и желания.
В нашем гараже не было ни окон, ни электричества: только настежь распахнутые двустворчатые ворота. Пол был цементным, слева от входа находился верстак, прямо – все три машины, а справа – ящик с песком и бочка с бензином. Автоколонок тогда не существовало, бензин отцу отпускали по наряду на весь месяц, и приходилось хранить его в гараже. И однажды мы чудом не взлетели на воздух.
Случилось это поздней осенью, и ворота были закрыты. На верстаке горел фонарь «летучая мышь», отец лежал под машиной на войлочной кошме и регулировал сцепление капризного «Бенца». Это была тонкая работа, а потому рядом на полу стояла керосиновая лампа. А я курсировал между верстаком и машиной, подавая отцу требуемые инструменты. И тут погас фонарь.
– Спички на верстаке, – сказал отец. – Сможешь сам зажечь?
– Смогу, – ответил я и наступил на керосиновую лампу.
Раздался хруст и звон, по кошме побежали огненные ручейки, а я почему-то заорал от восторга. И сквозь крик расслышал напряженный, но вполне спокойный отцовский голос:
– Открой ворота и беги. Открой ворота и беги.
Как позднее выяснилось, отец рванулся из-под машины, но зацепился гимнастеркой за рычаг. Пока я в дрожащем свете начинающегося пожара открывал тяжелые створки ворот, а отец, разодрав до горла гимнастерку, выкатился из-под машины, занялась бочка с бензином. Помню, что вспыхнула она вдруг, а я еще только распахивал ворота. Бочка была огромной, отец не мог повалить ее и раскачивал с канта на кант. Бензин выплескивался, на отце горели обрывки гимнастерки и – руки. Конечно, это еще не руки горели – горел бензин на руках – но я и сейчас вижу бегающие голубоватые язычки пламени на его ладонях. Наконец он повалил бочку на бок, крикнул, чтобы я спрятался в дальнем углу, и торопливо покатил бочку во двор. Там она и рванула, как хорошая бомба, но отец за секунду до взрыва умудрился упасть за угол дома, и во дворе никто не пострадал, хотя многие окна недосчитались стекол.
– Шляпа! – сказал отец, вернувшись в гараж и загасив остатки пожара.
Это было самое страшное его ругательство. Впрочем, и единственное: все определялось интонацией. Что и говорить, отец мой был мастак ругаться…
* * *
В начале лета мы уезжали из города, хотя тихий Смоленск мало отличался от деревни. Но срабатывала привычка: пока был жив дед, ездили в Высокое, потом снимали дом где-либо за городом. И в начале мая отец отправлялся искать подходящее место для лета. Три машины были в его личном и бесконтрольном владении. А мы поехали в Вонлярово на велосипеде. И помню разговор накануне.
– Я не могу, Эля, не имею права. Это машины штаба, и использовать их без особой надобности я не хочу. До Вонлярова мы и на велосипеде доберемся.
– Я не пущу с тобой Бориса!
– А ему-то не все равно, на чем ехать?
И я поехал на велосипеде. А сколько отцов не выдержало, не выдерживает и еще будет не выдерживать искуса и везет отпрыска на казенной машине в возрасте, когда запоминаются факты и забываются причины, когда еще только формируются «можно» и «нельзя», когда гордый взгляд из машины равнозначен праву на этот взгляд. И это особенно касается мальчишек, ибо если женщинами рождаются, то мужчинами становятся – так уж распорядилась сама Природа. И еще раз поклон тебе, отец, за то прекрасное путешествие на велосипеде из Смоленска в Вонлярово при трех машинах в личном пользовании!..
Мы ехали на велосипеде вопреки такой естественной, такой логичной возможности, как личная машина. Вопреки бессмертному, как сам обыватель, представлению о престижности, лишь поколебленному революцией и вновь поднимавшему голову. Вопреки маминой боязни за меня. Наконец, вопреки элементарному удобству: отцу пришлось вертеть педали полсотни верст, да еще я сидел на раме.
В Вонлярово можно было проехать большаком, можно – по Московскому шоссе, но отец избрал третий путь. Не из стремления к оригинальности – он вообще был лишен его начисто. А вот стремление к расширению моего кругозора у него было всегда.
Кто не видел тропинок, бегущих по обе стороны железнодорожного полотна в полосе отчуждения! Они резво взбегают на откосы, спускаются в низины, перескакивают через ручьи, петляют, иногда исчезая, но непременно появляясь вновь. И, доведя вас до города, растворяются в нем, чтобы потом, когда вы снова тронетесь в путь, весело бежать рядом. Я и сейчас люблю на них смотреть и, изъездив много стран и километров, знаю, что они – русские: за рубежами нет такого непременного атрибута железной дороги. Этакой крепенькой босоножки, что бежит рядом с городским могучим франтом, ловко попадая ему в такт смуглыми ножками…
И в Вонлярово мы поехали по такой тропинке. Она была утоптана до бетонной твердости, но сохранила теплоту и стремительность топтавших ее ног. Я сидел на раме меж отцовских рук и держался за руль, а отец неспешно вертел педалями, и мы катили. По ровному и под гору, а вот в гору шли пешком, и тогда начинались разговоры обо всем и ни о чем – именно так разговаривают с детьми во всем мире, а со взрослыми – только в России. Но дело не в разговорах – в конце концов, разговоры одинаковы для детства, – дело в дороге. В том третьем пути, который я прошел с отцом туда и обратно, измерив его не временем, проведенным в поезде, не по спидометру автомашины – измерив его собственными ногами, собственной скоростью и собственным временем; поняв, что под гору ты отдыхаешь, а в гору – задыхаешься; ощутив, сколько твоих личных шагов укладывается в общем километре, и оценив, что такое отдых у речки, глоток воды и кусок хлеба из отцовских рук. И мне сейчас кажется, что все те объяснения – что машина не его, что бензин не его, что… – были затеяны отцом с единственной целью: показать мне, что путь между двумя точками не всегда полезно соединять беспощадной прямой.
* * *
Техническая элита Смоленска именовала отцовский автопарк гробами. В подтверждение правильности этого определения приведу один из множества случаев.
Шуточку эту старина «Уайт» сыграл с нами солнечным январским днем, в те времена именовавшимся «общевыходным». Отцу поручили перевезти какие-то ящики из штаба округа в казармы на Покровской горе. Груза было много, почему и пришлось взять «Уайт», чтобы обойтись одной ездкой. И мама меня отпустила, и машина завелась быстро, и мы покатили к штабу. Там красноармейцы загрузили кузов ящиками, и справа от отца – я сидел слева – сел сопровождающий: весьма располневший коротышка-командир. И мы тронулись, пробираясь к Большой Советской по обледенелым горбатым улочкам. Выбрались вполне благополучно и спокойно покатили вниз, к Днепру. Помню, что двигатель ревел немилосердно, и теперь понимаю, что отец им тормозил наш спуск, поскольку хорошо знал о грузошинах, гладких, как хромовое голенище.
И тут я почувствовал, как начала разгоняться машина, увидел, как судорожно вцепился в баранку отец, а мы все быстрее и быстрее неслись вниз на громоздкой, тяжело груженной машине. Тормоза работали, но как только отец прикасался к ним, наш «англичанин» начинал вальсировать, и отец тотчас же давал ему полную свободу. На счастье, повторяю, был общевыходной, ломовики не работали, и по Большой Советской не тянулись бесконечные обозы.
В Лопатинском саду сохранились остатки темницы, где томился Кочубей со своим верным Искрой. Я касался решеток, за которые держался он, ожидая решения своей судьбы.
Любимый смолянами сквер, ныне прозаически названный именем Глинки, в моем детстве хранил древнее название: Блонье. Блонье… болонье… заболонь… Да, «заболонье», то есть наиболее укрытое место крепости, куда не долетали стрелы осаждающих и где прятались дети и женщины во время осад.
При впадении Смядыни в Днепр изменник-повар зарезал муромского князя Глеба, брата Бориса. Братья стали первыми русскими святыми, а Смядынь – это окраина Смоленска.
Огромная смоленская крепость, в моем детстве почти замыкавшая старый город, была постоянным местом игр и источником легенд. О кладах, о подземных ходах, о прикованных скелетах. Само место располагало к сочинительству, но ведь детское сочинительство – первая ступенька взрослого творчества.
Безликость современного города, удобного лишь для спешащих на работу взрослых, для транспорта, ремонта да надзора, тяжело ударила по неповторимости детства: все стали «родом из Черемушек». Что будут вспоминать выросшие в казарменно распланированных микро – и макрорайонах дети? Какая разница между 8-й улицей Строителей и 5-й улицей Созидателей? Стандартизация детства неминуемо приводит к стандартизации человека. Так не в этом ли причина, что ностальгия перестала быть русской национальной болезнью?
Место рождения играет совершенно особую роль во всей последующей жизни человека. Чаще всего она не осознается, эта уже сыгранная роль, но Маленький человек должен получить свою пещеру и свою Бекки Тэтчер, свой клад и своего индейца Джо, иначе детство его будет заведомо ограбленным. Образы детства всю жизнь живут в человеке, и – кто знает?.. – не они ли последними заглядывают в его тускнеющие глаза?..
Пойте гимны земле вашего Детства, ибо это и есть ваша Родина. Пойте себе, своим детям и детям ваших детей, влюбляя их в то, что они обязаны любить, беречь и защищать пуще собственной жизни.
* * *
Я рос на улицах Смоленска куда быстрее и интенсивнее, чем дома. Как только мы переехали с Покровской горы в центр, на Декабристов дом 2 дробь 61, так покой дворов, садов, сараев и ничейных оврагов, в которых мирно паслись козы, сменился мощеным двором, с трех сторон замкнутым трехэтажным зданием, а с четвертой – единой системой бесконечных сараев. А шелест листвы, кудахтанье кур и нервозные вопли коз – грохотом ошинованных колес, стуком копыт, скрипом, криками, ржанием, отдаленными трамвайными звонками и клаксонами редких автомашин. В миниатюре я как бы переехал из усадьбы в столицу, шагнув из деревенской поэзии в трезвую городскую прозу.
Основным транспортом гористого Смоленска были в ту пору ломовики. Так именовались грузовые извозчики. Летом – на огромных платформах с обязательным ручным тормозом; зимой – на тех же платформах, поставленных на полозья, где роль тормоза выполнял железный лом, которым придерживали сани на спусках. Лошади, лошади, лошади – сквозь все мое детство прошли лошадиные морды и крупы, лошадиный храп и ржание, лошадиная преданность работе и лошадиные страдания на обледенелых кручах. Тысячи лошадей летом и зимой сновали по всему городу, и город звенел от воробьиного чириканья: их подкармливали лошади, щедро рассыпая овес из торб, и те времена были золотым веком воробьиного племени. Впрочем, лошадиного тоже, потому что я не могу припомнить, чтобы грубый – в фольклор вошедший грубостью своей! – ломовой извозчик не поделился бы со своей лошадью ломтем хлеба с солью. Даже когда бывал пьян, ибо пили они тоже «как ломовые».
В те давно прошедшие времена любая домашняя животина была необходима человеку как помощник в нелегкой жизни. Животное, содержавшееся для развлечения, умиления, а тем паче – престижа, было редчайшим исключением и оценивалось, в общем, неодобрительно. К людям с подобными причудами относились иронически, и по завышенным меркам тогдашней нравственности отношение это было справедливым. В стране не хватало еды, и дети зачастую голодали куда страшнее бездомных собак. Но к своим помощникам, к тем, кто трудился рядом, человек относился со справедливой добротой, с детства привыкая делить с ними кусок хлеба. И животные облагораживали человека, делая его не просто добрым, но требовательным к себе самому. И не было того массового умилительного восторга перед, скажем, собакой, судьба которой резко ухудшилась, несмотря на все внешние признаки благополучия. Ухудшилась потому, что собака, перестав быть членом трудового коллектива, превратилась в игрушку, и судьба ее ныне зависит не от ее старания, а от каприза хозяина.
А машины были чрезвычайно редки. Мы знали их наперечет, тем более что на бортах они имели точные адреса: «Завод имени Калинина» или «Льнокомбинат». С началом шпиономании, беспрестанно подогреваемой властями, надписи на бортах исчезли, но мы все равно знали, что, скажем, к «Язу» Льнокомбината прицепиться можно (шофер остановит, если заорешь), а к «Форду» горперевозок лучше не подходить, потому что увезет черт-те куда, несмотря на все твои крики.
Любопытно, что городские власти города Смоленска получили светофоры куда раньше, чем автомашины, и немедленно установили их на всех перекрестках. Светофоры были двух типов: с четырьмя циферблатами, причем каждый – из двух секторов: красного и зеленого, разделенных желтыми просветами. По этим циферблатам безостановочно ползла стрелка, и движение регулировалось цветом сектора, в котором стрелка в данный момент находилась. Вторым типом был обычный трехцветный с ручным переключением, но их было куда меньше. Почти повсеместно висели стрелочные светофоры, и было очень солидно, когда стрелка бродила по красному сектору, а лошади терпеливо ждали, когда она переберется на зеленый, хотя на поперечной улице никого решительно не было. В этом желании во что бы то ни стало регулировать то, чего пока еще нет, уже заключалось нечто в высшей степени символическое.
* * *
Потом произошло событие невероятное. Где-то в начале 30-х штаб Белорусского военного округа, который размещался в Смоленске (в нем тогда служил отец), начал получать машины отечественного производства: легковые ГАЗ-А и грузовые ГАЗ-АА. Штабное начальство тут же решило списать в утиль все автостарье. Однако, узнав об этом, отец предложил им не выбрасывать эти развалюхи, а отремонтировать и на их базе создать клуб любителей автодела. Отца кто-то поддержал и… передал в его распоряжение три списанные машины и даже бывший каретный сарай для их хранения. Он находился напротив стадиона с памятником-часовней в честь погибших во время Отечественной войны 1812 года и уцелел до сей поры.
Три машины: грузовой «Уайт», столь же древний «Бенц» (еще без «Даймлера») и знаменитая русская легковая машина «Руссобалт» – все дореволюционных времен. Каждая машина отличалась не только маркой, формой и назначением, но и имела свои индивидуальные особенности. Я излазил их вдоль и поперек, постоянно торчал в гараже, подсказывал на экзаменах бойцам-автолюбителям, помогал отцу чем мог и сейчас хочу представить каждую машину как друга далекого детства.
«Уайт» имел грузошины. То есть не обычный баллон с камерой и покрышкой, а металлические колеса, облитые резиной, как танковые катки. Поэтому летом на нем немилосердно трясло, а зимой он скользил и терял управление на всех горках, и поскольку в Смоленске были одни горки, то зимой отец пользовался им очень редко. Кроме того, он имел настолько низкие борта, что отец всегда сажал людей на пол. Шоферской кабины у «Уайта» не было, сиденье было жестким, а руль располагался точно по оси машины. Однако управление было простым, и отец именно на нем учил своих автолюбителей.
Насколько «Уайт» представлялся несуразно длинным, настолько «Бенц» казался несуразно коротким, даже кургузым. Его основной деталью была цепная передача, а так как тормоза располагались на карданном валу, то в случае обрыва цепи машина становилась абсолютно неуправляемой. Это было особенно пикантно, если взять во внимание крутые, длинные и несуразно кривые смоленские горки.
Второй особенностью был автомобильный сигнал. Он проживал отдельно от машины и представлял собою маленькую сирену с ручкой вроде вентиля, которую надо было вращать. Естественно, водитель не мог подавать сигналов, и сирена вручалась пассажиру. А поскольку, несмотря на неимоверное количество светофоров, смоляне ходили как хотели, то наша сирена все время судорожно подвывала, и мальчишки всего города безошибочно определяли:
– Борькин папка на драндулете шпарит!
Сложно было, когда роль сигнальщика доставалась маме. Она была, мягко говоря, человеком взнервленным, легко выходила из равновесия, норовила держаться двумя руками, и вертеть сирену оказывалось некому. А люди то и дело возникали буквально под колесами, и тогда мама кричала во всю мощь своих слабеньких легких:
– Гражданочка! Мадам! Товарищ! Пожалуйста! Оглянитесь!..
Сиденье «Бенца», в отличие от аскетичного «Уайта», было пухлым от обилия нежнейших пружин, и на каждом ухабе пассажиры взлетали выше кузова. Отец при этом держался за руль, женщины – за свои юбки, а меня ловил тот, у кого была свободная рука.
«Руссобалт» – автомобиль, широко известный и сегодня. Он – непременный участник почти всех фильмов о Гражданской войне. Водительский салон его имел только одну дверцу – с левой стороны, а за бортом правой на подножке размещался рычаг переключения передач. Салон был просторен, и можно было сидеть, вытянув ноги. Мы ездили на нем только летом, потому что верх у него был брезентовым и пассажиры мерзли из-за вечного сквозняка.
Правда, отец куда чаще лежал под машинами, чем ездил на них. Это служило поводом для постоянных шуток, но отец охотно разделял шутки в свой адрес.
Он выпросил в штабе совершеннейший металлолом, который красноармейцы на руках перекатили в каретный сарай, ставший отцовским гаражом. И можно представить, сколько сил, терпения и времени затратил отец, чтобы вдохнуть жизнь в эти автотрупы. Но он никогда не бросал начатого дела, упорно веря, что все решается желанием да трудом. И ему всегда доставало труда и желания.
В нашем гараже не было ни окон, ни электричества: только настежь распахнутые двустворчатые ворота. Пол был цементным, слева от входа находился верстак, прямо – все три машины, а справа – ящик с песком и бочка с бензином. Автоколонок тогда не существовало, бензин отцу отпускали по наряду на весь месяц, и приходилось хранить его в гараже. И однажды мы чудом не взлетели на воздух.
Случилось это поздней осенью, и ворота были закрыты. На верстаке горел фонарь «летучая мышь», отец лежал под машиной на войлочной кошме и регулировал сцепление капризного «Бенца». Это была тонкая работа, а потому рядом на полу стояла керосиновая лампа. А я курсировал между верстаком и машиной, подавая отцу требуемые инструменты. И тут погас фонарь.
– Спички на верстаке, – сказал отец. – Сможешь сам зажечь?
– Смогу, – ответил я и наступил на керосиновую лампу.
Раздался хруст и звон, по кошме побежали огненные ручейки, а я почему-то заорал от восторга. И сквозь крик расслышал напряженный, но вполне спокойный отцовский голос:
– Открой ворота и беги. Открой ворота и беги.
Как позднее выяснилось, отец рванулся из-под машины, но зацепился гимнастеркой за рычаг. Пока я в дрожащем свете начинающегося пожара открывал тяжелые створки ворот, а отец, разодрав до горла гимнастерку, выкатился из-под машины, занялась бочка с бензином. Помню, что вспыхнула она вдруг, а я еще только распахивал ворота. Бочка была огромной, отец не мог повалить ее и раскачивал с канта на кант. Бензин выплескивался, на отце горели обрывки гимнастерки и – руки. Конечно, это еще не руки горели – горел бензин на руках – но я и сейчас вижу бегающие голубоватые язычки пламени на его ладонях. Наконец он повалил бочку на бок, крикнул, чтобы я спрятался в дальнем углу, и торопливо покатил бочку во двор. Там она и рванула, как хорошая бомба, но отец за секунду до взрыва умудрился упасть за угол дома, и во дворе никто не пострадал, хотя многие окна недосчитались стекол.
– Шляпа! – сказал отец, вернувшись в гараж и загасив остатки пожара.
Это было самое страшное его ругательство. Впрочем, и единственное: все определялось интонацией. Что и говорить, отец мой был мастак ругаться…
* * *
В начале лета мы уезжали из города, хотя тихий Смоленск мало отличался от деревни. Но срабатывала привычка: пока был жив дед, ездили в Высокое, потом снимали дом где-либо за городом. И в начале мая отец отправлялся искать подходящее место для лета. Три машины были в его личном и бесконтрольном владении. А мы поехали в Вонлярово на велосипеде. И помню разговор накануне.
– Я не могу, Эля, не имею права. Это машины штаба, и использовать их без особой надобности я не хочу. До Вонлярова мы и на велосипеде доберемся.
– Я не пущу с тобой Бориса!
– А ему-то не все равно, на чем ехать?
И я поехал на велосипеде. А сколько отцов не выдержало, не выдерживает и еще будет не выдерживать искуса и везет отпрыска на казенной машине в возрасте, когда запоминаются факты и забываются причины, когда еще только формируются «можно» и «нельзя», когда гордый взгляд из машины равнозначен праву на этот взгляд. И это особенно касается мальчишек, ибо если женщинами рождаются, то мужчинами становятся – так уж распорядилась сама Природа. И еще раз поклон тебе, отец, за то прекрасное путешествие на велосипеде из Смоленска в Вонлярово при трех машинах в личном пользовании!..
Мы ехали на велосипеде вопреки такой естественной, такой логичной возможности, как личная машина. Вопреки бессмертному, как сам обыватель, представлению о престижности, лишь поколебленному революцией и вновь поднимавшему голову. Вопреки маминой боязни за меня. Наконец, вопреки элементарному удобству: отцу пришлось вертеть педали полсотни верст, да еще я сидел на раме.
В Вонлярово можно было проехать большаком, можно – по Московскому шоссе, но отец избрал третий путь. Не из стремления к оригинальности – он вообще был лишен его начисто. А вот стремление к расширению моего кругозора у него было всегда.
Кто не видел тропинок, бегущих по обе стороны железнодорожного полотна в полосе отчуждения! Они резво взбегают на откосы, спускаются в низины, перескакивают через ручьи, петляют, иногда исчезая, но непременно появляясь вновь. И, доведя вас до города, растворяются в нем, чтобы потом, когда вы снова тронетесь в путь, весело бежать рядом. Я и сейчас люблю на них смотреть и, изъездив много стран и километров, знаю, что они – русские: за рубежами нет такого непременного атрибута железной дороги. Этакой крепенькой босоножки, что бежит рядом с городским могучим франтом, ловко попадая ему в такт смуглыми ножками…
И в Вонлярово мы поехали по такой тропинке. Она была утоптана до бетонной твердости, но сохранила теплоту и стремительность топтавших ее ног. Я сидел на раме меж отцовских рук и держался за руль, а отец неспешно вертел педалями, и мы катили. По ровному и под гору, а вот в гору шли пешком, и тогда начинались разговоры обо всем и ни о чем – именно так разговаривают с детьми во всем мире, а со взрослыми – только в России. Но дело не в разговорах – в конце концов, разговоры одинаковы для детства, – дело в дороге. В том третьем пути, который я прошел с отцом туда и обратно, измерив его не временем, проведенным в поезде, не по спидометру автомашины – измерив его собственными ногами, собственной скоростью и собственным временем; поняв, что под гору ты отдыхаешь, а в гору – задыхаешься; ощутив, сколько твоих личных шагов укладывается в общем километре, и оценив, что такое отдых у речки, глоток воды и кусок хлеба из отцовских рук. И мне сейчас кажется, что все те объяснения – что машина не его, что бензин не его, что… – были затеяны отцом с единственной целью: показать мне, что путь между двумя точками не всегда полезно соединять беспощадной прямой.
* * *
Техническая элита Смоленска именовала отцовский автопарк гробами. В подтверждение правильности этого определения приведу один из множества случаев.
Шуточку эту старина «Уайт» сыграл с нами солнечным январским днем, в те времена именовавшимся «общевыходным». Отцу поручили перевезти какие-то ящики из штаба округа в казармы на Покровской горе. Груза было много, почему и пришлось взять «Уайт», чтобы обойтись одной ездкой. И мама меня отпустила, и машина завелась быстро, и мы покатили к штабу. Там красноармейцы загрузили кузов ящиками, и справа от отца – я сидел слева – сел сопровождающий: весьма располневший коротышка-командир. И мы тронулись, пробираясь к Большой Советской по обледенелым горбатым улочкам. Выбрались вполне благополучно и спокойно покатили вниз, к Днепру. Помню, что двигатель ревел немилосердно, и теперь понимаю, что отец им тормозил наш спуск, поскольку хорошо знал о грузошинах, гладких, как хромовое голенище.
И тут я почувствовал, как начала разгоняться машина, увидел, как судорожно вцепился в баранку отец, а мы все быстрее и быстрее неслись вниз на громоздкой, тяжело груженной машине. Тормоза работали, но как только отец прикасался к ним, наш «англичанин» начинал вальсировать, и отец тотчас же давал ему полную свободу. На счастье, повторяю, был общевыходной, ломовики не работали, и по Большой Советской не тянулись бесконечные обозы.