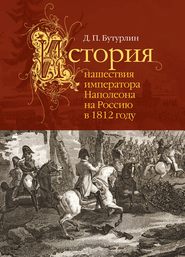По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
История Смутного времени в России в начале XVII века
Год написания книги
1841
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Хотя король, Сапега и Гонсевский не нарушили данного ими обещания не оглашать вверенной им тайны, но, как сие довольно обыкновенно бывает в делах такого рода, слабый и неопределительный отголосок русских жалоб раздался по Кракову и дошел даже до Бучинского, который писал Лжедимитрию, что худая молва разносится о нем в Польше, что гордые паны сильно негодуют на него за домогательства его о новом титуле и что один из них, а именно воевода Познанский, не обинуясь, говорил о смеходостойной надменности, с каковой он сам себя называл непобедимым, и также о том, что в самой Москве уже догадываются, что он за человек?
.
Казалось, что знатная сумма денег, привезенная Бучинским Мнишеку, не оставляла никакого предлога воеводе еще мешкать своим отъездом в Россию. Действительно, Марина выехала из Промника одиннадцатого января 1606 года, но, вместо того, чтобы направиться прямым путем, через Сандомир, Люблин и Брест к Слониму, где ее ожидал Власьев, она поехала с отцом своим в имение его Самбор
. Открылись обоюдные неудовольствия. Самозванец оскорблялся, что невеста его не отвечает на его письма и не оказывает ни малейшей готовности поспешать к нему
. Мнишек, со своей стороны, жаловался, что присланных денег недостаточно ему для уплаты долгов своих, и выговаривал расстриге, что держит у себя в наложницах царевну Ксению
. По последнему предмету Лжедимитрий тем охотнее согласился сделать ему должное удовлетворение, что он скучал уже Ксенией. Постриженная под именем Ольги, она была отправлена в монастырь, где печальная жизнь ее продолжалась еще шестнадцать лет. Без невольного содрогания нельзя помыслить об ужасных превратностях ее судьбы
. Одаренная от природы необычайной красотой и привлекательными свойствами ума и сердца, она цвела беззаботно под сенью родительской любви. Все предвещало ей блистательную будущность. Уже попечительный Борис располагался навсегда упрочить ее благоденствие приисканием для нее достойного жениха. Выбор его пал на юного герцога Иоанна, родного брата Христиана IV, короля Датского. Герцог, сановитый и радушный витязь, понравился царевне, которая весело ожидала брака. Но не на радость обречена была Ксения! Первым испытанием была для нее болезнь и кончина жениха. За сим ударом рока следовали еще лютейшие. Пережив гибель отца, матери и брата, прелестная дева вынуждена была позорно удовлетворять преступным желаниям убийцы милых сердцу ее ближних. Кто может исчислить душевные терзания ее в объятиях злодея! К довершению ее бедствий, смерть не спешила положить конец ее страданиям, и, осужденная влачить жизнь свою еще многие годы, она томилась воспоминаниями о постыдной и горестной участи своей. Неисповедимый гнев Божий страшно разражался над несчастным семейством злодейски властолюбивого Бориса.
Однако Мнишек все еще оставался в Самборе, или действительно занимаясь необходимыми приготовлениями для снаряжения огромной своей свиты, или устрашенный и до него доходившим отголоском московских толков. Власьев, более месяца бесполезно ожидавший его с невестой в Слониме, решился, наконец, сам ехать к нему в Самбор, дабы лично объяснить, что дальнейшее мешканье, раздражив самозванца, может быть вредно для собственных его выгод
. На сей раз его увещания не остались безуспешными. Марина выехала из Самбора двадцатого февраля в сопровождении отца, брата, Власьева, Бучинского и множества родных и знакомых своих.
Хотя весенняя распутица и трудность продовольствия для многочисленной свиты всех сих панов представляли большие препятствия в пути, однако огромный обоз подвигался довольно поспешно по направлению Люблина, Слонима, Минска и Орши. Дорогой Мнишек получил еще из России тридцать пять тысяч злотых (то же нынешних серебряных рублей), да, кроме того, самозванец прислал Марине пять тысяч червонцев. Вслед за невестой король Сигизмунд отправил также в Москву великих послов своих, Николая Олесницкого, кастеляна Малагосского, и бывшего уже в России Александра Гонсевского, старосту Велижского
.
Пока все сие происходило в Польше, безрассудность Лжедимитрия все более и более умножала негодование русских и подозрения их насчет его самозванства. С беспокойством замечали, что он, посещая другие церкви и обители, никогда не бывал в Чудове монастыре
, к коему мнимые предки его имели всегда особенное благоговение. Также шептали между собой, что Пафнутий, митрополит Крутицкий, бывший архимандритом в Чудове, когда монашествовал там Отрепьев, хорошо узнал под царским венцом юного инока своего, но молчал единственно от страха.
Лжедимитрий, извещенный о неблагоприятном для него народном говоре и соображая оный с полученными им предостережениями из Польши от Мнишека и Бучинского, признал необходимым отложить прежнюю доверчивость свою. Не смея уже полагаться на любовь подданных, он вздумал для удержания их в повиновении усилить власть свою особенной преданностью к себе военных людей. В сем намерении он стал отменно ласкать и награждать стрельцов, в Москве находящихся. Но и сего не почитал он достаточным для личной безопасности своей. Стрельцы были русские и потому, несмотря на все милости его, могли быть увлечены общим мнением своих соотечественников. Еще надежнее ему казалось окружить себя иноземными телохранителями
. В январе 1606 года он набрал триста немцев и разделил их на три сотни, из коих одна стрелковая была под начальством француза Маржерета; другие две состояли из алебардщиков и имели начальниками лифляндца Кнутсена и шотландца Вандемана. Все они получали большое жалованье, были богато одеты и сменялись через сутки, так что ежедневно половина из них находилась безотлучно при Лжедимитрии. Даже когда самозванец ездил по улицам, то и тут всегда являлся окруженным сими иноземными стражами, которые не допускали к нему и самих русских бояр, вынужденных следовать за ними
.
Расстрига, полагая, что совершенно обезопасил свою особу, почти ни о чем более не стал помышлять, как о веселье и забавах. Во дворце не преставали пляски, музыка и игра в зернь. Всякий день должен был казаться праздничным. В угождение ему не только вельможи, но даже и простолюдины вынуждены были не по состоянию своему тратиться на наряды. Никто в скромной одежде к нему доступа не имел; даже и на улицах он не любил встречать людей не в богатых нарядах. Самозванец думал, что наружная веселость означает благоденствие народное.
Легкомыслие его, по крайней мере, не всегда оказывалось злонравным
. Годунов, во все время своего могущества, не дозволял жениться князьям Федору Ивановичу Мстиславскому и Василию Ивановичу Шуйскому, дабы не умножать уважения, которым они пользовались в народе и которое и без того уже казалось ему несколько опасным. Князья сии, хотя и в преклонных летах, скучали своим одиночеством. Они просили самозванца не препятствовать им вступить в брак. Лжедимитрий тем охотнее согласился удовлетворить их желанию, что при сем открывался новый случай к любимым им пиршествам. Князь Мстиславский взял в супружество двоюродную сестру царицы Марфы, а князь Шуйский помолвил на княжне Буйносовой, также свойственнице Нагих.
Утопая в забавах, самозванец не менее того помышлял и о воинской славе. Успех борьбы его с Борисом, хотя единственно основанный на измене, так усилил врожденную в нем самонадеянность, что он действительно почитал себя непобедимым и хотел всему свету выказать свое богатырство. В то время турецкая империя была еще во всей полноте своего могущества, и сношения ее с Россией, хотя и не совсем приязненные, не подавали, однако, повода к явному разрыву. Несмотря на сие, Лжедимитрий, из одного самохвальства, готовился объявить войну оттоманской Порте, не жалея важных пожертвований, коим без нужды подвергал свое государство. Разосланы были повеления для сбора, по весне, значительного войска у Ельца, куда уже везли множество пушек
. Другая рать, плавная, назначалась для спуска по Дону. Вместе с тем Лжедимитрий искал содействия прочих держав, соседственных с турками. Порта уже вела войну с шахом Персидским за Грузию и с римским императором за Венгрию и Семиградскую землю; но император оказывал большую наклонность к примирению. Лжедимитрий назначил посольство к шаху, чтобы уговориться с ним об обоюдных действиях против общего неприятеля, а с другой стороны, он писал к папе, прося его ходатайства не только на удержание императора от преждевременного мира, но даже на побуждение его к заключению тесного наступательного союза с Польшей и Россией для подавления вечного врага христианства
. Но польский король уклонился от участия в сем предприятии под предлогом, что по врожденному отвращению нелегко полякам дружиться с немцами и что невероятно, чтобы все имперские чины согласились принять обязательство не только совокупными силами поддерживать императора, но даже ни в каком случае отдельно от Польши не мириться с Портой, без какового заверения Польша подверглась бы опасности быть оставленной на жертву туркам. Папский нунций Рангони, извещая самозванца о сем Сигизмундовом отзыве, писал к нему, что в сих обстоятельствах папа находит полезным ограничиться обращением русских и польских сил на истребление крымских татар, чем, так сказать, обрежутся крылья у Порты и, следственно, нанесется ей сильный удар, с соблюдением прямых выгод обеих участвующих в сем подвиге государств, которым не представлялось другого средства для обезопасения навсегда пределов своих от беспрестанных хищнических нападений гнусно беспокойных соседей сих. В сем же смысле Рангони объяснялся и с поляками на собранном в Кракове сейме. Должно признаться, что папское предложение было основано на благоразумных и дальновидных соображениях, но оно, кажется, не понравилось расстриге, который в затеваемом им предприятии искал не настоящих выгод России, но выказывания на обширном поприще своих ратных качеств.
Намерение его было начать поход взятием Азова. Дабы ознакомить главных русских военачальников с осадным искусством, он приказал обвести ледяной крепостью Вязюмский монастырь, лежащий в тридцати семи верстах от Москвы, и прибыл туда с немецкими телохранителями, двумя отрядами польской конницы и всеми боярами и знатными чиновниками русскими
. Самозванец сам повел немцев на приступ. С обеих сторон снежные комья должны были заменить оружие; но немцы, избалованные всегда оказываемой им Лжедимитрием потачкой, превратили потеху в кровавую драку. Они вместе со снегом стали бросать в русских каменьями и переранили многих бояр. При столь неравном бое нетрудно было одолеть защитников крепости. Расстрига первый ворвался в оную и воскликнул: «Дай Бог взять со временем таким же образом и Азов!» Подали всем пива, меду и вина, а между тем самозванец велел готовиться к продолжению ратной потехи, но ему донесли, что русские, ожесточенные вероломством немцем, запасаются для отмщения длинными ножами. Устрашенный царь приказал прекратить опасную игру и возвратиться в Москву.
Пренебрегая очевидными признаками народного к себе охлаждения, Лжедимитрий как будто умышленно изыскивал новые средства к возбуждению против себя всех сословий. Самое много в России тогда уважаемое духовенство не избегло его притеснений, сопряженных с явным и оскорбительным нарушением прав собственности. Арбатские и Чертольские священники были выгнаны из своих домов для помещения в оных немецких телохранителей, которых самозванец хотел иметь даже и вне службы поблизости Кремля. Но сим частным угнетением духовных лиц не ограничился Лжедимитрий. На приготовления к замышленному им походу требовались издержки, для коих уже недоставало беспутно истощенной им царской казны. Для пополнения оной сперва он занимал безвозвратно деньги в богатых монастырях и наконец решился захватить монастырские имения
. По приказанию его все обители были осмотрены, и составлены ведомости об их доходах и о ценности их вотчин, из коих за ними оставлены только необходимые для содержания монахов, все прочие отобраны в казну, а доходы с них обращены на жалованье собирающемуся войску.
Меры сии, совершенно противные духу времени, умножали раздражение умов против самозванца и придавали новый вес разносившейся о нем худой молве. Лжедимитрий, уже отложивший прежнее милосердие, тайно, но жестоко наказывал тех, кои называли его расстригой. Многих из них заключали в темницы; других же топили в ночное время
. Но беспрестанно являлись новые обличители, которые, с бесстрастием повторяя речи прежних, волновали народ, указывая в особенности на наклонность самозванцеву к пренебрежению церковных обрядов и прав духовенства. Даже среди самих стрельцов, весьма им ласкаемых, нашлись люди, которые порицали его в разорении православной веры. Один из их товарищей донес о том Басманову, а Басманов самому Лжедимитрию, который, призвав во дворец стрельцов всех приказов, поставил перед ними обвиняемых, числом семь человек, и жаловался на их дерзновение. Тогда стрелецкий голова Григорий Микулин, подученный самозванцем, воскликнул: «Освободи, государь, мне, я у тех твоих государевых изменников не только что головы поскусаю, а черева из них своими зубами повытаскаю»
. Сказав сие, Микулин мигнул стрельцам, которые в доказательство своей преданности бросились на несчастных и всех семерых изрубили на куски. За сей достойный палача подвиг Микулин был пожалован в думные дворяне.
В то же время подвергнулся опале простодушный слепец, царь Симеон. Сей татарин по роду был русский по сердцу и по духовному убеждению. Благодарность к самозванцу, воротившему его из ссылки, заглушалась в нем омерзением, внушаемым ему отступлениями Лжедимитрия от обрядов церковных и светских русского народа. Он в беседах своих увещевал посещавших его не предаваться папежским новизнам и крепко стоять за православие. Разгневанный самозванец сослал его в Кириллов монастырь, где он был пострижен под именем Стефана
.
Строгости сии не удерживали ревнителей о вере, которые, по примеру первых страдальцев за правду, смело проповедовали оную. Замечательнейшим из них явился дьяк Тимофей Осипов; сей муж, по добродетели своей всеми уважаемый, готовясь на отважное действие, говел и причастился Святых Таин, потом пошел во дворец и, допущенный до самозванца, всенародно воскликнул: «Ты воистину Гришка Отрепьев, расстрига, а не непобедимый цесарь, ни царев сын Димитрий, но греху раб и еретик»
. Лжедимитрий, пылая яростью, приказал немедленно умертвить Осипова.
Расположение умов было уже так неприязненно для самозванца, что не только смелые страстотерпцы, но даже самые уклонные царедворцы как бы напрашивались на гнев его. Вернейшим признаком близкого падения правителей бывает то, когда заслуженная от них опала возвышает людей в общем мнении и делается предметом желаний честолюбцев. Думный дворянин Михайло Игнатьевич Татищев всегда считался преданнейшим из слуг Лжедимитрия, но и он после умерщвления стрельцов совершенно переменил свое обхождение с ним и стал оказывать ему противность
. Вскоре представился Татищеву случай пререканием своим выставить самозванцеву безрассудность с весьма невыгодной стороны. За обеденным столом, коим в четверг шестой недели Великого поста расстрига угощал многих знатных особ, подали жареную телятину. Князь Василий Иванович Шуйский, который также сам старался давать возможную гласность неприличным поступкам Лжедимитрия, сказал ему, что есть мясо в пост противно церковному правилу и что, кроме того, русские во всякое время гнушаются телячьим мясом. Так как самозванец принялся возражать Шуйскому, то Татищев заступился за князя и говорил так дерзко, что выведенный из терпения Лжедимитрий приказал выгнать его и даже намеревался сослать на Вятку. Но Басманов, ежечасно старавшийся исправлять по возможности ошибки Лжедимитрия, представил ему, что наказание Татищева неминуемо будет принято русскими в виде нового опыта гонений на приверженцев к уставам православной церкви и к обычаям народной старины. На сей раз самозванец послушался его, и в день праздника Пасхи Татищев получил прощение.
Хотя происшествия сии тайно волновали столицу, но по наружности она пребывала спокойной, как и большая часть государства, кроме восточных областей оного, где открылись важные неустройства. Терские казаки, возбужденные примером товарищей своих, донцов, получивших много добычи во время восстания своего за Лжедимитрия, вздумали также искать счастья в грабительстве, в большом размере произведенном. Сначала думали они идти на Куру-реку громить турецких подданных, а если удачи тут не будет, то предложить услуги свои персидскому шаху Аббасу
. Но вскоре мысли их получили другое направление. Мутившие их зачинщики говорили: «Государь нас хотел пожаловати, да лихи бояре, переводят жалованье бояря, да не дадут жалованья»
. Следствием сих наущений было, что триста удалейших казаков под начальством атамана Федора Бодырина условились между собой дать себе собственного государя, именем коего они надеялись придать своим бесчинствам некоторый вид законности в глазах простоумной черни. Для исполнения сего новое самозванство казалось им вернейшим орудием, и потому они стали разглашать, что в 1592 году царица Ирина родила сына Петра, но что Годунов, коего властолюбивые замыслы расстраивались появлением законного наследника престола, подменил царевича девочкой Феодосией, вскоре после того скончавшейся. Мятежники несколько времени колебались в выборе лица, долженствующего представлять мнимого царевича. Два молодых казацких товарища, астраханец Дмитрий и муромец Илья, были признаны способными к сему делу. Но Дмитрий отстранил от себя опасную почесть, отзываясь, что, так как он не бывал никогда в Москве, то и не имеет никакого понятия ни о тамошних делах, ни о царских обычаях. Уважая сии причины, общим приговором положили Илье быть царевичем. Сей юноша, уже с младенчества вовлеченный в жизнь предприимчивую и странствующую, был незаконнорожденный сын муромского жителя Ивана Коровина. После смерти его отца и матери нижегородский купец Грозилников взял его к себе в Нижний в сидельцы. У Грозилникова он оставался три года, в течение которого времени был посылаем к Москву и жил там пять месяцев. После того он несколько лет находился в струговых батраках на Волге, Каме и Вятке, между Нижним, Астраханью и Хлыновым, в 1603 году ходил в казаках до Тарков при войске окольничего Бутурлина, посланного против шамхала Кумыцкого. В Тарках он нанялся в стрельцы на место заболевшего племянника одного стрелецкого пятидесятника. В следующем году, по возвращении в Терский город из сего похода, для россиян и их вождя столь же славного, сколь и пагубного, Илья вошел в услужение к Григорию Елагину, у которого и зимовал. Летом же он поехал в Астрахань и там опять вступил в казаки, отправился на Терек в отряде казачьего головы Афанасия Андреева. Все сии похождения ясно показывают, что Илье от роду не могло быть менее двадцати лет, а мнимому царевичу еще не минуло бы и четырнадцати, но сия летосчислительная несообразность не остановила Бодырина и казаков, которые отвезли царевича своего к казачьему атаману Гавриле Пану, живущему в городке на Быстрой, поблизости Терского города. Терский воевода Петр Головин, известившись о появлении сего нового самозванца, послал приглашать казаков, чтобы отослали его к нему в город, но казаки не выдали его и, напротив того, немедленно удалились, спустившись на стругах до моря, где остановились на острове, лежащем против устья Терека. Тут к первым тремстам мятежникам пристали и все прочие терские казаки, съехавшиеся на остров из юрт своих. Напрасно воевода Головин увещевал их не обнажать границы и оставить, по крайней мере, половину казаков на Тереке; они не послушались и все, числом до четырех тысяч, направились к Астрахани. Так как их не впустили в сей город, то они, миновав оный, поплыли вверх по Волге, упражняясь в разбойничестве. В особенности много претерпели от них купцы, торгующие через Астрахань с Персией, так что добычу их ценили в триста тысяч рублей (миллион нынешних серебряных). Лжедимитрий с беспокойством рассчитывал, что появление нового обманщика может поселить недоверие к прежнему, и посему почитал необходимым немедленно искоренить соперника. Но самозванец не посмел открыто действовать против самозванца. Расстрига прибегнул к лукавству: он послал Третьяка Юрлова звать царевича в столицу и объявить ему, что приказано взять нужные меры для обеспечения его продовольствия на пути. Юрлов застал его в Самаре. Безрассудные казаки поверили, что Отрепьев готов поделиться престолом с мнимым племянником своим, и спешили вверх по Волге к Москве.
В сие время столица находилась в ожидании приезда царской невесты. Восьмого апреля Марина вступила в пределы России и на мосту ручья, образующего границу, была встречена четырьмя русскими чиновниками
. Хотя многие из сопровождавших ее польских панов воротились с дороги, устрашенные весенним распутьем, однако в свите ее было еще более двух тысяч по большей части вооруженных людей, что представляло вид довольно значительного воинского отряда
. Не доезжая Смоленска, в деревне Лубне, Марина была приветствована давно ожидавшими ее в Смоленске боярином князем Василием Михайловичем Рубцом-Мосальским и царицыным свойственником Михайлом Александровичем Нагим. С сими сановниками Лжедимитрий прислал невесте своей пятьдесят четыре белые лошади с бархатными шорами и три кареты, обитые внутри соболями. Царица села в одну карету, запряженную двенадцатью лошадьми; другая карета с десятью лошадьми следовала за ней, а в третьей, с восьмью лошадьми, ехали сопровождавшие ее дамы. Остальных лошадей вели в поводьях. Марина продолжала путь свой через Смоленск, Дорогобуж и Вязьму не без труда, по причине половодья, хотя дороги и были исправлены по возможности. Польские послы переехали границу только 16 апреля и направились тем же путем; при них также находилась многочисленная вооруженная свита
.
На пути поляки много буянили и обижали русских жителей, так что воевода вынужден был назначить судей для обуздания строптивых
. Но сия мера не имела успеха, и к своевольству привыкшие люди мало слушали судей. Таким образом, весьма естественно, что между необузданными поляками и огорченными русскими жителями усилилось врожденное отвращение.
Девятнадцатого апреля невеста достигла Вязьмы. Тут воевода расстался с дочерью своей и поехал вперед с сыном, зятем и племянником, взяв с собой небольшое число служителей. Сим исполнял он желание Лжедимитрия, приглашавшего его ускорить прибытие в столицу, дабы уговориться о приготовлениях к свадьбе и о необходимых при оной обрядах.
Воевода прибыл в Москву двадцать четвертого числа. Сам он и сопутствующие ему три знатных поляка ехали верхом на высланных от царя великолепно убранных лошадях. Еще за две версты от города выехал к нему навстречу верхом боярин Басманов в богатом гусарском платье, который с окружающей его многочисленной толпой знатных людей и московских дворян проводил новоприезжих до изготовленного для них дома.
На другой день был торжественный прием воеводе у Лжедимитрия. Расстрига сидел на троне, в одежде, унизанной жемчугом, с алмазным и лаловым ожерельем, на коем висел изумрудный крест; в правой руке он держал скипетр, а голова его была украшена высокой короной, осыпанной драгоценными каменьями
. Трон из чистого серебра с позолотой, вышиной в три локтя, находился под балдахином, составленным из четырех щитов, крестообразно положенных, над коими возвышался круглый шар, поддерживающий двуглавого орла из чистого золота. Над креслами висела икона Богоматери, украшенная драгоценными каменьями. У подножия трона на углах лежали серебряные львы величиной с волка, на коих утверждались круглые столбы. От щитов над передними столбами висели с каждой стороны по кисти из жемчуга и драгоценных каменьев, в числе коих находился топаз величиной более грецкого ореха. На двух высоких серебряных ножках стояли грифы, касаясь столбов. Ведущие к трону три ступени были покрыты золотой парчой. С обеих сторон стояло по два рынды, с железными бердышами на золотых рукоятках, в бархатной белой одежде, подбитой и обложенной горностаями, в белых сапогах и с золотыми цепями на груди. По левую руку царя стоял князь Михаил Шуйский-Скопин с обнаженным мечом, в парчовой одежде, подбитой соболями, а за царем Власьева сын в богатом одеянии, имея в руках платок. Справа сидел в креслах патриарх в черной бархатной рясе, выложенной по краям в ладонь шириной жемчугом и драгоценными камнями. Перед ним служка держал на золотом блюде крест и серебряную чашу со святой водой. Ниже патриарха помещались на лавках семь архиепископов и епископов, а за сими бояре и дворяне, кои также сидели и на левой стороне трона. Персидские ковры покрывали пол и скамьи.
Мнишек, увидев презренного им пришельца во всем блеске царского величества, невольно смутился и только по некотором молчании поклонился Лжедимитрию и поцеловал ему руку. Потом говорил ему речь, где, превознося его достоинства и счастье своей дочери, не упустил, однако, делать намеки на прежнюю ничтожность, из коей он вывел его своим старанием и попечением. Расстрига заливался слезами. За него Мнишеку отвечал Власьев. После чего самозванец, подозвав воеводу, сам пригласил его к себе на обед, на который и родственники его с их свитой были званы Басмановым. Столовая, обитая персидской голубой тканью, с парчовыми занавесами у окон и дверей, была вся уставлена до самого потолка золотой или серебряной посудой, а из огромного серебряного сосуда вода кранами лилась в три таза. Царские кресла были покрыты черной тканью, вышитой золотыми узорами. Лжедимитрий сидел один за столом, серебряным с позолотой, накрытым скатертью, вышитой золотом. По левую сторону от него, за другим столом, посадили воеводу и его родственников. За третьим столом, накрытым напротив царского, поместили польских служителей, через человека с русскими чиновниками, назначенными их угощать. Но бояре русские сидели особо, по правую сторону самозванца. На сей раз пиршество происходило со всей строгостью старинных придворных обычаев, с одним только изменением, что четырем панам подали тарелки, коих не водилось давать никому. Так как сие происходило в пятницу, то кушанье все было рыбное. Хлеба на столах не находилось, но когда сели, то царь разослал каждому по большому куску калача. Обед продолжался несколько часов. Поляки удивлялись, что стольники исполняли должность свою без поклонов и даже не снимая шапок, а только слегка наклоняя голову. По окончании стола закусок не подавали, а только принесли небольшое блюдо со сливами, которые царь своеручно раздавал стольникам в награждение за их службу.
В следующий день паны после обеда были приглашены во дворец, где играли сорок музыкантов Яна Мнишека