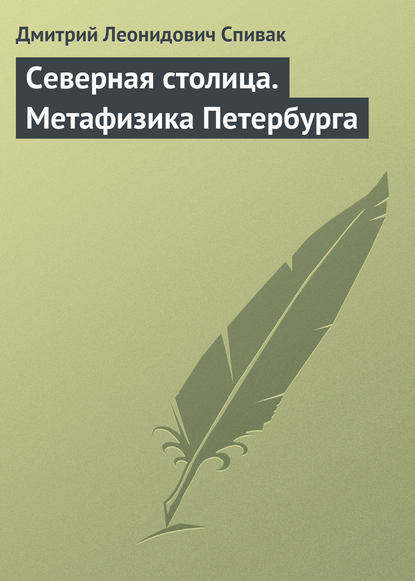По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Северная столица. Метафизика Петербурга
Год написания книги
1998
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Когда в 1899 году националистически настроенные финские студенты пошли в народ – собирать подписи под петицией к царю, а в перспективе подымать и на более решительные действия, они встретили редкостное безразличие. Крестьяне охотно слушали их, качали головами, а потом степенно сообщали, что если речь идет о недоимках, то они давно уплочены, а про все прочее они знать не знают. Погорячившись некоторое время, студенты чувствовали, что тут ничего не добьешься, садились в бричку и уезжали в полном расстройстве. Поселяне с хитрой улыбкой смотрели им вслед, качали головами, бормотали что-нибудь вроде «Веселые господа!», и возвращались к хозяйственным заботам. Лучшие представители национальной буржуазии выставляли агитаторов за дверь еще быстрее. Сама мысль получить независимость, потеряв ради этого бездонный российский рынок, должна была представляться им безумной.
Что касалось русского царя, то он чувствовал себя в Финляндии в безопасности, и при первой возможности отправлялся к ее берегам на яхте. По общему мнению членов семьи Николая II, тут прошли их счастливейшие дни. Фрейлине императрицы, Анне Вырубовой, запомнилось лицо Александры Федоровны, смотревшей на финские берега при возвращении морем из последней такой поездки тревожным летом 1914 года. «Государыня буквально заливалась слезами. Тогда она произнесла вещие слова, которые сохранятся в моей памяти так долго, как я проживу: „Я знаю, что наши чудесные дни на Финляндских островах отходят в прошлое и мы больше никогда не вернемся сюда все вместе на нашей яхте“. Чувство почти мистической связи с Финляндией сквозило и в других словах августейшей семьи (Вырубова 1994:184–186,202).
Картина, намеченная выше, похожа на идиллию. Жизнь была, разумеется, более прозаична. Но дело обстояло вполне благополучно еще долго, вплоть до лета 1917 года. Как подчеркивает современный финский историк М.Клинге (1993:248), специально изучавший происхождение русофобии в Финляндии, до революции и даже до начала 20-х годов ее практически не существовало. С этим ценным „наследием царизма“ скоро было покончено.
События начались по-фински спокойно. При первой возможности, в декабре 1917 года финляндцы провозгласили самостоятельность. Эта дата празднуется у них и по сию пору как День независимости. Еще до начала нового года представители нового правительства посетили Петроград и получили подтверждение своей декларации независимости в Совете Народных Комиссаров. Немедленно вслед за этим в Финляндии началась гражданская война. Обе стороны вели ее с невиданным до сих пор ожесточением, оставившим глубокий след в народной памяти. Историки даже создали для него особый термин – „финская травма 18-го года“.
Сторонники буржуазной республики сумели собрать силы и победить до наступления лета. 16 мая 1918 года они устроили торжественное прохождение своих войск по Хельсинки. Парад прошел с подъемом, но чувство тревоги осталось и нарастало. Большевики, побежденные у себя дома, постепенно брали под свой контроль огромную страну к востоку и югу от границ Финляндии. В 1920 году был образован ее, так сказать, антипод – Карельская трудовая коммуна, преобразованная через три года в Карельскую АССР.
Центром притяжения „красных финнов“ постепенно становился и Петроград. К концу двадцатых годов финская экономика вместе со всем миром капитала вошла в полосу глубокого кризиса. Началось снижение уровня жизни и безработица. Деятели финского рабочего движения стали поднимать головы и со все большей симпатией посматривать в сторону великого соседа, строившего общество „без кризисов и угнетения человека человеком“… Правящие круги Финляндии не могли исключить повторения гражданской войны, но на этот раз при более эффективной поддержке с востока. Они стали ощущать тяжелое дыхание страны советов.
Советские государственные и военные деятели тоже смотрели в сторону Финляндии с беспокойством. Сама по себе финская армия не представляла особой опасности. Однако она могла предоставить свои базы вооруженным силам более мощных стран. Возможность такого сценария была опробована еще в 1918 году, когда германский экспедиционный корпус фон дер Гольца высадился в Финляндии и действовал в сотрудничестве с белофинскими войсками. Чтобы не быть захваченным, Балтийскому флоту пришлось тогда совершить бросок из Гельсингфорса в Кронштадт, исключительно трудный из-за льдов, покрывавших тогда значительную часть Финского залива (это было в конце марта – начале апреля). В Петрограде хорошо помнили как этот эпизод, так и попытки финской интервенции на Карельском перешейке в 1919 году и в восточной Карелии зимой 1921–1922.
Таким образом в непосредственной близости от Петрограда, по середине Карельского перешейка прошла болезненная, саднящая граница, разделившая россиян и финляндцев, и уже чреватая ужасами зимней войны 1939–1940 годов… Таковы внешние контуры событий так, как они выглядели преимущественно с финской стороны.
Как восприняло революцию и последовавшие за нею события российское общество, читатель знает значительно лучше. Для нас же важнее всего то, что писателям и поэтам удалось поддержать непрерывность „петербургского текста“, протянув его сквозь угар начала мировой войны, распад ее конца, перешедший в одичание гражданской войны и запустение Петрограда первых послереволюционных лет. Все эти важные, но в конце концов внешние события повлияли на выбор образов и тон речи. Их общее направление определялось чисто литературным, и шире – культурным процессом ухода со сцены символизма, уступившего место акмеизму и ряду других течений, вплоть до футуризма, развившего в свой черед собственное видение Петербурга. Характер изменений удобнее всего проследить по текстам поэтов, акмэ которых пришлось на революционную эпоху. Таким был Осип Мандельштам.
Дореволюционые стихи Мандельштама собраны прежде всего в его первой книге – знаменитом „Камне“, преимущественно акмеистском, но продолжавшем и некоторые важные интуиции поздних символистов. Восприятие города задано здесь такими стихами, как написанные в 1913 году „Петербургские строфы“:
„Тяжка обуза северного сноба —
Онегина старинная тоска;
На площади Сената – вал сугроба,
Дымок костра и холодок штыка…“
(здесь и далее цитируем по изданию 1978 года в серии „Библиотека поэта“). Тут видно характерное для пост-символизма возрождение интереса к блестящему Петербургу – городу из вступления к „Медному всаднику“, равно как и пушкинского умения сказать о главном легким намеком. В этом холодном северном городе опасно, но увлекательно жить. В написанных в том же 1913 году и не включавшихся в авторские сборники „Летних стансах“ тема смерти более настойчива, но почти декоративна. Мольба „о справедливости людской“, с которой „чернеет на скамье гранитной / Самоубийца молодой“ кажется упомянутой едва ли не для игры звуков, так же как и мечты автора бежать прочь из города „на яхте, на чухонской шхуне“. Зачем и куда бежать? День, проведенный вне города, вычеркнут из жизни.
Совсем другая картина в сборнике „Tristia“, писавшемся 1916–1920 годах:
„В Петрополе прозрачном мы умрем,
Где властвует над нами Прозерпина.
Мы в каждом вздохе смертный воздух пьем,
И каждый час нам смертная година…“
Законченные неоклассические периоды падают один за одним в тишину застывающего города. По-прежнему он остается местом напряжения творческих сил – но их осеняет уже скипетр царицы загробного мира. „В огромной комнате, над черною Невой, / Двенадцать месяцев поют о смертном часе…“ Это еле слышное, но холодящее кровь пение слышится во многих домах города – и стихах сборника. Приходит время посвящения в ars moriendi – „искусство умирать“.