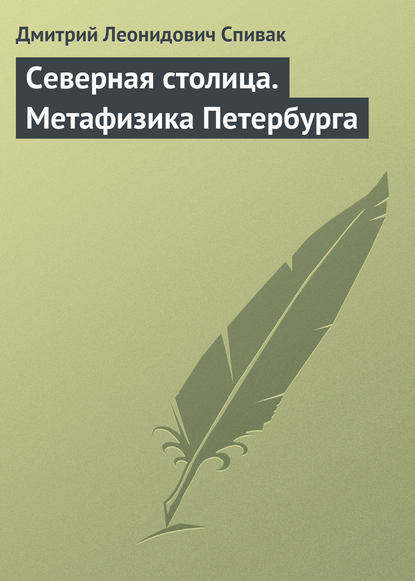По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Северная столица. Метафизика Петербурга
Год написания книги
1998
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Из неплодных топей блата.»
Таких схождений можно было бы набрать немало. Ничего удивительного в том нет, поскольку князь Одоевский был коротко знаком со всей современной ему российской словесностью, или если уж на то пошло, она сама вся в лицах перебывала в его салоне. Но этим дело не ограничивается.
Сюжет магического поединка Петра I с шведским королем или военачальником за обладание ингерманландскими землями издавна бытовал в преданиях русского Севера (Шарыпкин 1980:48–49). Для понимания же образа Сампо уместным будет обратиться к финской традиции. Среди рунопевцев времен Одоевского нередким было убеждение, что либо волшебная мельница Сампо хранится до времени в земле (или в болоте), либо она уже слилась с почвой. С таким толкованием встретился сам Элиас Лённрот и сочувственно процитировал его в одном из своих писем 1849 года. По его мнению, финское название Финляндии – «Suomi» (а следовательно, и болота как такового – «suo») содержит тот же корень, что и слово «Сампо» (Базанов 1981:274).
Интересно в повести и то, что болото не принимает града построенного, но принимает град кованый. Здесь видно взаимное тяготение, или, говоря старинным языком, симпатия таких несхожих начал как влажное болото и раскаленный металл. На нынешний взгляд тут есть противоречие, на старый – отнюдь нет. Дело в том, что обитатели наших мест в старину не знали высококачественного железа, а довольствовались так называемым самородным, которое по определенным приметам находили в болотах. Лишь зная это, можно оценить древность мифа о начале кузнечного дела, который мы находим в «Калевале». Божественный кузнец Ильмаринен рождается на куче угля, и чуть ли не с молотом в руке. Это было ночью, а днем:
«Днем уж кузницу он строит, / Место кузнице он ищет,
Где мехи свои поставить, / Увидал сырую землю,
Там болото все в холмочках; / Поглядеть туда идет он,
Рассмотреть вблизи болото; / Ставит там свое горнило
И мехи он размещает. / По следам идет он волчьим,
По следам медвежьей лапы, / Видит отпрыски железа,
Видит прутья синей стали / На следах глубоких волка,
На следах больших медведя»
(9:114–128), разводит огонь и начинает ковать. Надо признать, что в этом контексте ковка Петербурга на болоте выглядит отнюдь не так странно… Знакомство В.Одоевского с преданиями финской старины не подлежит сомнению. В предуведомлении автора, предпосланном тексту «Саламандры», прямо говорится о «Калевале» и финских суевериях, с уважением поминаются имена Элиаса Лённрота и его коллеги по Гельсингфорсскому университету Я.Грота, много способствовавшего распространению знаний о древнем эпосе среди нашей читающей публики. Упоминаются и главные информанты писателя – русские крестьяне, живущие в Карелии. Говоря о магической культуре финнов, Одоевский пишет: «Жизнь, близкая к природе, научила их знать свойства трав и кореньев; им известны даже таинства животного магнетизма; все это играет у них роль колдовства; послушайте рассказы о нем русских крестьян, поселившихся в Финляндии» (1981:141–142).
По тексту повести рассыпаны и другие небезынтересные намеки. Так, героиня повести, младая Эльса, с детства знакомая с финской магией, поселяется в Петербурге и приобретает некоторую известность. Во всяком случае, доктор из местных немцев, склонный к оккультизму, приглашает ее на сеанс, угощает настоем опия и сосредоточенно слушает. Эльса впадает в транс, уходит в себя, и наконец, начинает петь… руны «Калевалы».
Учитывая едва ли не ведущее место В.Одоевского в оккультных кругах Петербурга (его нередко именовали «русским Фаустом»), в возможности сеансов такого рода трудно сомневаться. Историки литературы добавляют к этому, что архив Одоевского сохранил также заметки о его странствиях по Финляндии, и даже записи 25 рун (Базанов 1981:283). Учитывая все это, положение о чисто литературном происхождении «Саламандры» нуждается в определенной корректировке.
Схожий вывод приходится сделать в отношении целого ряда литературных произведений петербургских писателей, пользовавшихся известностью, а то и гремевших в первой половине XIX века. Обратимся к творчеству таких крепких писателей второго разбора, как известные Булгарин и Греч. В наследии первого наше внимание останавливает историческая повесть «Падение Вендена»; недавно она была переиздана. Венден – город в Лифляндии, к северо-востоку от Риги, теперь это – Цесис близ реки Гауя. Повесть рассказывает об эпизоде борьбы России за выход к Балтийскому морю – но не при Петре I, а при Иване IV, во время Ливонской войны.
Русские войска теснят ливонских рыцарей. В тревоге предводитель последних решается прибегнуть к помощи сверхъестественных сил. Повесть начинается с эффектного эпизода ночного гадания в ливонском замке. В залу вводят первосвященника «древнего чудского бога Юмалы». Это – рыжий старец с пронзительными серыми глазами. На голове его рысья шапка, а на боку – сумка из волчьей шкуры мехом наружу с потребными для гадания принадлежностями.
Зовут старца Марко, родился он близ Колывани (теперешнего Таллина), и по крови скорее всего эстонец. В ту эпоху, впрочем, этническая ситуация в Прибалтике существенно отличалась от теперешней. К примеру, еще встречались ливы – прежде сильный народ финского корня, от которого получил название и сам Ливонский орден. Кем бы он ни был, но магические способности колдуна гремели по всем прибалтийским краям. Знали его и русские, уважительно величая «вещун Марко», а то и просто «человек из Чуди», не к ночи будь помянут. В дальнейшем течении рассказа он встретится с Иваном Грозным.
Образ Марко, конечно, вполне фиктивный. В анналах Ливонской войны он не упоминается. Однако гадание описано с некоторыми любопытными подробностями. «Он, не ожидая ответа, придвинул стул к столику, сел, вынул из своей сумы двенадцать деревянных жезлов, исчерченных знаками Зодиака и странными фигурами, выбрал один жезл и, повертывая его перед своими глазами, начал говорить» (1988:228–229). Начав гадать, старец достает из сумы еще одну связку жезлов, просит Магнуса выбрать из них один, проделывает новые манипуляции и, наконец, делает неутешительное для ливонских рыцарей предсказание о судьбе кампании.
Ход гадания описан довольно последовательно, без романтического беспорядка. У современного читателя оно ассоциируется прежде всего с китайским гаданием на палочках по книге «Ицзин». Между тем, есть параллель гораздо более близкая, и притом принадлежащая общему фонду знаний прибалтийско-финских народов. Чтобы ознакомиться с ней, вернемся к уже известному нам рассказу о похищении с неба луны и солнца.
В числе попыток героев добраться до украденных светил применяется и гадание. Вот как его описывает «Калевала»: «Сам он, старый Вяйнямёйнен, / Вековечный прорицатель, Из ольхи лучинки режет, / Ставит их сперва в порядке, А потом вертеть их начал, / Поворачивать перстами, Говорит слова такие, / И такие молвит речи: „У творца прошу я знака, / Жду настойчиво ответа“» (49:81–90).
Финский оригинал этого фрагмента построен довольно четко. Его опорные слова производят впечатление устоявшихся гадательных терминов. К ним относятся средства гадания («lasta» – лучинка), его основные техники («kaantaa» – передвигать, нельзя исключить и значения «интерпретировать»), манеру произнесения приличных случаю заклинаний («lausua» – говорить нараспев), итог гадания («lupa» – знамение, в современном языке – санкция), и прочее в том же духе. Наблюдениям этого рода место в отдельной работе. Мы только заметим здесь, что термины и техника такого гадания встречаются в фольклорных текстах, записанных поблизости от Петербурга, вплоть до недавнего времени (Калевала 1975:492).
Желанный знак был получен; гадание по жезлам дало и здесь неложный ответ. Знакомство Булгарина с этой традицией следует считать вполне вероятным. Правда, каноническое издание «Старой Калевалы» к моменту публикации «Осады Вендена» еще не вышло, но избранные руны уже были доступны читателю трудами Р. фон Беккера и З.Топелиуса. Работал над переложением одной из рун «Калевалы» и Ф.Глинка. Оно было опубликовано в журнале «Славянин» за тот же 1828 год. Что же до личных впечатлений, то у Булгарина было имение в Эстляндии. Могила писателя сохранилась до наших дней на старом дерптском кладбище. Недалеко можно видеть надгробие и Пауля Аристэ.
В творчестве Н.Греча наше внимание привлекает роман «Черная женщина», вышедший первым изданием в 1834 году. В свое время им у нас очень зачитывались. Считается, что Греч уловил интерес к сверхъестественному, обострившийся у массового читателя той эпохи. Одна из начальных сцен задает общий тон романа. Она происходит в окрестностях Петербурга, в Финляндской Швейцарии, в селе Токсово ранней осенью 1796 года.
Случай сводит у камина поздним вечером нескольких петербуржских дворян, таинственного чудака Алимари и местного пастора. Рассказываются страшные истории, преимущественно из жизни шведского двора, но также и из времен Анны Иоанновны (речь идет зловещей процессии с факелами, проследовавшей поздним ненастным вечером в последний год ее царствия из средних ворот Адмиралтейства в средние ворота Зимнего; часовые не видели ничего, но случайные прохожие видели и содрогались).
Пробудившись ото сна, собеседники завтракают и отправляются осматривать окрестности. Вид увядающей природы снова вызывает у них прилив мистического настроения. С ним как-то согласуется и грустный звук флейты, на которой играет Алимари. Он встал раньше других и отправился на склон горы над озерами. Услышав от токсовского пастора, что местность стала гористой после древней катастрофы – скорее всего землятрясения – он бледнеет и начинает собираться в путь. Торопятся и остальные. «Барометр падает, и мне не хотелось бы погрязнуть в финских болотах», – фыркает один из них (Греч 1838-1:102).
«Древний ужас», terror antiquus, поднимающийся со дна болот, накладывает свой двойственный отпечаток на дальнейшие поступки и размышления героев. Отголоски его прослеживаются и в предсмертном письме Алимари, написанном одному из его давних токсовских собеседников. Торопясь передать одну не дававшую ему покоя и, видимо, важную метафизическую идею, старец писал, что человеческая жизнь берет начало в Боге и неразрывно связана с ним, наподобие растения, вырастающего из черной влажной почвы, и берущего из нее все необходимое для жизни.
Эта «низкая» интуиция, помещающая божественное начало не в надзвездные сферы, но гораздо ближе, буквально под ноги, была достаточно распространенной во времена Греча, но отнюдь не преобладавшей. Учитывая то, что письмо завершает роман и как бы подводит под ним черту, можно полагать, что это чувство, навеянное прогулками по болотам, не было вполне чуждым и самому автору.
Ландшафты окрестностей Петербурга навевали религиозные переживания похожего свойства не только героям Греча. Возникали они и у маркиза А. де Кюстина, посетившего невские берега в 1839 году. «Хотя Бог довел землю в полярных областях до последней степени плоскости и обнаженности, несмотря на это убожество, зрелище творения будет всегда для человека самым красноречивым истолкователем замыслов Творца. Разве плешивые головы не имеют своей красоты? Что касается меня, я нахожу ландшафты петербургских окрестностей более чем красивыми, – на них лежит отпечаток возвышенной печали, который по глубине впечатления стоит богатства и разнообразия самых прославленных пейзажей на земле». Эти слова замечательно передают присущее маркизу сочетание галльской язвительности и католической сентиментальности. Записки его, произведшие большее впечатление скорее у нас, нежели за границей, вышли в свет в 1843 году. Кстати, опровержение на них писал Н.Греч.
Кюстин знать не знал о финской метафизике, вполне чужда она и героям Греча. Впрочем, в последнем случае утверждение имеет смысл несколько смягчить. Прежде всего, Токсово было крупным и едва ли не ближайшим к Петербургу центром финского населения. Первенствовало оно и в духовном отношении: место пастора местной кирхи считалось весьма ответственным. Так, в послужном списке Густава Левануса, возглавившего в 1733 году финско-шведскую лютеранскую общину Санкт-Петербурга, значились непосредственно до того служба настоятелем токсовской кирхи, а еще ранее – помощником пастора в Выборге. Последовательность мест службы говорит сама за себя (Михайлов 1993).
В шведских преданиях, рассказанных у камина героями Греча, тоже есть любопытные детали. Так, речь заходит об убийстве шведского короля Густава III на маскараде 1792 года. Оно произвело тогда очень тяжелое впечатление в европейских столицах. Задумчиво глядя на огонь, рассказчик упоминает о таинственном визите короля незадолго до карнавала к некой финской гадалке в Стокгольме и о полученном зловещем предостережении, немало его смутившем.
История с этим предсказанием в шведской мистике действительно известна, равно как и имя гадалки – «мамзель Арвидссон». В свое время у нее перебывала добрая половина стокгольмского двора. Однако в каноническом варианте финское происхождение гадалки шведскими авторами не упоминается, или по крайней мере, не подчеркивается, хотя «чухонская ворожба» издавна была у шведов притчей во языцах (Берг 1981:127).
Основываясь на таких наблюдениях, можно предположить, что выбор Токсово был не ключевым, но и не вполне случайным для замысла романиста. Намеченный таким образом «токсовский текст» внес свою лепту в состав всего «петербургского текста». Учет этого обстоятельства позволяет сделать полезные дополнения к пониманию творчества некоторых петербургских писателей. Последним в их ряду был, кажется, Константин Вагинов, посвятивший свое перо описанию литературного быта ленинградской интеллигенции 1920-х годов.
Особое место в творчестве Вагинова занял роман «Труды и дни Свистонова», вышедший из печати в 1929 году. Герою романа – писателю Свистонову – автор доверил некоторые существенные черты своего творческого метода, а в какой-то степени и любимые мысли. Уже во второй главе он отправил своего героя на токсовскую дачу, на лето, поработать и проветриться. Глава так и названа – «Токсово». В один из вечеров дачники отправляются на прогулку по окрестностям Токсово, поднимаются на холмы и спускаются к озерам. Свистонов идет под руку с глухой женщиной. Беседу вряд ли можно назвать оживленной, но вдруг он начинает формулировать нечто более чем важное для себя.
«Поймите, – продолжал Свистонов, он знал, что глухая ничего не поймет, – искусство – это совсем не празднество, совсем не труд. Это – борьба за население другого мира, чтобы и тот мир был плотно населен, чтобы было в нем разнообразие, чтобы была и там полнота жизни, литературу можно сравнить с загробным существованием». Он повторяет последние слова, охватывает взглядом холмистый пейзаж, и продолжает в крайнем волнении: «Вообразите, – продолжал он, вежливо склоняясь, – некую поэтическую тень, которая ведет живых людей в могилку. Род некоего Вергилия среди дачников, который незаметным образом ведет их в ад, а дачники, вообразите, ковыряют в носу и с букетами в руках гуськом за ним следуют, предполагая, что они отправляются на прогулку. Вообразите, что они видят за каким-нибудь холмом, какую-нибудь ложбинку, серенькую, страшно грустненькую…» (Вагинов 1991:184).
Суть эпизода ясна: вид печальных окрестностей переходит в «видение гробовое», а литература уступает место метафизике. Здесь у внимательного читателя может промелькнуть ассоциация с чем-то, читанным давным-давно у Н.Греча. Перевернув страницу, он читает еще об одной прогулке Свистонова: она оживляется нежным звуком флейты. На флейте играет старенький потрепанный музыкант, расположившийся со своим инструментом прямо над озером. Его появление удовлетворительно объяснено, но чувство уже читаного – deja lu – усиливается. Наконец, еще через несколько страниц дачники заглядывают в местную кирху и видят не кого иного, как токсовского пастора.
Тут наше предположение приобретает черты уверенности. По-видимому, автор романа хотел бы, чтобы мы читали главу «Токсово» в контрапункте с соответствующим фрагментом старого романа «Черная женщина»… Правда, было бы некоторой натяжкой говорить о хорошем знакомстве ленинградской интеллигенции конца двадцатых годов с романом Н.Греча. Для этого нужно было быть человеком начитанным и даже, пожалуй, литературно изощренным. Но Вагинов как раз и был таким человеком – любителем старых книг, душевным другом Бахтина и Кузмина, и по собственному выражению, «гробовщиком» петербургского мифа.
Заметим, что верить вполне в такое распределение амплуа именно при неверном свете вечеров конца лета и начала осени в пригородах Петербурга, тем более рвать проездной билет до Токсово было бы все же неосмотрительно. Достаточно открыть «Дачную местность» А.Г.Битова – одну из не самых известных, но мастерски написанных вещей нашего маститого прозаика, на пометке «11 октября» (1991:175). Читаем о выезде на дачу в Токсово, о вечерней прогулке между холмов, о костре, горящем где-то высоко. А далее, уже на следующей странице, следует приступ страха смерти, и размышлений о смысле жизни…
Суждено ли «токсовскому тексту» продолжиться – сказать пока трудно. Мы же не будем забегать вперед. Ведь в систематическом изложении нам довелось дойти пока только до пушкинского периода русской литературы. В 1830–1840 годах концепция Петербурга была существенно переосмыслена в рамках дискуссии славянофилов и западников. Первые вглядывались в Петербург из допетровского прошлого, вторые прозревали в нем черты будущего, видевшегося им в образах технократической утопии, своего рода «Новой Америки». По сути, обе стороны сходились на том, что Петербург есть город неорганичный, искусственный. На долю Достоевского выпало взять эту тему в настоящем времени, и с точки зрения «петербургского человека». Такова почва, которая дала начало его метафизике Петербурга.
Финская тема звучала в литературе того периода довольно приглушенно. С точки зрения славянофилов, она недостаточно слилась с русской темой допетровских времен.
«На дальнем севере, в гиперборейском крае,
Где солнце тусклое, показываясь в мае,
Скрывается опять до лета в сентябре —
Столица новая возникла при Петре.
Возникнув с помощью чухонского народа
Из топей и болот в каких-нибудь два года,
Она до наших дней с Россией не срослась…»
Спору нет, эти известные строки, которыми Н.Некрасов начал свою «Дружескую переписку Москвы с Петербургом», представляли собою скорее пародию на квасной патриотизм конца 1850-х годов. Но думается, что многие славянофилы согласились бы с заложенной в них едкой иронией по адресу Петра I и его сотрудников. Западники смотрели на финнов под другим углом. Для них этот народ был недостаточно приобщен к началам цивилизации и по сути мало отличался от тяжелой на подъем, закосневшей русской массы. В написанном В.Г.Белинским в 1844 году очерке «Петербург и Москва» дается колоритное описание облика мещанского и купеческого сословий в Москве. Что касается Петербурга, то «здесь они как будто не у себя дома, как будто в гостях, как будто колонисты или заезжие иностранцы. Петербургский немец более их туземец петербургский» (Белинский 1991:31). В этой цитате можно было бы с известной натяжкой заменить немца на, скажем, какого-нибудь мастеровитого петербургского шведа, но финн не подошел бы ни в коем случае.
В общих чертах такое видение было характерно и для Ф.Достоевского (с той естественной оговоркой, что его петербургские романы 1860–1870 годов писались в изменяющемся контексте, под влиянием сближения с идеологией почвенников и противостояния с нигилизмом). Вместе с тем, Достоевский был не только и не столько писателем социальным, сколько психологическим, и более того – метафизическим. «Он изучал человеческую личность не в ее „эмпирическом характере“, не в игре видимых причин и следствий, но именно в ее „умопостигаемых“, в ее хтонических глубинах, где смыкаются и размыкаются таинственные токи первобытия» (Флоровский 1991:296). Спускаясь в подполье души, и даже глубже того, писатель наталкивался на пласты, иной раз неожиданные и не до конца понятные ему самому, и свидетельствовал о них. К числу таких свидетельств относится и странная греза Аркадия Долгорукого.
«Мне сто раз, среди этого тумана, задавалась странная, но навязчивая греза: „А что как разлетится этот туман и уйдет кверху, не уйдет ли с ним вместе и весь этот гнилой, склизлый город, подымется с туманом и исчезнет как дым, и останется прежнее финское болото, а посреди его, пожалуй для красы, бронзовый всадник на жарко дышащем, загнанном коне?“» (Достоевский 1885:79). Фон для этих слов составляет раннее, холодное, заполненное «сырым, молочным туманом» петербургское утро, одновременно прозаическое и едва ли не самое фантастическое на земле, по словам самого героя. Что же касается его грезы, то грез на самом деле три, и о них рассказано подряд. Для лучшего понимания этой конструкции обратимся к началу восьмой главы вышедшего в 1875 году романа «Подросток», где она и представлена.
Первая греза принадлежала Германну из пушкинской «Пиковой дамы». «Колоссальное лицо, необычайный, совершенно петербургский тип, – тип из петербургского периода!» – пометил в скобках герой Достоевского. Это замечание существенно: оно определяет Петербург как заколдованное место, где такие грезы укрепляются, а в некотором смысле и сбываются. Как мы помним, Германн мечтал о «фантастическом богатстве». Фон его грез также памятен читателю («погода была ужасная: ветер выл, мокрый снег падал хлопьями; фонари светились тускло; улицы были пусты» – Пушкин 1986а:199).
Вслед за тем у Достоевского идет вторая, уже знакомая нам «греза о Медном всаднике». Она захватывает уже не только волю одного литературного героя, но целый город с его зданиями, проспектами и площадями. И наконец, следует третья интуиция, включающая в «пространство мозговой игры» уже всех обитателей города, вплоть до, может статься, и автора романа: «Вот все они кидаются и мечутся, а почем знать, может быть, все это чей-нибудь сон, и ни одного-то человека здесь нет настоящего, истинного, ни одного поступка действительного? Кто-нибудь вдруг проснется, кому это все грезится – и все вдруг исчезнет».
Построенная таким образом цепочка «вложенных» друг в друга мечтаний закрепляет в составе «петербургского текста» весьма давнюю в европейской литературной традиции и чисто метафизическую тему, которую можно условно обозначить как «сон сна». Для нас же существеннее всего, пожалуй, то, что автор не нашел для ее утверждения более зыбкого и призрачного постамента, чем древнее финское болото. Да, в этом странном рассказе Аркадия Долгорукого Достоевскому удалось выговорить нечто существенное для каждого петербуржца, снять с души города некое весьма сильное заклятье, а может быть, наложить его. Видение «исчезающего города» заняло свое место в ряду своего рода формул, подход к которым и способ использования в собственных текстах сразу позволили последующим поколениям наших литераторов определить свое понимание «души Петербурга».
Так, в романе Д.С.Мережковского «Петр и Алексей» нет еще Медного всадника, но есть уже город Петра I, набросанный вчерне, в торфе и глине, его железной волей. Приглядываясь к нему, один из героев как будто прозревает: «Вдруг все изменилось. Петербург видом своим, столь непохожим на Москву, поразил Тихона (…) все было плоско, пошло, буднично, и в то же время похоже на сон. Порою, в пасмурные утра, в дымке грязно-желтого тумана, чудилось ему, что весь этот город подымется вместе с туманом и разлетится, как сон. В Китеже-граде то, что есть – невидимо, а здесь, в Петербурге, наоборот, видимо то, чего нет; но оба города одинаково призрачны. И снова рождалось в нем жуткое чувство, которого он уже давно не испытывал – чувство конца».
Одна эта цитата дает достаточное представление о месте Мережковского в создании «петербургского текста». С одной стороны, этот писатель относился к традиции XIX века (от Пушкина до Достоевского) как к подлинному канону, за пределами которого в принципе может ничего и не быть. «Главные мысли» классиков очищены им от второстепенных деталей и усилены. Получился своего рода компендиум, из которого потом обильно черпали символисты – аргументы в пользу такого подхода к творчеству Мережковского представлены в содержательной статье З.Г.Минц, М.В.Безродного и А.А.Данилевского (1984).
С другой стороны, формула Достоевского существенно изменена. Вот как она резюмирована в «Подростке»: «Одним словом, не могу выразить моих впечатлений, потому что все это фантазия, наконец – поэзия, а стало быть, вздор…» (Достоевский 1885:79). Не так у Мережковского. Тут уже в полный голос звучит тема конца времен, апокалипсиса. Для символистов и был характерен переход к пониманию Петербурга как форпоста, поставленного на границе не только между культурой и дикостью, но и шире – между историей и хаосом (эта трактовка цитаты хорошо выражена у Н.П.Анциферова 1990:104).
К числу таких «формул», подхваченных Мережковским, относится и белая ночь. С недоумением и предчувствием беды вглядывается в нее царевич Алексей: «Царевич прочел надпись в солнечном кругу: Солнце позна запад свой, и бысть нощь. И слова эти отозвались в душе его пророчеством: древнее солнце Московского царства познало запад свой в темном чухонском болоте, в гнилой осенней слякоти – и бысть нощь – не черная, а белая страшная петербургская ночь».
Таких схождений можно было бы набрать немало. Ничего удивительного в том нет, поскольку князь Одоевский был коротко знаком со всей современной ему российской словесностью, или если уж на то пошло, она сама вся в лицах перебывала в его салоне. Но этим дело не ограничивается.
Сюжет магического поединка Петра I с шведским королем или военачальником за обладание ингерманландскими землями издавна бытовал в преданиях русского Севера (Шарыпкин 1980:48–49). Для понимания же образа Сампо уместным будет обратиться к финской традиции. Среди рунопевцев времен Одоевского нередким было убеждение, что либо волшебная мельница Сампо хранится до времени в земле (или в болоте), либо она уже слилась с почвой. С таким толкованием встретился сам Элиас Лённрот и сочувственно процитировал его в одном из своих писем 1849 года. По его мнению, финское название Финляндии – «Suomi» (а следовательно, и болота как такового – «suo») содержит тот же корень, что и слово «Сампо» (Базанов 1981:274).
Интересно в повести и то, что болото не принимает града построенного, но принимает град кованый. Здесь видно взаимное тяготение, или, говоря старинным языком, симпатия таких несхожих начал как влажное болото и раскаленный металл. На нынешний взгляд тут есть противоречие, на старый – отнюдь нет. Дело в том, что обитатели наших мест в старину не знали высококачественного железа, а довольствовались так называемым самородным, которое по определенным приметам находили в болотах. Лишь зная это, можно оценить древность мифа о начале кузнечного дела, который мы находим в «Калевале». Божественный кузнец Ильмаринен рождается на куче угля, и чуть ли не с молотом в руке. Это было ночью, а днем:
«Днем уж кузницу он строит, / Место кузнице он ищет,
Где мехи свои поставить, / Увидал сырую землю,
Там болото все в холмочках; / Поглядеть туда идет он,
Рассмотреть вблизи болото; / Ставит там свое горнило
И мехи он размещает. / По следам идет он волчьим,
По следам медвежьей лапы, / Видит отпрыски железа,
Видит прутья синей стали / На следах глубоких волка,
На следах больших медведя»
(9:114–128), разводит огонь и начинает ковать. Надо признать, что в этом контексте ковка Петербурга на болоте выглядит отнюдь не так странно… Знакомство В.Одоевского с преданиями финской старины не подлежит сомнению. В предуведомлении автора, предпосланном тексту «Саламандры», прямо говорится о «Калевале» и финских суевериях, с уважением поминаются имена Элиаса Лённрота и его коллеги по Гельсингфорсскому университету Я.Грота, много способствовавшего распространению знаний о древнем эпосе среди нашей читающей публики. Упоминаются и главные информанты писателя – русские крестьяне, живущие в Карелии. Говоря о магической культуре финнов, Одоевский пишет: «Жизнь, близкая к природе, научила их знать свойства трав и кореньев; им известны даже таинства животного магнетизма; все это играет у них роль колдовства; послушайте рассказы о нем русских крестьян, поселившихся в Финляндии» (1981:141–142).
По тексту повести рассыпаны и другие небезынтересные намеки. Так, героиня повести, младая Эльса, с детства знакомая с финской магией, поселяется в Петербурге и приобретает некоторую известность. Во всяком случае, доктор из местных немцев, склонный к оккультизму, приглашает ее на сеанс, угощает настоем опия и сосредоточенно слушает. Эльса впадает в транс, уходит в себя, и наконец, начинает петь… руны «Калевалы».
Учитывая едва ли не ведущее место В.Одоевского в оккультных кругах Петербурга (его нередко именовали «русским Фаустом»), в возможности сеансов такого рода трудно сомневаться. Историки литературы добавляют к этому, что архив Одоевского сохранил также заметки о его странствиях по Финляндии, и даже записи 25 рун (Базанов 1981:283). Учитывая все это, положение о чисто литературном происхождении «Саламандры» нуждается в определенной корректировке.
Схожий вывод приходится сделать в отношении целого ряда литературных произведений петербургских писателей, пользовавшихся известностью, а то и гремевших в первой половине XIX века. Обратимся к творчеству таких крепких писателей второго разбора, как известные Булгарин и Греч. В наследии первого наше внимание останавливает историческая повесть «Падение Вендена»; недавно она была переиздана. Венден – город в Лифляндии, к северо-востоку от Риги, теперь это – Цесис близ реки Гауя. Повесть рассказывает об эпизоде борьбы России за выход к Балтийскому морю – но не при Петре I, а при Иване IV, во время Ливонской войны.
Русские войска теснят ливонских рыцарей. В тревоге предводитель последних решается прибегнуть к помощи сверхъестественных сил. Повесть начинается с эффектного эпизода ночного гадания в ливонском замке. В залу вводят первосвященника «древнего чудского бога Юмалы». Это – рыжий старец с пронзительными серыми глазами. На голове его рысья шапка, а на боку – сумка из волчьей шкуры мехом наружу с потребными для гадания принадлежностями.
Зовут старца Марко, родился он близ Колывани (теперешнего Таллина), и по крови скорее всего эстонец. В ту эпоху, впрочем, этническая ситуация в Прибалтике существенно отличалась от теперешней. К примеру, еще встречались ливы – прежде сильный народ финского корня, от которого получил название и сам Ливонский орден. Кем бы он ни был, но магические способности колдуна гремели по всем прибалтийским краям. Знали его и русские, уважительно величая «вещун Марко», а то и просто «человек из Чуди», не к ночи будь помянут. В дальнейшем течении рассказа он встретится с Иваном Грозным.
Образ Марко, конечно, вполне фиктивный. В анналах Ливонской войны он не упоминается. Однако гадание описано с некоторыми любопытными подробностями. «Он, не ожидая ответа, придвинул стул к столику, сел, вынул из своей сумы двенадцать деревянных жезлов, исчерченных знаками Зодиака и странными фигурами, выбрал один жезл и, повертывая его перед своими глазами, начал говорить» (1988:228–229). Начав гадать, старец достает из сумы еще одну связку жезлов, просит Магнуса выбрать из них один, проделывает новые манипуляции и, наконец, делает неутешительное для ливонских рыцарей предсказание о судьбе кампании.
Ход гадания описан довольно последовательно, без романтического беспорядка. У современного читателя оно ассоциируется прежде всего с китайским гаданием на палочках по книге «Ицзин». Между тем, есть параллель гораздо более близкая, и притом принадлежащая общему фонду знаний прибалтийско-финских народов. Чтобы ознакомиться с ней, вернемся к уже известному нам рассказу о похищении с неба луны и солнца.
В числе попыток героев добраться до украденных светил применяется и гадание. Вот как его описывает «Калевала»: «Сам он, старый Вяйнямёйнен, / Вековечный прорицатель, Из ольхи лучинки режет, / Ставит их сперва в порядке, А потом вертеть их начал, / Поворачивать перстами, Говорит слова такие, / И такие молвит речи: „У творца прошу я знака, / Жду настойчиво ответа“» (49:81–90).
Финский оригинал этого фрагмента построен довольно четко. Его опорные слова производят впечатление устоявшихся гадательных терминов. К ним относятся средства гадания («lasta» – лучинка), его основные техники («kaantaa» – передвигать, нельзя исключить и значения «интерпретировать»), манеру произнесения приличных случаю заклинаний («lausua» – говорить нараспев), итог гадания («lupa» – знамение, в современном языке – санкция), и прочее в том же духе. Наблюдениям этого рода место в отдельной работе. Мы только заметим здесь, что термины и техника такого гадания встречаются в фольклорных текстах, записанных поблизости от Петербурга, вплоть до недавнего времени (Калевала 1975:492).
Желанный знак был получен; гадание по жезлам дало и здесь неложный ответ. Знакомство Булгарина с этой традицией следует считать вполне вероятным. Правда, каноническое издание «Старой Калевалы» к моменту публикации «Осады Вендена» еще не вышло, но избранные руны уже были доступны читателю трудами Р. фон Беккера и З.Топелиуса. Работал над переложением одной из рун «Калевалы» и Ф.Глинка. Оно было опубликовано в журнале «Славянин» за тот же 1828 год. Что же до личных впечатлений, то у Булгарина было имение в Эстляндии. Могила писателя сохранилась до наших дней на старом дерптском кладбище. Недалеко можно видеть надгробие и Пауля Аристэ.
В творчестве Н.Греча наше внимание привлекает роман «Черная женщина», вышедший первым изданием в 1834 году. В свое время им у нас очень зачитывались. Считается, что Греч уловил интерес к сверхъестественному, обострившийся у массового читателя той эпохи. Одна из начальных сцен задает общий тон романа. Она происходит в окрестностях Петербурга, в Финляндской Швейцарии, в селе Токсово ранней осенью 1796 года.
Случай сводит у камина поздним вечером нескольких петербуржских дворян, таинственного чудака Алимари и местного пастора. Рассказываются страшные истории, преимущественно из жизни шведского двора, но также и из времен Анны Иоанновны (речь идет зловещей процессии с факелами, проследовавшей поздним ненастным вечером в последний год ее царствия из средних ворот Адмиралтейства в средние ворота Зимнего; часовые не видели ничего, но случайные прохожие видели и содрогались).
Пробудившись ото сна, собеседники завтракают и отправляются осматривать окрестности. Вид увядающей природы снова вызывает у них прилив мистического настроения. С ним как-то согласуется и грустный звук флейты, на которой играет Алимари. Он встал раньше других и отправился на склон горы над озерами. Услышав от токсовского пастора, что местность стала гористой после древней катастрофы – скорее всего землятрясения – он бледнеет и начинает собираться в путь. Торопятся и остальные. «Барометр падает, и мне не хотелось бы погрязнуть в финских болотах», – фыркает один из них (Греч 1838-1:102).
«Древний ужас», terror antiquus, поднимающийся со дна болот, накладывает свой двойственный отпечаток на дальнейшие поступки и размышления героев. Отголоски его прослеживаются и в предсмертном письме Алимари, написанном одному из его давних токсовских собеседников. Торопясь передать одну не дававшую ему покоя и, видимо, важную метафизическую идею, старец писал, что человеческая жизнь берет начало в Боге и неразрывно связана с ним, наподобие растения, вырастающего из черной влажной почвы, и берущего из нее все необходимое для жизни.
Эта «низкая» интуиция, помещающая божественное начало не в надзвездные сферы, но гораздо ближе, буквально под ноги, была достаточно распространенной во времена Греча, но отнюдь не преобладавшей. Учитывая то, что письмо завершает роман и как бы подводит под ним черту, можно полагать, что это чувство, навеянное прогулками по болотам, не было вполне чуждым и самому автору.
Ландшафты окрестностей Петербурга навевали религиозные переживания похожего свойства не только героям Греча. Возникали они и у маркиза А. де Кюстина, посетившего невские берега в 1839 году. «Хотя Бог довел землю в полярных областях до последней степени плоскости и обнаженности, несмотря на это убожество, зрелище творения будет всегда для человека самым красноречивым истолкователем замыслов Творца. Разве плешивые головы не имеют своей красоты? Что касается меня, я нахожу ландшафты петербургских окрестностей более чем красивыми, – на них лежит отпечаток возвышенной печали, который по глубине впечатления стоит богатства и разнообразия самых прославленных пейзажей на земле». Эти слова замечательно передают присущее маркизу сочетание галльской язвительности и католической сентиментальности. Записки его, произведшие большее впечатление скорее у нас, нежели за границей, вышли в свет в 1843 году. Кстати, опровержение на них писал Н.Греч.
Кюстин знать не знал о финской метафизике, вполне чужда она и героям Греча. Впрочем, в последнем случае утверждение имеет смысл несколько смягчить. Прежде всего, Токсово было крупным и едва ли не ближайшим к Петербургу центром финского населения. Первенствовало оно и в духовном отношении: место пастора местной кирхи считалось весьма ответственным. Так, в послужном списке Густава Левануса, возглавившего в 1733 году финско-шведскую лютеранскую общину Санкт-Петербурга, значились непосредственно до того служба настоятелем токсовской кирхи, а еще ранее – помощником пастора в Выборге. Последовательность мест службы говорит сама за себя (Михайлов 1993).
В шведских преданиях, рассказанных у камина героями Греча, тоже есть любопытные детали. Так, речь заходит об убийстве шведского короля Густава III на маскараде 1792 года. Оно произвело тогда очень тяжелое впечатление в европейских столицах. Задумчиво глядя на огонь, рассказчик упоминает о таинственном визите короля незадолго до карнавала к некой финской гадалке в Стокгольме и о полученном зловещем предостережении, немало его смутившем.
История с этим предсказанием в шведской мистике действительно известна, равно как и имя гадалки – «мамзель Арвидссон». В свое время у нее перебывала добрая половина стокгольмского двора. Однако в каноническом варианте финское происхождение гадалки шведскими авторами не упоминается, или по крайней мере, не подчеркивается, хотя «чухонская ворожба» издавна была у шведов притчей во языцах (Берг 1981:127).
Основываясь на таких наблюдениях, можно предположить, что выбор Токсово был не ключевым, но и не вполне случайным для замысла романиста. Намеченный таким образом «токсовский текст» внес свою лепту в состав всего «петербургского текста». Учет этого обстоятельства позволяет сделать полезные дополнения к пониманию творчества некоторых петербургских писателей. Последним в их ряду был, кажется, Константин Вагинов, посвятивший свое перо описанию литературного быта ленинградской интеллигенции 1920-х годов.
Особое место в творчестве Вагинова занял роман «Труды и дни Свистонова», вышедший из печати в 1929 году. Герою романа – писателю Свистонову – автор доверил некоторые существенные черты своего творческого метода, а в какой-то степени и любимые мысли. Уже во второй главе он отправил своего героя на токсовскую дачу, на лето, поработать и проветриться. Глава так и названа – «Токсово». В один из вечеров дачники отправляются на прогулку по окрестностям Токсово, поднимаются на холмы и спускаются к озерам. Свистонов идет под руку с глухой женщиной. Беседу вряд ли можно назвать оживленной, но вдруг он начинает формулировать нечто более чем важное для себя.
«Поймите, – продолжал Свистонов, он знал, что глухая ничего не поймет, – искусство – это совсем не празднество, совсем не труд. Это – борьба за население другого мира, чтобы и тот мир был плотно населен, чтобы было в нем разнообразие, чтобы была и там полнота жизни, литературу можно сравнить с загробным существованием». Он повторяет последние слова, охватывает взглядом холмистый пейзаж, и продолжает в крайнем волнении: «Вообразите, – продолжал он, вежливо склоняясь, – некую поэтическую тень, которая ведет живых людей в могилку. Род некоего Вергилия среди дачников, который незаметным образом ведет их в ад, а дачники, вообразите, ковыряют в носу и с букетами в руках гуськом за ним следуют, предполагая, что они отправляются на прогулку. Вообразите, что они видят за каким-нибудь холмом, какую-нибудь ложбинку, серенькую, страшно грустненькую…» (Вагинов 1991:184).
Суть эпизода ясна: вид печальных окрестностей переходит в «видение гробовое», а литература уступает место метафизике. Здесь у внимательного читателя может промелькнуть ассоциация с чем-то, читанным давным-давно у Н.Греча. Перевернув страницу, он читает еще об одной прогулке Свистонова: она оживляется нежным звуком флейты. На флейте играет старенький потрепанный музыкант, расположившийся со своим инструментом прямо над озером. Его появление удовлетворительно объяснено, но чувство уже читаного – deja lu – усиливается. Наконец, еще через несколько страниц дачники заглядывают в местную кирху и видят не кого иного, как токсовского пастора.
Тут наше предположение приобретает черты уверенности. По-видимому, автор романа хотел бы, чтобы мы читали главу «Токсово» в контрапункте с соответствующим фрагментом старого романа «Черная женщина»… Правда, было бы некоторой натяжкой говорить о хорошем знакомстве ленинградской интеллигенции конца двадцатых годов с романом Н.Греча. Для этого нужно было быть человеком начитанным и даже, пожалуй, литературно изощренным. Но Вагинов как раз и был таким человеком – любителем старых книг, душевным другом Бахтина и Кузмина, и по собственному выражению, «гробовщиком» петербургского мифа.
Заметим, что верить вполне в такое распределение амплуа именно при неверном свете вечеров конца лета и начала осени в пригородах Петербурга, тем более рвать проездной билет до Токсово было бы все же неосмотрительно. Достаточно открыть «Дачную местность» А.Г.Битова – одну из не самых известных, но мастерски написанных вещей нашего маститого прозаика, на пометке «11 октября» (1991:175). Читаем о выезде на дачу в Токсово, о вечерней прогулке между холмов, о костре, горящем где-то высоко. А далее, уже на следующей странице, следует приступ страха смерти, и размышлений о смысле жизни…
Суждено ли «токсовскому тексту» продолжиться – сказать пока трудно. Мы же не будем забегать вперед. Ведь в систематическом изложении нам довелось дойти пока только до пушкинского периода русской литературы. В 1830–1840 годах концепция Петербурга была существенно переосмыслена в рамках дискуссии славянофилов и западников. Первые вглядывались в Петербург из допетровского прошлого, вторые прозревали в нем черты будущего, видевшегося им в образах технократической утопии, своего рода «Новой Америки». По сути, обе стороны сходились на том, что Петербург есть город неорганичный, искусственный. На долю Достоевского выпало взять эту тему в настоящем времени, и с точки зрения «петербургского человека». Такова почва, которая дала начало его метафизике Петербурга.
Финская тема звучала в литературе того периода довольно приглушенно. С точки зрения славянофилов, она недостаточно слилась с русской темой допетровских времен.
«На дальнем севере, в гиперборейском крае,
Где солнце тусклое, показываясь в мае,
Скрывается опять до лета в сентябре —
Столица новая возникла при Петре.
Возникнув с помощью чухонского народа
Из топей и болот в каких-нибудь два года,
Она до наших дней с Россией не срослась…»
Спору нет, эти известные строки, которыми Н.Некрасов начал свою «Дружескую переписку Москвы с Петербургом», представляли собою скорее пародию на квасной патриотизм конца 1850-х годов. Но думается, что многие славянофилы согласились бы с заложенной в них едкой иронией по адресу Петра I и его сотрудников. Западники смотрели на финнов под другим углом. Для них этот народ был недостаточно приобщен к началам цивилизации и по сути мало отличался от тяжелой на подъем, закосневшей русской массы. В написанном В.Г.Белинским в 1844 году очерке «Петербург и Москва» дается колоритное описание облика мещанского и купеческого сословий в Москве. Что касается Петербурга, то «здесь они как будто не у себя дома, как будто в гостях, как будто колонисты или заезжие иностранцы. Петербургский немец более их туземец петербургский» (Белинский 1991:31). В этой цитате можно было бы с известной натяжкой заменить немца на, скажем, какого-нибудь мастеровитого петербургского шведа, но финн не подошел бы ни в коем случае.
В общих чертах такое видение было характерно и для Ф.Достоевского (с той естественной оговоркой, что его петербургские романы 1860–1870 годов писались в изменяющемся контексте, под влиянием сближения с идеологией почвенников и противостояния с нигилизмом). Вместе с тем, Достоевский был не только и не столько писателем социальным, сколько психологическим, и более того – метафизическим. «Он изучал человеческую личность не в ее „эмпирическом характере“, не в игре видимых причин и следствий, но именно в ее „умопостигаемых“, в ее хтонических глубинах, где смыкаются и размыкаются таинственные токи первобытия» (Флоровский 1991:296). Спускаясь в подполье души, и даже глубже того, писатель наталкивался на пласты, иной раз неожиданные и не до конца понятные ему самому, и свидетельствовал о них. К числу таких свидетельств относится и странная греза Аркадия Долгорукого.
«Мне сто раз, среди этого тумана, задавалась странная, но навязчивая греза: „А что как разлетится этот туман и уйдет кверху, не уйдет ли с ним вместе и весь этот гнилой, склизлый город, подымется с туманом и исчезнет как дым, и останется прежнее финское болото, а посреди его, пожалуй для красы, бронзовый всадник на жарко дышащем, загнанном коне?“» (Достоевский 1885:79). Фон для этих слов составляет раннее, холодное, заполненное «сырым, молочным туманом» петербургское утро, одновременно прозаическое и едва ли не самое фантастическое на земле, по словам самого героя. Что же касается его грезы, то грез на самом деле три, и о них рассказано подряд. Для лучшего понимания этой конструкции обратимся к началу восьмой главы вышедшего в 1875 году романа «Подросток», где она и представлена.
Первая греза принадлежала Германну из пушкинской «Пиковой дамы». «Колоссальное лицо, необычайный, совершенно петербургский тип, – тип из петербургского периода!» – пометил в скобках герой Достоевского. Это замечание существенно: оно определяет Петербург как заколдованное место, где такие грезы укрепляются, а в некотором смысле и сбываются. Как мы помним, Германн мечтал о «фантастическом богатстве». Фон его грез также памятен читателю («погода была ужасная: ветер выл, мокрый снег падал хлопьями; фонари светились тускло; улицы были пусты» – Пушкин 1986а:199).
Вслед за тем у Достоевского идет вторая, уже знакомая нам «греза о Медном всаднике». Она захватывает уже не только волю одного литературного героя, но целый город с его зданиями, проспектами и площадями. И наконец, следует третья интуиция, включающая в «пространство мозговой игры» уже всех обитателей города, вплоть до, может статься, и автора романа: «Вот все они кидаются и мечутся, а почем знать, может быть, все это чей-нибудь сон, и ни одного-то человека здесь нет настоящего, истинного, ни одного поступка действительного? Кто-нибудь вдруг проснется, кому это все грезится – и все вдруг исчезнет».
Построенная таким образом цепочка «вложенных» друг в друга мечтаний закрепляет в составе «петербургского текста» весьма давнюю в европейской литературной традиции и чисто метафизическую тему, которую можно условно обозначить как «сон сна». Для нас же существеннее всего, пожалуй, то, что автор не нашел для ее утверждения более зыбкого и призрачного постамента, чем древнее финское болото. Да, в этом странном рассказе Аркадия Долгорукого Достоевскому удалось выговорить нечто существенное для каждого петербуржца, снять с души города некое весьма сильное заклятье, а может быть, наложить его. Видение «исчезающего города» заняло свое место в ряду своего рода формул, подход к которым и способ использования в собственных текстах сразу позволили последующим поколениям наших литераторов определить свое понимание «души Петербурга».
Так, в романе Д.С.Мережковского «Петр и Алексей» нет еще Медного всадника, но есть уже город Петра I, набросанный вчерне, в торфе и глине, его железной волей. Приглядываясь к нему, один из героев как будто прозревает: «Вдруг все изменилось. Петербург видом своим, столь непохожим на Москву, поразил Тихона (…) все было плоско, пошло, буднично, и в то же время похоже на сон. Порою, в пасмурные утра, в дымке грязно-желтого тумана, чудилось ему, что весь этот город подымется вместе с туманом и разлетится, как сон. В Китеже-граде то, что есть – невидимо, а здесь, в Петербурге, наоборот, видимо то, чего нет; но оба города одинаково призрачны. И снова рождалось в нем жуткое чувство, которого он уже давно не испытывал – чувство конца».
Одна эта цитата дает достаточное представление о месте Мережковского в создании «петербургского текста». С одной стороны, этот писатель относился к традиции XIX века (от Пушкина до Достоевского) как к подлинному канону, за пределами которого в принципе может ничего и не быть. «Главные мысли» классиков очищены им от второстепенных деталей и усилены. Получился своего рода компендиум, из которого потом обильно черпали символисты – аргументы в пользу такого подхода к творчеству Мережковского представлены в содержательной статье З.Г.Минц, М.В.Безродного и А.А.Данилевского (1984).
С другой стороны, формула Достоевского существенно изменена. Вот как она резюмирована в «Подростке»: «Одним словом, не могу выразить моих впечатлений, потому что все это фантазия, наконец – поэзия, а стало быть, вздор…» (Достоевский 1885:79). Не так у Мережковского. Тут уже в полный голос звучит тема конца времен, апокалипсиса. Для символистов и был характерен переход к пониманию Петербурга как форпоста, поставленного на границе не только между культурой и дикостью, но и шире – между историей и хаосом (эта трактовка цитаты хорошо выражена у Н.П.Анциферова 1990:104).
К числу таких «формул», подхваченных Мережковским, относится и белая ночь. С недоумением и предчувствием беды вглядывается в нее царевич Алексей: «Царевич прочел надпись в солнечном кругу: Солнце позна запад свой, и бысть нощь. И слова эти отозвались в душе его пророчеством: древнее солнце Московского царства познало запад свой в темном чухонском болоте, в гнилой осенней слякоти – и бысть нощь – не черная, а белая страшная петербургская ночь».